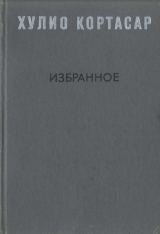
Текст книги "Избранное"
Автор книги: Хулио Кортасар
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 34 страниц)
– Потрясающе, – сказал Пушок.
– От имени капитана сообщаю, что известные вам меры предосторожности после полудня будут отменены.
Никто не произнес ни слова, однако жест Рауля был слишком красноречив, чтобы глицид его не заметил.
– Капитан сожалеет о том, что недоразумение послужило причиной прискорбного случая, но, как вы должны понять, «Маджента стар» снимает с себя всякую ответственность за это, поскольку всем было известно, что речь идет о крайне заразном заболевании.
– Убийцы! – отчетливо произнес Лопес. – Да, именно то, что вы слышали: убийцы.
Глицид провел рукой по волосам.
– Данные обстоятельства, излишние эмоции и нервозность могут объяснить эти абсурдные обвинения, – сказал он, пожимая плечами, словно считал вопрос исчерпанным. – Но прежде чем уйти, я хочу предупредить вас, что вам, вероятно, стоит уложить чемоданы.
Среди поднявшегося крика и визгливых вопросов дам глицид казался еще более постаревшим и усталым. Он сказал несколько слов метрдотелю и вышел, нервно проведя по волосам рукой.
Паула посмотрела на Рауля, который сосредоточенно раскуривал трубку.
– Какая глупость, че, – сказала она. – А я сдала квартиру на два месяца.
– Может, тебе удастся спять квартиру Медрано, – сказал Рауль, – если, конечно, ты опередишь Лусио и Нору, которые, по-видимому, жаждут обзавестись собственным гнездышком.
– Ты совсем не уважаешь смерть.
– Она тоже не станет меня уважать.
– Пошли, – резко сказал Лопес Пауле. – Пойдем загорать, я чертовски устал от всего этого.
– Пойдем, Ямайка Джон, – сказала Паула, поглядывая на него украдкой. Ей нравилось, когда он сердился. «Нет дорогой, не одержать тебе верха, – подумала она. – Вот увидишь, гордый самец, как непокорны мои губы. Лучше попытайся понять меня, а не подчинить…» И прежде всего понять, что старая связь не порвана, что Рауль навсегда останется для нее Раулем. Никому не дано купить ее свободу, никому не дано подчинить ее, пока она сама того не пожелает.
Персио пил вторую чашку кофе и думал о возвращении домой. Улицы Чакарнты встали у него перед глазами. Надо бы спросить у Клаудии, стоит ли являться на службу по приезде в Буэнос-Айрес. «Юридические тонкости, – думал Персио. – А что, если заведующий увидит меня на улице, ведь я сказал ему, что отправляюсь в морское путешествие…»
I
Если заведующий увидит его на улице, хотя он сказал, что отправился в морское путешествие? Ну и черт с ним! Черт с ним! Так повторяет Персио, разглядывая кофейную гущу в своей чашке, отрешенный и отсутствующий, покачиваясь, точно маленькая пробка, втиснутая в другую огромную пробку, воткнутую в пустынные просторы южных морей. Всю ночь ему не удавалось бодрствовать, его сбивали с толку запах пороха, беготня, напрасное гадание на ладонях, посыпанных тальком, рули автомобилей и ручки чемоданов. Он видел, что смерть передумала, не дойдя нескольких шагов до постели Хорхе, но знал, что это всего лишь метафора. Он знал, что друзья мужчины разорвали кольцо осады и проникли на корму, но не наш. m там отверстия, через которое можно было снова начать диалог с ночью, присоединиться к призрачному открытию этих людей. Единственный, кто хоть что-то узнал про корму, никогда больше не заговорит. Поднялся ли он по лестнице посвящения? Увидел ли клетки с дикими зверями, обезьян, свисающих с канатов, услышал ли голоса предков, нашел ли причину и удовлетворение? О ужас прародителей, о ночь расы, бездонный клокочущий колодец, какое мрачное сокровище оберегали нордические драконы, какая изнанка поджидала его, чтобы показать мертвецу свое подлинное лицо? Все остальное ложь, и те, кто вернулся, и те, кто вовсе не ходил, одинаково знают это, одни – потому что не видели или не хотели видеть, другие по наивности или из-за приятной подлости времени и привычек. Лжива правда первооткрывателей, лжива ложь трусливых и благоразумных, лживы всякие объяснения, лживы опровержения. Правдива и бесполезна лишь яростная слава Атилио, ангела с грубыми веснушчатыми руками, который не понимает, что случилось, по который восстает, отмеченный навеки, ясный в свой великий час, и он будет таким, пока неизбежный заговор на Исла Масьель не верно: его к самодовольному невежеству. И все же там находились Матери, чтобы как-то назвать их, чтобы поверить в их пустое воображение, они возвышаются посреди пампы, над землей, которая искажает лица живущих на ней людей, осанку их спин и их шеи, цвет их глаз, голос, жадно требующий жаркого из мяса и модного танго, там находились и предки, скрытые ноги истории, которая, обезумев, бежит по общепринятым версиям, по «двадцать-пятого-мая-было-холодное-дождливое-утро», по Линье [133]133
Линье, Сантьяго Антонио (1730–1810) – вице-губернатор провинций Ла-Платы, отражавший нападение англичан.
[Закрыть] таинственным образом превратившемуся из героя на странице тридцатой в предателя на странице тридцать четвертой, глубоко уходящие ноги истории, ожидающей прихода первого аргентинца, жаждущей отдачи, метаморфозы, извлечения на свет. Но еще Персио знает, что грязный ритуал исполнен, что зловещие предки встали, между Матерями и их далекими детьми и что их ужас уничтожил образ бога-творца и заменил его бойкой торговлей призраками, грозной блокадой города, ненасытным требованием подношений и умиротворений. Клетки с обезьянами, дикими зверями, глицид в форме, патриотические празднества или просто вымытая палуба и серый рассвет – годится все, чтобы скрыть то, чего с дрожью ожидали от стоящих по другую сторону. Мертвые или живые, с мутными глазами, возвратились они снизу, и снова Персио видит, как вырисовывается образ гитариста на картине, который был написан с Аполлинера, снова, еще раз, видит, что у музыканта нет лица, что вместо него лишь пустой черный прямоугольник, музыка без хозяина, слепой беспричинный случай, корабль, плывущий по течению, роман, который заканчивается.
ЭПИЛОГ
XLIV
В половине двенадцатого стало слишком жарко, и Лусио, которому надоело загорать и втолковывать Норе то, что она никак не хотела уразуметь, решил подняться к себе в каюту и принять душ. Ему осточертело говорить, лежа под палящим солнцем, проклинать тех, кто испортил путешествие, и спрашивать себя, а что теперь будет и почему велели укладывать чемоданы. Ответ на эти вопросы настиг его, когда он поднимался по трапу правого борта: едва различимое жужжание и пятнышко на ясном небе, потом второе. Два гидросамолета типа «Каталина» сделали над «Малькольмом» круг и опустились на воду в каких-нибудь ста метрах от него. Лежа в одиночестве на носовой палубе, Фелипе безучастно смотрел на них, погруженный в дремоту, которую зловредная Беба объясняла употреблением алкоголя.
Трижды прозвучала сирена «Малькольма», и с борта одного из самолетов засверкали сигналы гелиографа. Развалясь в шезлонгах, Лопес и Паула смотрели, как от парохода отвалила шлюпка, в которой сидел толстый глицид. Время тянулось нестерпимо долго, пока шлюпка наконец добралась до одного из самолетов и они увидели, как глицид, поднявшись по крылу, исчез внутри.
– Помоги мне уложиться, – попросила Паула, – у меня все вещи разбросаны по полу.
– Хорошо, только жаль уходить отсюда.
– Тогда побудем еще, – сказала Паула, закрывая глаза.
Вернувшись снова к действительности, они увидели, что шлюпка отошла от самолета, и теперь в ней сидело уже несколько человек. Лопес, потягиваясь, встал, полагая, что наступило время укладывать вещи, по, прежде чем уйти, они еще немного постояли у борта, невдалеке от Фелипе; оживленно беседуя с толстым глицидом, к ним приближался человек в темно-синем костюме. Это был инспектор Организационного ведомства.
Полчаса спустя метрдотель и официант обошли все каюты и палубы, приглашая пассажиров в бар, где их ожидали инспектор и седой глицид. Первым, натянуто улыбаясь и источая наигранный оптимизм, явился доктор Рестелли. Он только что совещался с сеньором Трехо, Лусио и доном Гало по поводу того, как лучше осветить события (в случае если будет начато дознание или поступит предложение прекратить круиз, на который все, за исключением бунтовщиков, имели полное право). Подошли дамы, сверкая самыми любезными улыбками и восклицая: «Как! Вы здесь? Какая неожиданность!» – на что инспектор отвечал, слегка растягивая губы и поднимая правую руку.
– Все собрались? – спросил он, глядя на метрдотеля, проверявшего списки. В воцарившейся напряженной тишине звук спички, которой Рауль чиркнул о коробок, показался оглушительным.
– Добрый день, дамы и господа, – сказал инспектор. – Излишне напоминать вам о том, как сожалеет Ведомство о происшедших недоразумениях. Телеграмма, посланная капитаном «Малькольма», была столь настоятельной, что, как вы видите, Ведомство сочло необходимым немедленно принять самые эффективные меры.
– Телеграмму послали мы, – сказал Рауль. – А если быть совсем точным, так ее послал человек, которого убили вот эти.
Инспектор смотрел на кончик пальца Рауля, показывавшего на глицида. Глицид провел рукой по волосам. Достав свисток, инспектор свистнул в него два раза. Вошли три молодца в мундирах столичной полиции, неизвестно откуда взявшиеся на этой широте и в этом баре.
– Я буду весьма признателен, если вы позволите мне закончить мое сообщение, – сказал инспектор, пока полицейские вставали за спинами пассажиров. – Весьма прискорбно, что эпидемия вспыхнула уже после того, как пароход покинул рейд Буэнос-Айреса. Нам известно, что командование «Малькольма» приняло все необходимые меры и, заботясь о вашем здоровье, ввело несколько строгие, но крайне необходимые ограничения.
– Совершений точно, – сказал дон Гало. – Все превосходно. Я говорил это с самого начала. А теперь разрешите мне, уважаемый сеньор…
– Нет, это вы разрешите мне, – перебил его инспектор. – Несмотря на принятые меры, произошли два случая, внушающих тревогу, последний из них вынудил капитана телеграфировать в Буэнос-Айрес. Первый, к счастью, кончился благополучно, корабельный врач уже разрешил больному мальчику вставать с постели; что же касается второго случая, спровоцированного безрассудным поведением самой жертвы, которая самовольно нарушила санитарный кордон и проникла в зараженную зону, то он завершился роковым образом. Сеньор… – под растущий гул голосов он заглянул в записную книжку. – Сеньор Медрано, именно так. Весьма прискорбно, разумеется. Позвольте мне, сеньоры. Тише! Позвольте. В подобных обстоятельствах и после совещания с капитаном и врачом мы пришли к заключению, что дальнейшее пребывание на борту «Малькольма» представляет опасность для вашего здоровья. Несмотря на то что эпидемия идет на убыль, она может вспыхнуть в этой части парохода, тем более что больной оказался в одной из кают на носу. Итак, принимая все это во внимание, я попрошу вас приготовиться к посадке на самолеты через четверть часа. Благодарю вас.
– А почему это мы должны садиться на самолеты? – крикнул дон Гало, подъезжая на своем кресле к инспектору. – Значит, эпидемия действительно была?!
– Ах, мой дорогой дон Гало, конечно, была, – сказал доктор Рестелли, живо выходя вперед. – Вы меня просто удивляете, дорогой друг. Никто ни на мгновение не сомневался, что администрация вела борьбу против вспышки тифа 224, вы сами это прекрасно знаете. Сеньор инспектор, в настоящее время речь идет не об этом, ибо все мы согласны с вами; мы имеем в виду целесообразность мер, несколько, я бы сказал, крутых, которые вы предполагаете принять. Я далек от мысли воспользоваться правом, предоставленным мне счастливым выигрышем, и все же настоятельно призываю вас подумать, прежде чем предпринять какое-либо опрометчивое действие, которое…
– Слушайте, Рестелли, бросьте вашу галиматью, – сказал Лопес, отводя руку Паулы, которая предостерегающе ущипнула его. – Вы и все остальные прекрасно знаете, что Медрано был застрелен кем-то из команды. И какой там, к чертовой бабушке, тиф! Лучше послушайте меня. После всего, что произошло здесь, плевать мне, вернемся мы в Буэнос-Айрес или нет, но я не позволю, чтобы так бессовестно лгали.
– Помолчите, сеньор, – сказал один из полицейских.
– А я не желаю. У меня есть свидетели и доказательства того, о чем я говорю. И я жалею лишь о том, что не был вместе с Медрано и не пристрелил полдюжины этих сукиных сынов.
Инспектор поднял руку.
– Итак, сеньоры, мне бы не хотелось быть вынужденным сообщить вам о мерах, которые будут приняты в случае, если кто-нибудь из вас, утратив чувство реальности, движимый дружбой или какими-либо иными мотивами, будет настаивать на искажении фактов. Поверьте, мне было бы весьма прискорбно, если бы пришлось высадить вас в… ну, скажем, в какой-нибудь пустынной зоне и держать там до тех пор, пока не улягутся страсти и можно будет дать объективную информацию.
– Можете меня высаживать, где вам заблагорассудится, – сказал Лопес. – Медрано был убит вот этими. Посмотрите на мое лицо. По-вашему, это тоже тиф?
– Ну, вы сами решите, – сказал инспектор, обращаясь в первую очередь к сеньору Трехо и дону Гало. – Мне не хотелось бы интернировать вас, однако придется, если вы будете настаивать на искажении фактов, проверенных людьми с безупречной репутацией.
– Не говорите глупостей, – сказал Рауль. – Давайте лучше спустимся вниз и вместе взглянем на убитого.
– О, тело уже убрано с парохода, – ответил инспектор. – Как вы понимаете, по соображениям элементарной гигиены. Сеньоры, я советую вам подумать. Мы все можем вернуться в Буэнос-Айрес через четыре часа. А там, после того, как вы подпишете заявление, которое мы составим сообща, вы можете быть уверены, что Ведомство позаботится о соответствующей компенсации, ибо никто не собирается забывать, что это путешествие – ваш выигрыш и тот факт, что оно было прервано, никоим образом не может служить помехой.
– Отличная концовка фразы, – сказала Паула.
Сеньор Трехо откашлялся, посмотрел на свою супругу и решительно начал:
– Я хочу спросить вас, сеньор инспектор… Ввиду того что, как вы сказали, тело снято с парохода и тем самым устранена опасность новой вспышки тифа, нельзя ли подумать о возможности…
– Ну, конечно, – сказал дон Гало. – Почему бы тем, кто согласен… я подчеркиваю – кто согласен… почему бы им не продолжить путешествие?
Все заговорили одновременно, и голоса дам звучали все громче, несмотря на робкие попытки полицейских установить тишину. Рауль отметил, что инспектор удовлетворенно улыбался и делал полицейским знак не вмешиваться. «Разделяй и властвуй, – подумал он, прислоняясь к переборке и куря без всякого удовольствия. – А почему бы и нет? Не все ли равно – остаться или уйти, продолжать путешествие или возвратиться. Бедняга Лопес во что бы то ни стало желает доказать правду. А Медрано был бы доволен, если б мог узнать, какой переполох он устроил…» Он улыбнулся Клаудии, которая отрешенно наблюдала за происходящим, пока доктор Рестелли объяснял, что отдельные прискорбные эксцессы не должны повлиять на заслуженный отдых большинства пассажиров, и поэтому он надеется, что сеньор инспектор… Но сеньор инспектор снова поднял руку, призывая всех к молчанию.
– Я прекрасно понимаю точку зрения этих сеньоров, – сказал он. – Однако капитан и офицеры, имея в виду сложившиеся обстоятельства, вспышку тифа и прочее… Одним словом, господа, мы все возвращаемся в Буэнос-Айрес, или я скрепя сердце буду вынужден приказать интернировать вас до тех пор, пока не рассеется недоразумение. И не забывайте, что угроза эпидемии тифа – достаточный повод для того, чтобы оправдать такую чрезвычайную меру.
– Вот оно! – крикнул дон Гало, в ярости оборачиваясь к Лопесу и Атилио. – Вот вам результат анархии и высокомерия. Я говорил это с той минуты, как сел на пароход. Теперь за нашкодивших будут расплачиваться невинные, так и растак! А эти ваши самолеты хоть надежны?
– Никаких самолетов! – завопила сеньора Трехо, поддержанная в основном женскими голосами. – Почему это мы не можем продолжать путешествие, скажите, пожалуйста?
– Путешествие окончено, сеньора, – сказал инспектор.
– Освальдо, и ты потерпишь это!
– Деточка! – со вздохом ответил сеньор Трехо.
– Согласны, согласны, – сказал дон Гало. – Сядем в самолет, и дело с концом, только перестаньте говорить о всяких интернированиях и прочем вздоре.
– В создавшейся ситуации, – сказал доктор Рестелли, искоса смотря на Лопеса, – хорошо бы достичь единства, к которому нас призывает сеньор инспектор…
Лопесу было и противно, и жалко его. Но он так устал, что жалость пересилила.
– За меня не беспокойтесь, че, – сказал он Рестелли. – Я не имею ничего против возвращения в Буэнос-Айрес, а там мы объяснимся.
– Совершенно верно, – сказал инспектор. – Ведомство должно быть уверено в том, что никто из вас не использует свое возвращение для распространения слухов.
– Разумеется, – сказал Лопес. – Ведомство неплохо придумало.
– Ваше упорство, уважаемый сеньор… – начал инспектор. – Поверьте, если у меня заранее не будет уверенности в том, что вы не станете искажать, да-да, именно искажать факты, я буду вынужден прибегнуть к тому, о чем предупреждал.
– Только этого еще недостает! – крикнул дон Гало. – Сперва три дня сидели как на иголках, а теперь еще засунут в какую-нибудь вонючую дыру. Нет, нет и нет! В Буэнос-Айрес! В Буэнос-Айрес!
– Ну, разумеется, – сказал сеньор Трехо. – Это недопустимо.
– Давайте спокойно проанализируем ситуацию, – предложил доктор Рестелли.
– Ситуация совершенно ясна, – ответил сеньор Трехо. – Раз сеньор инспектор считает, что продолжать путешествие невозможно… – он взглянул на супругу, позеленевшую от злости, и безнадежно махнул рукой, – мы понимаем, что самым логичным и естественным будет немедленно возвратиться в Буэнос-Айрес и вновь приступиться…
– Приступить, – поправил Рауль. – К делам приступают.
– У меня против этого нет возражений, – сказал инспектор, – только предварительно вам придется подписать составленное памп заявление.
– Мое заявление я напишу сам от первого до последнего слова, – сказал Лопес.
– И не ты один, – сказала Паула, немого смущаясь своего благородства.
– Конечно, – подтвердил Рауль. – По крайней мере нас пятеро. А это больше четверти пассажиров, с чем демократия не может не считаться.
– Не впутывайте, пожалуйста, сюда политику, – сказал инспектор.
Глицид провел рукой по волосам и что-то тихо стал говорить инспектору, который внимательно его слушал.
Рауль обернулся к Пауле.
– Телепатия, дорогая. Он говорит, что «Маджента стар» не пойдет на частичное интернирование, ибо тогда разразится еще больший скандал. Нас не повезут даже в Урсуайю, вот увидишь. Я очень этому рад, потому что не захватил с собой зимнего платья. Запомни и увидишь, что я был прав.
Он действительно оказался прав: инспектор снова поднял руку характерным жестом, делающим его похожим на пингвина, и решительно заявил, что в случае, если не будет достигнуто единство, ему придется интернировать всех пассажиров без исключения. Самолеты, мол, могут лететь только вместе и прочее, и прочее, и еще целый ряд убедительных технических доводов. Затем он замолчал, ожидая, какое впечатление произведут его слова и древний девиз, о котором недавно вспомнил Рауль; ждать ему пришлось недолго. Доктор Рестелли посмотрел на дона Гало, который посмотрел на сеньору Трехо, а та посмотрела на своего супруга. Настоящий перекрестный огонь, молниеносный рикошет взглядов. Оратор дон Гало Порриньо.
– Позвольте заметить, уважаемый сеньор, – сказал дон Гало, приводя в движение свое кресло-каталку. – Нельзя допустить, чтобы из-за упрямства и неподатливости этих заносчивых молодчиков нас, уравновешенных и рассудительных людей, упрятали черт знает куда и вдобавок потом облили грязью и оклеветали, уж я-то знаю наш мир. И если вы заявляете, что эта… этот случай был следствием проклятой эпидемии, то я лично считаю, что нет никаких оснований не доверять вашему официальному заявлению. Меня нисколько не удивит, если скажут, что в этой ночной схватке было, как говорится, много шума из ничего. И, по правде говоря, никто из нас, – он особенно подчеркнул последнее слово, – не мог видеть… этого… этого несчастного сеньора, который, между прочим, пользовался всеобщей симпатией, несмотря на свои несуразные поступки в последние часы. – Он сделал полукруг на своем кресле и победоносно посмотрел на Лопеса и Рауля. – Я повторяю: никто не видел его, потому что вот эти сеньоры с помощью наглеца, который осмелился запереть нас на ночь в баре – обратите внимание на эту неслыханную дерзость в свете того, о чем мы говорим, – вот эти сеньоры, повторяю, хотя они и не достойны такого уважительного звания, преградили путь к одру мертвеца вот этим дамам, движимым чувством христианского милосердия, которое я уважаю, хотя и не разделяю его. Какие, по-вашему, сеньор инспектор, можно сделать из этого выводы?
Рауль вцепился в руку Пушка, который побагровел, как обожженный кирпич, но не сумел помешать ему выкрикнуть:
– Какие там выводы, каракатица? Да я принес его обратно, принес вместе вот с этим сеньором! Из него еще хлестала кровь.
– Какой-то пьяный бред, – пробормотал сеньор Трехо.
– А моя пуля, которая царапнула того сукина сына?! У него с уха капала кровь, как с освежеванного поросенка. Боже правый, и почему я не всадил ему заряд в брюхо, неужто и тогда все свалили бы на тиф?!
– Не кипятись, Атилио, – сказал Рауль. – История уже написана.
– Какая, к дьяволу, еще история, – сказал Пушок.
Рауль пожал плечами.
Инспектор молчал, зная, что найдутся ораторы красноречивее его. Первым взял слово доктор Рестелли, воплощение сдержанности и благоразумия; за ним выступил сеньор Трехо, яростный защитит; справедливости и порядка; дон Гало лишь поддерживал выступающих остроумными и уместными замечаниями. На первых порах Лопес, подстрекаемый гневными возгласами Атилио, а также меткими и колкими репликами Рауля, пытался возражать, обвиняя ораторов в трусости. Но потом ему вдруг стало противно, и, потеряв всякое желание говорить, он повернулся ко всем спиной и отошел в дальний угол. За бунтовщиками, стоявшими молчаливой группой, сдержанно наблюдали полицейские. Партия миротворцев закончила выступления при одобрительной поддержке дам и меланхолично улыбавшегося инспектора.
XLV
С высоты «Малькольм» походил на спичку, плавающую в большом тазу. Поспешив занять место у окошка, Фелипе равнодушно посмотрел на него. Океан, уже не такой огромный и вздыбленный, напоминал тусклую ровную пластину. Фелипе закурил и огляделся вокруг; спинки кресел были удивительно низкими. Другой самолет слева от них, казалось, не летел, а парил на месте. Там находился багаж пассажиров и, возможно… Поднимаясь на самолет, Фелипе смотрел во все глаза, стараясь увидеть тюк, завернутый в простыню или в брезент, скорее всего, в брезент. Так ничего и не увидев, он предположил, что тюк, наверное, погрузили в другой самолет.
– В общем, – сказала Беба, усаживаясь между матерью и Фелипе, – можно было себе представить, что все именно так и кончится. Мне это не нравилось с самого начала.
– Все могло бы кончиться прекрасно, – сказала сеньора Трехо, – если бы не этот тиф и… если бы не тиф.
– Так или иначе, а вышло надувательство, – сказала Беба. – Теперь придется объяснять всем подружкам, представляешь.
– Ну что же, доченька, и объяснишь. Ты прекрасно знаешь, что надо говорить.
– Напрасно ты думаешь, что Мария-Луиса и Мече поверят в такую басню…
Сеньора Трехо секунду смотрела на дочь, потом перепела взгляд на супруга, пристроившегося в другом конце самолета, где было только два сиденья. Сеньор Трехо, который все слышал, жестом успокоил ее. В Буэнос-Айресе они уговорят детей не болтать лишнего, возможно, пошлют их на месяц в Кордову, в именье тетушки Флориты. Дети быстро все забывают, к тому же они еще несовершеннолетние и их слова не могут иметь юридических последствий. Не стоит раньше времени беспокоиться.
Фелипе продолжал смотреть на «Малькольм», пока он не исчез из виду где-то внизу; осталась лишь беспредельная, наводящая скуку водная гладь, над которой они будут лететь четыре часа, пока не доберутся до Буэнос-Айреса. Вообще-то лететь было не так уж плохо, в конце концов, это его первое воздушное путешествие, и у него будет что порассказать ребятам. А какое лицо скорчила мамаша перед взлетом, как старалась скрыть свой страх Беба… Женщины несносны, паникуют по любому поводу. Да, че, что поделаешь, заварилась такая каша, что в конце концов всех запихнули в самолет и отправили домой. Убили там одного и… Но ему, наверное, не поверят; Ордоньес, как всегда, посмотрит на него пренебрежительно: «Об атом давно уже было бы известно, малец! На что, по-твоему, газеты?» Да, об убийстве лучше не распространяться. Но Ордоньес, а может, и сам Альфиери спросят, как прошло путешествие. Ну, про это уже легче: бассейн, одна рыжуха в бикини, прихватил под водой, малютка все жалась, а вдруг узнают, я, мол, стесняюсь; да что ты, детка, никто ничего не узнает, давай приходи, немного развлечемся. Сперва не хотела, перепугалась, по сам знаешь, как бывает, как только уложил ее по форме, зажмурила глазки и позволила раздеть себя в постели. Ох и девка, рассказать невозможно…
Он развалился в кресле, прикрыл глаза. Ты только послушай, что было… Целый день, че, и не хотела, чтобы я уходил, настоящая пиявочка, не знал, как и отделаться… Да, рыжая, а там, скорее, русая. Ясное дело, мне тоже было любопытно, ну говорю тебе, скорее, русая.
Отворилась дверь кабины пилота, и высунулся инспектор, довольный и вроде даже помолодевший.
– Превосходная погода, сеньоры. Через три с половиной часа будем в Пуэрто-Нуово. Ведомство полагает, что после того, как будут выполнены формальности, о которых мы с вами говорили, вы, вероятно, пожелаете как можно скорей отправиться домой. Чтобы не терять зря времени, всем будут предоставлены такси: багаж вы получите, как только приземлимся.
Он сел в первое кресло, рядом с шофером дона Гало, который читал номер «Рохо и Негро». Нора, забившаяся в кресло у окошка, вздохнула.
– Никак не могу убедить себя, – сказала она. – Это выше моих сил. Вчера еще нам было так хорошо, а теперь…
– Кому ты это говоришь, – пробурчал Лусио.
– Странно, ты же сам сначала так интересовался этой кормой… Чем они были так озабочены, объясни мне? Не понимаю, по виду такие добрые сеньоры, такие симпатичные.
– Шайка налетчиков, – сказал Лусио. – Других я не знал, а вот Медрано, клянусь, поразил меня порядком. По тому, как обстоят сейчас дела в Буэнос-Айресе, эта заваруха может навредить нам всем. А если кто донесет начальству, меня могут не повысить, а то еще похуже… Ведь, в конце концов, это была государственная лотерея, но об этом все забыли. Только думали, как бы устроить скандал да покрасоваться.
– Не знаю, – сказала Нора, посмотрев на него и тут же опустив глаза. – Ты, конечно, прав, но когда заболел сын этой сеньоры…
– Ну и что? Вон, гляди, он преспокойно уплетает себе конфеты! Какая же это болезнь, скажи на милость? А эти скандалисты только и искали повода, чтобы заварить кашу и показать себя героями. Думаешь, я не понял это с самого начала и не пытался их остановить? Но они бряцали оружием, выпендривались, корчили из себя… Вот помяни мое слово, если только об этом узнают в Буэнос-Айресе…
– Я думаю, никто не узнает, – робко сказала Нора.
– Увидим. К счастью, некоторые думают так же, как я, а нас большинство.
– Придется подписать это заявление.
– Конечно, придется. Инспектор все уладит. Может, я зря волнуюсь, в конце концов, кто поверит их россказням.
– Да, но сеньор Лопес и Пресутти так рассердились…
– Тут они свою роль сыграют до конца, – сказал Лусио, – но вот увидишь, в Буэнос-Айресе о них никто и не услышит. Что ты на меня так смотришь?
– Я?
– Да, ты.
– Что ты, Лусио, я просто так на тебя посмотрела.
– Нет, ты смотрела так, будто я соврал или еще что.
– Да нет же, Лусио.
– Но ты как-то странно на меня посмотрела. Неужели ты не понимаешь, что я прав?
– Конечно, понимаю, – ответила Нора, избегая его взгляда. Разумеется, Лусио был прав. Иначе бы он так сильно не рассердился. Ведь Лусио всегда был такой веселый; и она постарается, чтобы он забыл об этих днях и снова стал, как прежде, веселым. Неужели и в Буэнос-Айресе он останется таким же мрачным и решится на что-нибудь, она не знала, на что именно, ну, например, разлюбит ее, бросит, хотя это немыслимо – бросить ее теперь, когда она дала ему самое большое доказательство своей любви, согрешила ради него. Не верилось, что через три часа они окажутся в самом центре города, и сейчас она должна была узнать, что он думает делать дальше; если она вернется домой, сестра все поймет, а вот мама… Она представила, как входит в столовую, как мама смотрит на нее и становится все бледнее и бледнее. «Где ты пропадала три дня? Гулящая! – крикнет мама. – Это так тебя воспитали монахини? Гулящая, проститутка, шлюха!» Сестра попытается защитить ее, по как объяснить матери, где она была эти три дня. Нет, домой возвращаться невозможно, она позвонит сестре, чтобы та встретила ее и Лусио… А если Лусио?… Ведь он так рассвирепел… Если он не захочет жениться сейчас же, если начнет оттягивать свадьбу и опять закрутит с девицами из своей конторы, особенно с этой Бетти, если снова начнет гулять со своими дружками…
Лусио смотрел на океан поверх Нориного плеча. Он словно ждал, чтобы она заговорила первой. Нора повернулась к нему, поцеловала в щеку, в нос, в губы. Лусио не ответил на ее поцелуи, по она заметила, что он улыбнулся, когда она снова поцеловала его в щеку.
– Красавец мой, – сказала Нора так нежно, как только могла. – Как я тебя люблю. Я так счастлива с тобой, чувствую себя такой уверенной, спокойной под твоей защитой.
Целуя его, она старалась рассмотреть выражение его лица и наконец увидела, что Лусио улыбается. Она собрала все свои силы, чтобы начать разговор о Буэнос-Айресе.
– Нет, нет, довольно конфет. Вчера вечером ты чуть не умер, а теперь хочешь, чтобы у тебя расстроился желудок.
– Да я только две штучки съел, – ответил Хорхе и, сделав обиженное лицо, позволил укутать себя в дорожный плед. – Че, как плавно летит самолет. Персио, как, по-твоему, могли бы мы на нем долететь до нашей планеты?
– Нет, – ответил Персио. – В стратосфере мы превратились бы в пыль.
Закрыв глаза, Клаудиа кладет голову на неудобную спинку кресла. Ее злит то, что она рассердилась на Хорхе. «Вчера вечером ты чуть не умер…» Такое нельзя говорить ребенку, но в глубине души она сознает, что эта фраза относилась не к нему, что она слишком преувеличивает вину Хорхе. Бедняжка, глупо с ее стороны взваливать на него то, о чем он и понятия не имеет. Она снова укутала его, пощупала лоб и стала искать сигареты. В креслах по ту сторону прохода Лопес и Паула, играя, переплетали пальцы, мерились силой. Прислонившись к окошку, окутанный клубами табачного дыма, дремал Рауль. Образы сновидения уже замелькали перед ним, но вдруг он проснулся и в двадцати сантиметрах от себя увидел затылок доктора Рестелли и мощный загривок сеньора Трехо. Рауль мог бы почти дословно воспроизвести их разговор, хотя шум в самолете не позволял расслышать ни единого слова. Они, наверное, обмениваются визитными карточками и договариваются о встрече, чтобы убедиться, что все идет нормально и никто из бунтовщиков (к счастью, усмиренных инспектором и собственной глупостью) не осмеливается выступить в левой прессе, готовой облить их всех грязью. Судя по возбужденным жестам доктора Рестелли, он, по-видимому, настаивал на том, что слова нарушителей порядка ничем не подтвердились. «Во всяком случае, хороший адвокат доказал бы это полностью, – подумал Рауль, посмеиваясь. – Кто признает, кто поверит, что на таком судне у команды было огнестрельное оружие и что липиды не прикончили нас, едва мы открыли по ним стрельбу на корме. Где доказательства наших слов? Медрано, конечно. Но нам подсунут ловко сфабрикованный некролог в три строчки».








