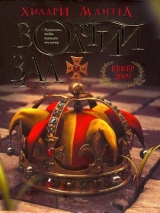
Текст книги "Волчий зал"
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)
Мария улыбается и тут же затыкает рот рукой, как кляпом.
– Вот и правильно, – кивает он. – Никому ничего не говорите.
Мария произносит, не отнимая пальцев ото рта:
– Я не могу читать. Не вижу букв.
– Что, вам не дают свечей?!
– Нет, я хочу сказать, у меня слабеет зрение. И голова все время болит.
– Вы много плачете?
Она кивает.
– Доктор Беттс привезет лекарства. А до тех пор пусть кто-нибудь читает вам.
– Мне читают. Читают Тиндейлово Евангелие. Вы знаете, что епископ Тунстолл и Томас Мор нашли в этом так называемом Писании две тысячи ошибок? Там больше еретического, чем в священной книге магометан.
Сказано с вызовом, однако он видит, что ее глаза наполняются слезами.
– Все это исправимо, – говорит он.
Мария встает; в первый миг ему кажется, что сейчас она, забывшись, уткнется с рыданиями в его дорожную куртку.
– Доктор приедет на днях. А пока я велю, чтобы вам растопили камин и подали ужин. Куда захотите.
– Дайте мне повидаться с матерью.
– Сейчас король этого не допустит. Однако все может измениться.
– Отец меня любит. Это все она, эта подлая женщина, нашептывает ему всякие гнусности.
– Леди Шелтон будет к вам добра, если только вы ей позволите.
– Что мне до ее доброты? Я переживу Анну Шелтон, поверьте. И ее племянницу. И всех, кто посягает на мой титул. Пусть делают что хотят. Я молода. Я могу подождать.
Он выходит, Грегори за ним, завороженно оглядываясь на девушку, которая вновь садится у погасшего камина, складывает руки и с каменным лицом принимается ждать.
– Этот ее кроличий мех, – говорит Грегори, – такое впечатление, будто его грызли.
– Да уж, она истинная дочь Генриха.
– А разве кто-то сомневался?
Он смеется.
– Нет, не в этом смысле. Представь… если бы у старой королевы были любовники, избавиться от нее не составило бы труда, но как очернить женщину, которая делила ложе только с одним мужчиной? – Он осекается; даже тем, кто безусловно поддерживает короля, трудно упомнить, что по официальной версии Екатерина была женой принца Артура. – Мне следовало сказать, только с двумя мужчинами. – Он окидывает сына взглядом. – Мария ни разу не посмотрела на тебя, Грегори.
– А по-твоему должна была?
– Леди Брайан считает, что ты чрезвычайно мил. Разве для женщины это не естественно?
– Я не заметил в ней ничего естественного.
– Найди кого-нибудь, кто растопит камин. А я распоряжусь насчет ужина. Вряд ли король хочет уморить ее голодом.
– А ты ей понравился, – говорит Грегори. – Странно.
Он понимает, что сын говорит искренне.
– Разве такого не может быть? Мне кажется, дочери меня любили. Бедняжка Грейс, я так и не знаю, понимала ли она толком, кто я.
– Она тебя обожала, когда ты сделал ей ангельские крылья. Говорила, что будет хранить их всегда-всегда. – Сын отворачивается; в голосе как будто страх. – Рейф утверждает, что скоро ты будешь вторым человеком в королевстве. Что это уже и теперь так, неофициально. Что король поставит тебя выше лорда-канцлера и всех остальных. Даже выше Норфолка.
– Рейф забегает вперед. Послушай, сын, не говори никому о Марии. Включая Рейфа.
– Я услышал больше, чем следовало?
– Что, по-твоему, будет, если король завтра умрет?
– Мы будем скорбеть.
– А кто займет трон?
Грегори кивает в сторону леди Брайан, в сторону девочки в колыбели.
– Так сказал парламент. Или королем станет сын королевы, который еще не родился.
– Но произойдет ли это? На самом деле? Еще не родившийся младенец? Девочка, которой нет и года? При регентстве Анны? Болейны были бы рады, это да.
– Тогда Фицрой.
– Надо ли искать так далеко?
Взгляд Грегори обращается к дверям комнаты, из которой они вышли.
– Вот именно, – говорит Кромвель. – И вот что, Грегори. Очень разумно составлять планы на полгода, на год вперед, но грош им цена, если у тебя нет планов на завтрашний день.
После ужина он беседует с леди Шелтон. Леди Брайан уходит спать, потом спускается их урезонить.
– Вы так за ночь совсем не отдохнете!
– Да-да, – машет на нее Анна Шелтон. – Проснемся квелые, кушать не захотим.
Когда слуги, зевая, уходят, а свечи догорают, они перебираются в другие покои, поменьше и потеплее, продолжают беседу там. Вы дали Марии добрый совет, говорит леди Шелтон, хорошо бы она ему последовала, боюсь, ей предстоят трудные времена. Она говорит о своем брате Томасе Болейне: эгоистичнее человека я не знаю, и не мудрено, что Анна такая хищница, что она от него слышала, кроме разговоров о деньгах, да как выдвинуться за счет других; он бы продал дочерей голыми на берберийском невольничьем рынке, если бы рассчитывал получить хорошую цену.
Он улыбается, представив, как в окружении слуг с ятаганами торгуется за Марию Болейн; затем вновь переносит внимание на ее тетку. Та посвящает его в секреты Болейнов, он не посвящается в свои секреты, хоть ей и кажется, что посвятил.
Когда он входит в спальню, Грегори уже спит, но приоткрывает глаза и спрашивает:
– Дорогой отец, где ты был, в постели у леди Шелтон?
Это бывает, но не с женщинами из семейства Болейн.
– Чудные сны тебе снятся. Леди Шелтон тридцать лет замужем.
– Я думал после ужина посидеть следи Марией… надеюсь, я не сказал чего плохого? Только она такая язвительная. Я не могу разговаривать с такой язвительной девушкой.
Грегори взбрыкивает на перине и тут же засыпает снова.
Когда Фишер наконец приходит в себя и молит короля о прощении, он ссылается на болезнь и старческую немощь. Король отвечает, что не отзовет билль, однако, по своему обыкновению, помилует тех, кто признал свою вину.
Блаженную повесят. Кромвель молчит о троне из костей, только сообщает Генриху, что она больше не пророчествует, и надеется, что на Тайберне, с петлей на шее, она не выставит его лжецом.
Когда советники встают на колени и умоляют вычеркнуть из списка имя Томаса Мора, король уступает. Возможно, Генрих только этого и ждал: чтобы его уговорили. Анны с ними нет; не исключено, что в ее присутствии все повернулось бы иначе.
Они выходят, отряхивая колени. Ему кажется, он слышит смех кардинала из какой-то невидимой части комнаты. Достоинство Одли не пострадало, а вот Норфолк взвинчен, потому что не сумел подняться сам – подвели суставы, – и пришлось им с Одли вдвоем поднимать герцога с колен.
– Я думал, буду стоять там еще час, – говорит тот. – Умоляя и упрашивая.
– Штука в том, – обращается Кромвель к Одли, – что Мор по-прежнему получает из казны пенсион. Думаю, пора это прекратить.
– Он получил передышку. Дай Бог, чтобы одумался. Он привел в порядок свои дела?
– Переписал все, что мог, на детей. Я слышал от Ропера.
– Стряпчие! – ворчит герцог. – Если я впаду в опалу, кто позаботится о моих делах?
Норфолк вспотел; Кромвель умеряет шаг, Одли тоже; пока они топчутся, Кранмер нагоняет их, как запоздалая мысль. Он оборачивается и берет архиепископа под руку. Тот присутствует на всех заседаниях парламента: на скамье епископов, где в последнее время подозрительно много свободных мест.
Папа подгадал время – как раз когда Кромвель проводит через парламент свои великие билли – чтобы наконец-то вынести вердикт по делу о браке Екатерины, с которым столько тянул, – он уже думал, папа хочет сойти в могилу, не сказав ни да, ни нет. Решение Климента: диспенсация обоснована, брак действителен. Сторонники императора жгут на улицах Рима фейерверки. Генрих высокомерно-насмешлив и выражает свое отношение танцами. Анна еще танцует, хотя живот уже заметен; летом ей нужно будет себя беречь. Кромвель помнит руку короля на талии Лиззи Сеймур. Дальше дело не пошло – Лиззи не дурочка. Теперь король увивается вокруг маленькой Мэри Шелтон – подбрасывает ее в воздух, щекочет, стискивает и доводит до беспамятства комплиментами. Это ничего не значит; он видит, как Анна вздергивает подбородок и, откинувшись в кресле, бросает какое-то тихое замечание; глаза лукавы, вуаль на миг задевает джеркин наглеца Фрэнсиса Уэстона. Очевидно, что Анна намерена терпеть Мэри Шелтон, даже умасливать. Лучше не выпускать короля за пределы семьи, а сестры под рукой нет. Где Мария Болейн? В деревне; наверняка, как и он, ждет не дождется тепла.
И лето приходит, без паузы на весну, утром в понедельник, словно новый слуга с сияющим лицом, – тринадцатого апреля. Они в Ламбете – Одли, Кромвель и архиепископ. Солнце бьет в окна. Он смотрит вниз на дворцовый сад. Так начинается «Утопия»: друзья беседуют в саду. На дорожке королевские капелланы дурачатся, словно школяры: Хью Латимер повис на плечах у двух собратьев-клириков, так что ноги оторвались от земли. Для полного счастья им не хватает только мяча.
– Мастер Мор, – говорит он, – что если вам прогуляться на солнышке? А через полчаса мы вас снова вызовем и предложим присягнуть; вы дадите нам другой ответ, не так ли?
Мор встает; слышно, как щелкают суставы.
– Томас Говард стоял ради вас на коленях! – говорит Кромвель. Кажется, это было недели назад. Работа за полночь и постоянные дискуссии по утрам вымотали его, зато обострили чувства, и он спиной ощущает, что Кранмер вот-вот сорвется. Надо выставить Мора на улицу, пока этого не произошло.
– Не знаю, что, по-вашему, изменят полчаса, – говорит Мор. Тон беззлобный, добродушно-шутливый. – Конечно, для вас они многое могут изменить.
Мор попросил, чтобы ему показали акт о престолонаследии. Одли разворачивает документ, и Мор принимается читать, хотя читал уже раз десять.
– Очень хорошо. Однако я надеюсь, что выразился вполне ясно. Я не могу присягнуть, но не скажу ни слова против вашей присяги и не стану отговаривать тех, кто намерен ее принять.
– Вы прекрасно знаете, что этого недостаточно.
Мор кивает и стремительным зигзагом идет к двери, задевая угол стола, так что Кранмер вздрагивает и бросается ловить качнувшуюся чернильницу.
Мор прикрывает за собой дверь.
– Итак?
Одли сворачивает документ и постукивает им по столу, глядя туда, где стоял Мор. Кранмер говорит:
– Послушайте, я придумал. Что если мы позволим ему присягнуть тайно? Он клянется, но мы обещаем никому не говорить. Или, если не может дать эту присягу, мы спросим, какая бы его устроила?
Кромвель смеется.
– Вряд ли король с этим согласится. – Одли вздыхает. Тук, тук, тук. – После всего, что мы сделали для него и для Фишера. Его имя вычеркнуто из билля. Фишера оштрафовали, а не бросили в темницу до конца жизни. И мы же теперь это расхлебывай.
– Блаженны миротворцы, – цедит Кромвель. Ему хочется кого-нибудь задушить.
Кранмер говорит:
– Мы побеседуем с Мором еще раз. Если он не хочет присягать, пусть хоть приведет основания.
Кромвель, чертыхнувшись вполголоса, отворачивается от окна.
– Мы знаем его основания. Вся Европа их знает. Мор против развода. Мор считает, что король не может быть главой церкви. Скажет он это? Ни за что, уж поверьте. А знаете, что бесит больше всего? Меня бесит, что я участвую в пьесе, которую он сочинил, от начала и до конца. Меня бесит, что мы тратим время, которое могли бы употребить на что-нибудь дельное, что наша жизнь уходит, и мы успеем состариться, прежде чем доиграем этот фарс. А больше всего меня бесит, что сэр Томас Мор сидит в зрительном зале и злорадно посмеивается, когда я сбиваюсь и путаю слова, потому что он сам написал роли. Писал их все эти годы.
Кранмер, как мальчишка-слуга, наливает ему вина, подходит бочком:
– Вот.
В руках архиепископа чаша неизбежно обретает сакральный смысл: не разбавленное водой вино, но некая двусмысленная смесь, это Моя кровь, это похоже на Мою кровь, это более-менее похоже на Мою кровь; сие творите в Мое воспоминание. Кромвель протягивает кубок обратно. Северные немцы получают перегонкой крепкое зелье – аквавите;оно бы сейчас лучше помогло.
– Зовите Мора, – говорит он.
Мгновение, и Мор в дверях, негромко чихает.
– Бросьте, – улыбается Одли, – так ли надлежит являться герою?
– Уверяю вас, я ни в коей мере не стремлюсь быть героем, – отвечает Мор. – Там траву скосили.
Снова чихает, поправляет мантию, садится в поставленное ему кресло. А в первый раз отказался.
– Так-то лучше, – говорит Одли. – Я знал, что воздух пойдет вам на пользу.
Поднимает глаза, мол, давайте к нам, но он, Кромвель, дает понять, что останется, где стоял, у окна.
– Уж и не знаю, – добродушно говорит Одли. – Сперва один не садится. Теперь другой. Вот, – придвигает Мору бумагу, – имена пресвитеров, которые вчера принесли клятву и подали вам пример. И вам известно, что все члены парламента согласились. Почему не соглашаетесь вы?
Мор смотрит из-под бровей:
– Нам всем сейчас здесь неуютно.
– Там, куда отправитесь вы, много неуютнее, – говорит Кромвель.
– Надеюсь, это будет не ад, – улыбается Мор.
– Если вы, присягнув, обречете себя на погибель, то как насчет остальных? – Кромвель рывком отделяется от стены, хватает бумагу и шлепает ее на плечо Мору. – Они все прокляты?
– Я не могу отвечать за их совесть, только за свою собственную. Если я принесу вашу присягу, то буду проклят.
– Многие позавидовали бы вашему умению читать волю Божью, – говорит Кромвель. – Впрочем, вы с Богом давно запанибрата, верно? Меня изумляет ваша дерзость. Вы говорите о своем Творце как о приятеле, с которым в воскресенье вместе удили рыбу.
Одли подается вперед.
– Давайте проясним. Вы не можете присягнуть, потому что вам не позволяет совесть?
– Да.
– Не соблаговолите ли объяснить более внятно?
– Нет.
– Вы возражаете, но не станете говорить, почему?
– Да.
– В данном случае для вас неприемлем статут, или форма присяги, или сама идея присяги как таковая?
– Я предпочел бы не отвечать.
Кранмер вмешивается:
– В вопросах, затрагивающих совесть, всегда остается место для сомнений…
– О да, но это не каприз. Я долго и прилежно советовался с собой, и в данном вопросе голос моей совести вполне отчетлив. – Мор склоняет голову набок, улыбается. – Разве с вами не так, милорд?
– И все же наверняка есть какие-то сомнения. Вы ученый, привыкли к дебатам и разногласиям, так что наверняка спрашиваете себя: почему столько образованных мужей думает так, а я – иначе? Одно бесспорно: естественный долг подданного – покорствовать королю. К тому же давно, вступая в должность в совете, вы клялись ему повиноваться. Почему же не повинуетесь? – Кранмер моргает. – Противопоставьте свои сомнения этой непреложности и присягните.
Одли откидывается в кресле и закрывает глаза, словно говоря: никто из нас лучше не скажет.
Мор говорит:
– Когда вы вступали в сан архиепископа, назначенного папой, вы присягнули Риму, но утверждают, будто во время всей церемонии вы держали в кулаке сложенную записку, где говорилось, что вы клянетесь против своей воли. Или это неправда? Утверждают, будто текст записки составил мастер Кромвель.
Одли резко открывает глаза: лорду-канцлеру кажется, что Мор отыскал для себя лазейку. Однако за улыбкой Мора прячется злоба.
– Я не пойду на такие фокусы, – мягко произносит Мор, – не стану ломать комедию перед моим Господом Богом, не говоря уже об английских верующих. Вы говорите, что за вами большинство. Я говорю, что оно за мной. Вы говорите, за вами парламент, а я говорю, что за мною ангелы и святые, и весь сонм усопших христиан, все поколения с основания церкви Христовой, тела единого и нераздельного…
– О, ради Христа! – вскипает он. – Ложь не перестает быть ложью из-за того, что ей тысяча лет. Ваша нераздельная церковь ничего так не любит, как терзать собственных чад, жечь их и рубить, когда они отстаивают свою совесть, вспарывать им животы и скармливать внутренности псам. Вы зовете себе на помощь историю, но что она для вас? Зеркало, которое льстит Томасу Мору. Однако у меня есть другое зеркало, и в нем отражается опасный честолюбец. Я поворачиваю его, и в нем отражается убийца, ибо один Бог ведает, скольких вы утащите за собой – им достанутся только страдания, но не ваш ореол мученика. Вы не простая душа, так что не пытайтесь упрощать. Вы знаете, что я вас уважал. Уважал с детства. Мне легче было бы потерять сына, легче было бы видеть, как ему отрубят голову, чем смотреть, как вы отказываетесь от присяги на радость всем врагам Англии.
Мор поднимает глаза и мгновение выдерживает его взгляд.
– Грегори – милый юноша. Не желайте ему смерти. Если он что-нибудь делает не так, он исправится. То же самое я говорю о своем сыне. На что он годен? И все же он стоит больше любого дискуссионного вопроса.
Кромвель готов прибить Мора за один этот добродушный тон.
Кранмер в отчаянии трясет головой:
– Это не дискуссионный вопрос.
– Вы упомянули своего сына, – говорит Кромвель. – Что будет с ним? С вашими дочерьми?
– Я посоветую им присягнуть. Я не предполагаю в них моей щепетильности.
– Я не об этом, и вы прекрасно меня поняли. Вы хотите поработить их императору? Вы – не англичанин.
– Вы сам едва ли англичанин, – говорит Мор. – Французский солдат, итальянский банкир. Едва выйдя из отрочества, вы бежали на чужбину, спасаясь от тюрьмы или от петли, грозивших вам за вашу юношескую необузданность. Я скажу вам, кто вы, Кромвель. Вы итальянец до мозга костей, со всеми их страстями и пороками. Ваша неизменная обходительность – я знал, что когда-нибудь она кончится. Это монета, которая слишком часто переходила из рук в руки. Тонкий слой серебра стерся, и мы видим низкий металл.
Одли ухмыляется:
– Вы, кажется, не следите за трудами мастера Кромвеля на Монетном дворе. Деньги, которые он чеканит – высшей пробы.
Одли не может не зубоскалить, такой уж у лорда-канцлера характер; кто-то должен сохранять спокойствие. Кранмер бледен и в поту, у Мора на виске пульсирует жилка. Кромвель говорит:
– Мы не можем отпустить вас домой. Однако мне представляется, что вы сегодня не в себе. Поэтому, чем отправлять в Тауэр, мы, очевидно, попросим аббата Вестминстерского подержать вас под арестом у себя дома… Вы согласны, милорд Кентербери?
Кранмер кивает. Мор говорит:
– Мне не следовало насмехаться над вами, мастер Кромвель. Теперь я вижу, что вы мой самый дорогой и заботливый друг.
Одли кивает страже. Мор встает легко, словно мысль об аресте добавила ему молодых сил; впечатление несколько подпорчено тем, что он по обыкновению поддергивает мантию и, делая семенящее движение, как будто запутывается в своих ногах. Ему, Кромвелю, вспоминается Мария в Хэтфилде: как та встала и тут же забыла, где ее табурет. Мора наконец спроваживают из комнаты.
– Теперь наш друг получил в точности что хотел, – говорит Кромвель.
Он прикладывает руку к окну и видит отпечатки своих пальцев на старом бугристом стекле. С реки натянуло облаков; лучшая часть дня позади. Одли идет к нему через комнату и неуверенно встает рядом.
– Если бы только Мор указал, какие части присяги для него неприемлемы, можно было бы что-нибудь добавить, чтобы снять возражения.
– Забудьте. Если он что-нибудь укажет, ему конец. Теперь единственная его надежда в молчании, и та призрачная.
– Король мог бы согласиться на какой-то компромисс, – говорит Кранмер. – А вот королева, боюсь, нет. Да и впрямь, – продолжает архиепископ слабым голосом, – с какой стати ей соглашаться?
Одли кладет руку ему на локоть.
– Мой дорогой Кромвель. Кто в силах понять Мора? Его друг Эразм советовал ему держаться подальше от власти, для которой он не создан, и был совершенно прав. Ему не следовало принимать мой нынешний пост. Он сделал это исключительно в пику Вулси, из ненависти к тому.
Кранмер говорит:
– Эразм советовал ему воздерживаться и от богословия тоже. Или я ошибаюсь?
– Как вы можете ошибаться? Мор публикует все письма своих друзей. Даже содержащиеся в них упреки обращает к своей выгоде – смотрите, мол, на мое смирение, я ничего не скрываю. Он живет на публику. Каждая посетившая его мысль излагается на бумаге. Он ничего не держал при себе до сего дня.
Одли, перегнувшись через него, распахивает окна. Через подоконник в комнату перехлестывает птичий гомон – заливистый, громкий свит дрозда-дерябы.
– Думаю, Мор напишет отчет о сегодняшнем дне, – говорит Кромвель, – и отошлет печатать за границу. В глазах Европы мы предстанем дураками и мучителями, а он – невинным страдальцем и автором блистательных афоризмов.
Одли похлопывает его по плечу – хочет утешить. Однако кому это под силу? Он безутешный мастер Кромвель: непостигаемый, неизъяснимый и, возможно, неупраздняемый.
На следующий день король за ним посылает. Он думает, Генрих хочет распечь его за неспособность привести Мора к присяге.
– Кто будет сопровождать меня на эту фиесту? – спрашивает Кромвель. – Мастер Сэдлер?
Как только он входит, Генрих грозным движением руки велит приближенным освободить ему место. Лицо мрачнее тучи.
– Кромвель, разве я был вам дурным государем?
Незаслуженная доброта вашего величества… ваш ничтожный слуга… если не оправдал ожиданий в чем-либо конкретном, умоляю всемилостивейше простить…
Он может так говорить часами. Научился у Вулси.
Генрих перебивает:
– Милорд архиепископ считает, что я не воздаю вам по заслугам. Однако, – обиженный тон человека, которого неправильно поняли, – я славлюсь своей щедростью. – Генрих явно озадачен: как же так вышло? – Вы станете государственным секретарем. Награды воспоследуют. Не понимаю, почему я не сделал этого раньше. Но скажите мне: на вопрос о лордах Кромвелях, которые некогда были в Англии, вы ответили, что никак с ними не связаны. Вы ничего с тех пор не надумали?
– Сказать по чести, я больше об этом не вспоминал. Я не возьму ни чужое платье, ни чужой герб, иначе покойник встанет из могилы и разоблачит меня как самозванца.
– Милорд Норфолк говорит, вы нарочно выставляете свое низкое происхождение напоказ, желая ему досадить. – Генрих берет его под руку. – Отныне куда бы я ни ехал – хотя этим летом мы воздержимся от дальних поездок, учитывая состояние королевы, – вам будут отводить комнаты рядом с моими, чтобы мы могли разговаривать, когда мне потребуется, и по возможности смежные, чтобы никого за вами не посылать. – Король улыбается придворным, и те приливают, как волна. – Разрази меня Бог, – продолжает Генрих, – если умышленно вами пренебрегал. Я знаю, кто мне друг.
На улице Рейф говорит:
– Разрази его Бог… Как же он страшно божится! – Обнимает хозяина. – Что ж, лучше поздно, чем никогда. Но послушайте, я должен вам кое-что рассказать, пока мы не дома.
– Говори сейчас. Что-то хорошее?
Подходит джентльмен и говорит:
– Господин секретарь, ваша барка готова доставить вас домой.
– Надо мне завести дом возле реки, – произносит Кромвель. – Как у Мора.
– И оставить Остин-фрайарз? – спрашивает Рейф. – Вспомните свой теннисный корт. Сады.
Король все подготовил втайне. Герб Гардинера сбили, и над флагом с розой Тюдоров сейчас поднимают флаг с гербом Кромвеля. Он впервые поднимается на борт собственной барки, и на реке Рейф сообщает свои новости. Качание суденышка под ногами едва ощутимо. Флаги обвисли. Все еще утро, мглистое, пегое; кожа, ткань или свежая листва – там, где на них попадает солнце – поблескивают, словно яичная скорлупа. Углы сглажены, весь мир лучится и напоен влажным зеленым ароматом.
– Я уже полгода женат, – говорит Рейф, – и никто не знает, только вы теперь знаете. Я женился на Хелен Барр.
– О, кровь Христова! – восклицает он. – В моем собственном доме! О чем ты думал?
Рейф безмолвно выслушивает все: ни гроша за душой, ни связей, ни положения, ничего, кроме красивой мордашки, ты мог бы жениться на богатой наследнице. Вот погоди, я сообщу твоему отцу! Он будет в ярости, скажет, что я за тобой не доглядел.
– А вообрази, что вдруг объявится ее муж!
– Вы сказали ей, что она свободна. – Рейф дрожит.
– Кто из нас свободен?
Он вспоминает, как Хелен спросила: «Так я могу снова выйти замуж? Если кто-нибудь меня возьмет?» Вспоминает ее долгий многозначительный взгляд, которого тогда не понял. С тем же успехом она могла пройтись перед ним колесом, он бы не заметил: для него разговор был окончен, и мысли уже двинулись в другую сторону. Если бы я сам перед нею не устоял, кто бы меня осудил за женитьбу на бедной прачке – да хоть на уличной попрошайке? Люди сказали бы: вот чего хотел мастер Кромвель, упругую женскую плоть, мудрено ли, что он пренебрег богатыми вдовушками. Ему не нужны деньги, не нужны связи, он волен следовать своим влечениям, он уже сегодня государственный секретарь, а завтра – кто знает?
Он смотрит на воду, то бурую, то прозрачную под солнцем, но всегда подвижную: в глубине ее рыбы, водоросли; утопленники колышут неживыми руками. На илистый берег выбрасывает пряжки от ремней, осколки стекла, мелкие монетки со стершимся профилем короля. Как-то в детстве он нашел подкову. Лошадь в реке? Ему казалось это большим везением. Однако отец сказал: если бы подковы приносили счастье, я был бы королем Страны Обжор.
Первым делом он идет на кухню рассказать Терстону новости.
– Ну, – весело говорит повар, – вы так и так эту работу исполняете. – Смеется. – Епископ Гардинер сгорит от злости. Его кишки изжарятся в собственном жиру. – Сдергиваете подноса окровавленное полотенце. – Видите этих перепелок? У осы и то больше мяса.
– Потушить их в мальвазии? – предлагает он.
– Что, три дюжины? Только вино переводить. Для вас, если хотите, могу и потушить. Это от лорда Лайла из Кале. Будете ему писать, скажите, пусть следующий раз, как захочет сделать вам подарок, шлет жирненьких или никаких. Запомните?
– Запишу для памяти, – серьезно отвечает он. – Думаю, теперь совет будет время от времени собираться здесь, когда без короля. Можно будет сперва кормить всех обедом.
– Верно. – Терстон хихикает. – Норфолку не помешало бы нарастить мясца на его тощие ноги.
– Терстон, ты можешь больше не пачкать руки. У тебя довольно помощников – надень золотую цепь и расхаживай между ними.
– А вы разве так поступаете? – Птичья тушка шмякается на поднос, Терстон счищает с пальцев налипшие перья. – Нет уж, я лучше сам. На случай, если все повернется иначе. Я не говорю, что так будет, но вспомните кардинала.
Он вспоминает Норфолка: велите ему убираться с глаз долой, иначе я сам к нему явлюсь и разорву его вот этими зубами.
Могу я сказать не «разорвете», а «покусаете»?
На память приходит пословица: homo homini lupus est,человек человеку волк.
– Итак, – говорит он Рейфу, – ты сделал себе имя, мастер Сэдлер. Подал отличный пример, как человек может сгубить свою будущность. Отцы будут указывать на тебя сыновьям.
– Я ничего не мог с собой поделать, сэр!
– Это как?
Рейф отвечает насколько может сухо:
– Я был охвачен сильнейшей страстью.
– И что это за ощущение? Вроде сильнейшего гнева?
– Наверное. Возможно. Чувствуешь себя более живым.
Интересно, думает он, влюблялся ли кардинал? Впрочем, какие могут быть сомнения? Всепоглощающая любовь Вулси к Вулси опалила всю Англию.
– Скажи мне, в тот вечер, после коронации… – Он встряхивает головой, перебирает бумаги на столе: письма от мэра Гулля.
– Я все расскажу, что ни спросите, – говорит Рейф. – Понять не могу, как я вам сразу не открылся. Только Хелен, моя жена, она думала, нам лучше хранить тайну.
– А теперь, как я понимаю, она ждет ребенка, и скрывать больше нельзя?
Рейф краснеет.
– В тот вечер, когда я пришел в Остин-фрайарз, чтобы отвезти ее к жене Кранмера, она спустилась… – его глаза движутся, словно снова видят ту картину, – она спустилась без чепца, а ты выбежал следом, взъерошенный, и был очень на меня зол…
– Да. – Рейф непроизвольно приглаживает волосы, будто сейчас это что-то исправит. – Все ушли на праздник. Тогда мы впервые сошлись, но это был не блуд. Она поклялась быть навеки моей.
Он думает, хорошо, что я взял к себе в дом не бесчувственного юнца, думающего только о своей выгоде. Тот, кто не знает порывов, не ведает и настоящей радости. Под моим покровительством Рейф может позволить себе следовать душевным порывам.
– Слушай, Рейф. Это… ну, видит Бог, это глупость, но не катастрофа. Скажи отцу, что мое возвышение обеспечит твою карьеру. Конечно, он будет рвать и метать. На то они и отцы. Он скажет, будь проклят день, когда я отдал сына в распутный дом Кромвеля. Но мы его урезоним. Постепенно.
До сих пор Рейф стоял, теперь оседает на табурет – голова запрокинута, руки стиснули виски, облегчение разливается по всему телу. Кого он так боялся? Меня?
– Послушай, как только твой отец увидит Хелен, он поймет, если только он не…
Если только что? Надо быть мертвым и в могиле, чтобы не увидеть ее прекрасное, дерзкое тело, ее кроткие глаза…
– Только надо снять полотняный фартук и нарядить ее как мистрис Сэдлер. И конечно, тебе потребуется свой дом. Тут я могу помочь. Я буду скучать по детям, я к ним привязался, и Мерси тоже, мы все их любим. Если хочешь, чтобы твой ребенок был первым в доме, мы можем оставить их здесь.
– Спасибо. Но Хелен с ними не расстанется. Мы уже все меж собой решили.
Значит, у меня в Остин-фрайарз больше не будет детей, думает он. Во всяком случае, пока я не оторвусь от королевских дел и не выделю время для ухаживаний; и пока не научусь слушать женщину, когда та ко мне обращается.
– Чтобы твой отец смягчился, скажем ему вот что: отныне, если я отлучаюсь от короля, с ним остаешься ты. Мастер Ризли пусть занимается шифрами и слежкой за иностранными послами – эта работа как раз для его хитрой натуры. Ричард будет в мое отсутствие за старшего в доме и конторе, мы же с тобой станем обхаживать Генриха как две нянюшки, исполняя каждый его каприз. – Он смеется. – Ты джентльмен по рождению. Король может приблизить тебя к себе, назначить камергером. Мне это было бы полезно.
– Я этого не ждал. Даже не думал о таком! – Рейф опускает глаза. – Конечно, я не смогу представить Хелен ко двору.
– В нынешнем мире – да. И я не думаю, что он изменится при нашей жизни. Однако ты сделал выбор. Не раскаивайся в нем ни сейчас, ни потом.
Рейф говорит с чувством:
– Разве я мог что-то от вас скрыть? Вы все видите!
– Хм. Только до определенного предела.
После ухода Рейфа он приступает к вечерней работе: бумага за бумагой ложится в свою стопку. Его билли приняты парламентом, но всегда есть следующий билль, который надо готовить. Составляя законы, проверяешь слова на прочность. Если закон предполагает наказание, имей силу наказывать: не только бедных, но и богатых, не только в Сассексе и Кенте, но и в Корнуолле, на границе с Шотландией и в болотах Уэльса. Он составил присягу, проверку на верность Генриху, и намерен привести к ней всех мужчин по городам и весям, а также всех сколько-нибудь значимых женщин: богатых вдов, землевладелиц. Его комиссары пройдут по холмам и долам, требуя от людей, едва слышавших об Анне Болейн, признать наследником ребенка в ее утробе. Если человек знает, что короля зовут Генрихом, пусть клянется; плевать, что он путает нынешнего монарха с его отцом или каким-нибудь другим Генрихом. Народ не помнит своих государей; их черты на монетах, которые он в детстве выуживал из речного ила, были едва ощутимой неровностью под пальцами; даже дома, счистив грязь, он не мог разобрать, кто на них. Это кто, король Цезарь? – спросил он. Уолтер сказал, дай глянуть, и тут же с отвращением отбросил монетку, сказав, это фартинг одного из тех королей, которые воевали во Франции. Иди зарабатывай, сказал отец, и выкинь из головы Цезаря – когда Адам лежал в колыбели, Цезарь уже был стариком.








