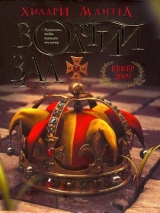
Текст книги "Волчий зал"
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц)
– Мой дорогой лорд-канцлер! – посол потрясенно смотрит на Томаса Мора. – Вы сказали такое о моем императоре? – Стрельнув глазами за плечо, Шапюи переходит на латынь.
Гости, которым латынь не внове, сидят и довольно улыбаются.
– Если хотите посекретничать, – любезно советует Томас, – попробуйте греческий. Allez, [33]33
Здесь:Ну же (фр.).
[Закрыть]мсье Шапюи, не стесняйтесь. Лорд-канцлер вас поймет.
Конец ужина скомкан. Лорд-канцлер встает, но перед уходом обращается к гостям по-английски:
– Мне кажется, позиция мастера Кромвеля весьма уязвима. Как всем известно, он не друг церкви, а всего лишь друг одного священнослужителя, притом самого порочного во всем христианском мире.
Сухо кивнув на прощанье, лорд-канцлер удаляется. Даже присутствие Шапюи его не удерживает. Тот нерешительно смотрит вслед, закусив губу, словно говоря: я рассчитывал на большую поддержку. Томас замечает привычку посла по-актерски гримасничать. Когда Шапюи думает, он опускает глаза и подносит ко лбу два пальца; когда грустит – испускает вздох; когда смущен – двигает щекой и кривит губы в полуулыбке. Императорский посол похож на комедианта, нечаянно забредшего в чужую пьесу и решившего остаться там, чтобы осмотреться.
Ужин завершен, гости выходят в ранние сумерки.
– Что, слишком рано разошлись? – спрашивает он Бонвизи.
– Томас Мор – мой старинный приятель. Вам не следовало на него нападать.
– Выходит, я испортил ужин? А сами пригласили Монмаута, думаете, он не воспринял это как нападение?
– Нет, Хемфри Монмаут тоже мой друг.
– А я?
– И вы.
Они плавно переходят на итальянский.
– Расскажите, что вы знаете о Томасе Уайетте.
Три года назад Уайетта неожиданно приставили к дипломатической миссии в Италии. Там ему пришлось несладко, но сейчас не о том. Почему его отослали от двора в такой спешке, вот что хотелось бы знать.
– А, Уайетт и леди Анна. Старая история.
Возможно, соглашается он и рассказывает Бонвизи о лютнисте Марке, который уверен, что Уайетт спал с Анной. Если лакеи и слуги по всей Европе вовсю чешут языками, неужто король не ведает?
– Наверное, в этом и заключается искусство правителя – знать, когда нужно закрыть уши. А Уайетт красавчик, – замечает Бонвизи, – правда, в вашем, английском духе. Высокий, светловолосый, мои земляки на него не надышатся. Откуда вы их берете? Самоуверенный малый да еще и поэт!
Он смеется: его друг Бонвизи, как все итальянцы, не может выговорить «Уайетт» – у него получается «Гуйетт», или что-то в этом роде. Когда-то в добрые старые времена Хоквуд, рыцарь графа Эссекса, отправился в Италию, чтобы грабить и насиловать, – итальянцы выговаривали его имя как Акуто, то есть Игла.
– Да, но Анне… – с его точки зрения она не их тех женщин, что падки на мужскую красоту. – В те времена Анне нужен был муж: имя, положение, позволявшее ей торговаться с королем, заманивать его в свои сети. Уайетт женат. Что он мог ей предложить?
– Стихи? – спрашивает купец. – Он оставил Англию не только ради дипломатической карьеры. Анна измучила его. Он больше не смел находиться с ней в одной комнате, в одном дворце. – Итальянец трясет головой. – Странный народ эти англичане!
– И не говорите!
– Вам следует быть осторожней. Ее семейство не знает удержу. Они говорят, обойдемся без папы. Почему бы не подписать брачный контракт без его участия?
– Что ж, это поможет сдвинуть дело с мертвой точки.
– Попробуйте засахаренный миндаль.
Он улыбается.
– Томмазо, могу я дать вам совет? – спрашивает Бонвизи. – С кардиналом покончено.
– Не будьте так уверены.
– Если бы вы его не любили, вы бы и сами это поняли.
– Я видел от кардинала только добро.
– Но сейчас его место на севере.
– Его затравят. Спросите послов. Спросите Шапюи. Спросите, о ком их донесения. Они в Ишере, они в Ричмонде. Toujours les dépêches.В тех депешах – про нас.
– Вы только вообразите, в чем его обвиняют! В незаконном правлении!
– Понимаю, – вздыхает он.
– И что вы думаете делать?
– Пожалуй, посоветую ему вести себя потише.
Бонвизи смеется.
– Ах, Томас! Вы же прекрасно понимаете: как только кардинал отправится на север, вы останетесь без хозяина. Вас привечает король, но долго это не продлится. Сейчас вы нужны ему, чтобы торговаться с кардиналом. А что потом?
Он отвечает не сразу.
– Король любит меня.
– Король – любовник ветреный.
– Не для Анны.
– Вот тут я и хочу вас предостеречь. Нет, не из-за Гуйетта, не из-за досужих сплетен, а потому, что скоро все закончится. Она уступит ему, она всего лишь женщина… подумайте, каким глупцом выставил себя тот, кто связывал свои надежды с ее сестрой.
– Да уж.
Он обводит глазами комнату. Вот здесь сидел лорд-канцлер, слева от него – голодные купцы, справа – новый посол. Здесь Генри Монмаут, еретик. Здесь Антонио Бонвизи. Здесь Томас Кромвель. А вот места для призраков: вкрадчивого толстяка Суффолка, Норфолка, звякающего реликвариями и восклицающего: «Клянусь мессой!» Вот место короля и маленькой мужественной королевы, оголодавшей в пост – ее чрево содрогается под прочной броней платья. А вот леди Анна: беспокойные черные глаза всегда в движении, она ничего не ест, она все замечает, теребя нитку жемчуга на тонкой шее. Вот место для Уильяма Тиндейла, вот – для папы; Климент смотрит на засахаренную айву, порезанную слишком крупно, и его губы – губы Медичи – кривятся. А вот, сочась елеем и жиром, сидит брат Мартин Лютер: хмуро оглядывает собравшихся, сплевывая рыбьи кости.
Входит слуга.
– Мастер, вас спрашивают двое юных джентльменов.
Он поднимает глаза.
– Да?
– Мастер Ричард Кромвель и мастер Рейф. Они пришли вместе со слугами, чтобы отвести вас домой.
Он понимает, ужин был предупреждением: отступись. Он еще вспомнит эту роковую расстановку: окажется ли она роковой? Нежный шорох и шепот камней, дальний грохот оседающих стен и крушащейся штукатурки, валунов, кромсающих хрупкие черепа. Звук, с которым на головы рушится крыша христианского мира.
– Да у вас тут целая армия, Томмазо, – замечает Бонвизи. – Думаю, осторожность вам не повредит.
– Я всегда осторожен.
Еще один, последний взгляд.
– Спокойной ночи. Славный был ужин, угорь особенно удался. Не пришлете своего повара пошептаться с моим? Я узнал рецепт нового соуса, весьма пикантного: мускатный орех, имбирь, немного сухих порубленных листьев мяты…
– Умоляю вас, – перебивает друг, – ведите себя осторожнее!
– … чуть-чуть, самую малость, чеснока…
– Где бы вам не пришлось ужинать в следующий раз, заклинаю…
– …щепоть хлебных крошек…
– …не садитесь рядом с Болейнами.
II Мой дражайший Кромвель
весна-декабрь 1530 года
Он приезжает в Йоркский дворец ни свет ни заря. Стреноженные чайки в садках выкликают товарок, которые кружат над рекой и с пронзительными воплями ныряют за стены замка. Возчики тянут в гору грузы с барж. Пахнет свежеиспеченным хлебом. Мальчишки волокут от реки вязанки свежих камышей, приветствуют его по имени. Он дает каждому по монетке и останавливается поболтать.
– Собрались к злодейке? А знаете, сударь, что она околдовала нашего короля? У вас есть образок или мощи, чтобы защититься от ее чар?
– Был образок, да потерялся.
– Попросите кардинала, он даст вам другой.
Резкий травяной запах камышей, превосходное утро. Он шагает по знакомым залам Йоркского дворца, видит полузабытое лицо, окликает:
– Марк?
Юноша лениво отлепляется от стены.
– Рановато поднялись. Как поживаете?
Угрюмо жмет плечами.
– Странно, должно быть, снова оказаться в Йоркском дворце, когда все вокруг переменилось.
– Нет.
– Скучаете по милорду кардиналу?
– Нет.
– Всем довольны?
– Да.
– Милорд будет рад услышать.
Про себя он замечает, тебе нет дела до нас, Марк, но нам-то есть дело до тебя. По крайней мере, мне; я не забуду, как ты назвал меня злодеем и предрек мне смерть на плахе. Истинно говорит кардинал: на свете нет безопасных мест, нет надежных стен. Исповедоваться в своих грехах английскому священнику – все равно что кричать о них на весь Чипсайд. Но когда я рассказывал кардиналу об убийстве, когда видел скользнувшую по стене тень, свидетелей не было. А значит, если Марк считает меня убийцей, то лишь потому, что у меня, на его взгляд, внешность душегуба.
Восемь комнат; в последней – где был бы кардинал – он находит Анну Болейн. А вот и старые знакомцы, Соломон и царица Савская, как прежде, рядышком на стене. Сквозняк колышет шпалеру; цветущая царица встрепенулась ему навстречу, и он ее приветствует: Ансельма, моя госпожа, сотворенная из мягкой шерсти, уж я и не чаял вас узреть.
Кромвель тайно писал в Антверпен, осведомлялся о новостях. Ансельма снова замужем, ответил Стивен Воэн, за молодым банкиром. Что ж, если новый муженек утонет или сломает шею, извести меня. Воэн в ответ удивляется: неужто в Англии перевелись хорошенькие вдовушки и юные девы?
Соседство с пышнотелой царицей не красит хозяйку: Анна тощая и угловатая, с землистым цветом лица. Стоит у окна, пальцы теребят побег розмарина. Завидев Кромвеля, она роняет стебелек, руки прячутся в длинные струящиеся рукава.
В декабре Генрих давал обед в честь отца Анны, нового графа Уилтширского. В отсутствие королевы Анна садится подле короля. Земля промерзла, ледяным холодом веет за столом. До окружения Вулси доходят лишь слухи. Вечно недовольная герцогиня Норфолкская вне себя, что племянница сидит выше нее. Герцогиня Суффолкская, сестра Генриха, отказывается есть. Обе сановные дамы не удостаивают дочь Болейна разговором. Но Анна все же заняла место первой леди королевства.
Кончается пост, и Генрих вынужден вернуться к жене – совесть не дает королю провести Страстную неделю с любовницей. Ее отец за границей по дипломатическим делам, равно как и брат Джордж, теперь лорд Рочфорд. За границей и Томас Уайетт, поэт, которого она мучит. Анне одиноко и скучно в Йоркском дворце, и она снисходит до Кромвеля, хоть какое-то развлечение.
Свора мелких собачек – три штуки – вылетают из-под хозяйкиных юбок и бросаются к нему.
– Не дайте им выскочить, – говорит Анна. Он ловко и нежно сгребает всех трех в охапку – чем не Белла? только у этих лохматые уши и пушистые хвосты, таких держат все купеческие жены по ту сторону Ла-Манша. Пока он держит собачек, они успевают покусать ему пальцы и одежду, облизать лицо и теперь не сводят преданных глаз-бусин, словно всю жизнь ждали его одного.
Двух он осторожно опускает на пол, третью, самую мелкую, подает Анне.
– Vous êtes gentil,вы очень добры, – благодарит она. – Надо же, как быстро мои крохи вас признали! Мне не по душе обезьянки, которых держит Екатерина. Les singes enchaînés.О, эти лапки, эти крохотные шейки, скованные цепью! А мои детки любят меня ради меня самой.
Анна субтильна. Тонкая кость, узкий стан. Если из двух студентов-правоведов выйдет один кардинал, то из двух Анн – одна Екатерина. Вокруг нее, на низких скамейках, вышивают – или делают вид, будто вышивают, – ее фрейлины. Мария Болейн сидит, прилежно опустив голову, притворяется, что увлечена работой. Нагловатая кузина, Мэри Шелтон, кровь с молоком, разглядывает его во все глаза. Наверняка теряется в догадках, Бог мой, неужели леди Кэри не могла найти никого получше? В тени прячется незнакомая девушка, отвернувшись, уставясь в пол. Кажется, он понимает, почему она прячется. Все дело в Анне. Теперь, передав собачку хозяйке, он тоже опускает глаза.
– Mors, [34]34
Итак (фр.).
[Закрыть]– начинает она мягко, – не поверите, мы только о вас и говорим. Король постоянно ссылается на мастера Кромвеля.
Анна произносит его имя на французский манер: Кремюэль.
– Он всегда прав, всегда точен… А, вот еще, мэтр Кремюэль умеет нас развеселить.
– Король любит время от времени посмеяться. А вы, мадам? В вашем теперешнем положении?
Она удостаивает его сердитым взглядом через плечо.
– Я редко. Смеюсь. Если задумываюсь, ноя стараюсь не думать.
– Жизнь последнее время вас не балует.
Пыльные обрывки, сухие стебли и листья у подола. Анна смотрит в окно.
– Позвольте сформулировать так, – говорит он. – С тех пор как милорд кардинал лишился королевской милости, многого ли вы добились?
– Ровным счетом ничего.
– А между тем никто не пользуется большим доверием христианских владык. Никто не понимает короля так, как он. Подумайте, леди Анна, как благодарен будет вам кардинал, если вы поможете устранить недоразумения и восстановить его доброе имя в глазах короля!
Она не отвечает.
– Подумайте, – не сдается он. – Кардинал – единственный человек в Англии, который может дать вам то, чего вы хотите.
– Хорошо, изложите его аргументы. У вас пять минут.
– Да, конечно, я вижу, как вы заняты.
Анна одаривает его неприязненным взглядом и переходит на французский:
– Откуда вам знать, чем я занята?
– Миледи, на каком языке мы беседуем? Выбор за вами, но определитесь, хорошо?
Краем взгляда он ощущает движение: девушка в тени поднимает глаза. Невзрачная, бледненькая, она потрясена его резкостью.
– Вам правда все равно? – спрашивает Анна.
– Все равно.
– Тогда французский.
Он снова повторяет: только кардинал способен добыть согласие папы, только кардинал успокоит королевскую совесть.
Анна внимает. Этого у нее не отнять. Его всегда удивляло, как женщины умудряются слышать под чепцами и вуалями, но, кажется, Анна действительно слушает. По крайней мере, дает ему высказаться, ни разу не перебив. Наконец она все-таки перебивает, помилуйте, мастер Кремюэль, если этого хочет король, если этого хочет кардинал – первый из его подданных – должна заметить: слишком долго дело не сдвинется с места!
– А она тем временем не молодеет, – еле слышно подает голос сестра.
Едва ли с тех пор как он вошел женщины сделали хоть стежок.
– Могу я продолжить? – говорит он. – Осталась у меня минута?
– Только одна, – говорит Анна. – В пост я ограничиваю свое терпение.
Он уговаривает ее прогнать клеветников, утверждающих, будто кардинал препятствует ее планам. Говорит, как больно кардиналу, что королю не удается осуществить свои чаяния, каковые есть и его, кардинала, чаяния. Ибо лишь на нее возлагают свои надежды подданные его величества, жаждущие обрести наследника престола. Он напоминает Анне о любезных письмах, которые она некогда писала кардиналу; его милость не забыл ни единого.
– Все это хорошо, – говорит Анна, когда он замолкает. – Все это хорошо, мастер Кремюэль, но неубедительно. От кардинала требовалось одно. Одно простое действие, которое он не пожелал выполнить.
– Вы не хуже меня понимаете, насколько непростое.
– Наверное, это выше моего понимания. Как вы считаете?
– Возможно, и выше. Я вас почти не знаю.
Ответ приводит Анну в ярость. Ее сестра ухмыляется. Я вас больше не задерживаю, говорит Анна. Мария вскакивает и устремляется вслед за ним.
И снова щеки Марии горят, рот приоткрыт. В руках работа; сперва это кажется ему странным, впрочем, возможно, если оставить вышивку возле Анны, та распустит стежки.
– Опять запыхались, леди Кэри?
– Мы уж было решили, она вскочит и залепит вам пощечину! Еще придете? Мы с Шелтон теперь и не знаем, как вас дождаться!
– Ничего, стерпит, – говорит он, и Мария соглашается, да, Анна любит перепалки среди своих. Над чем вы так прилежно трудитесь, спрашивает он. Мария протягивает вышивку, новый герб Анны. На всем подряд? – спрашивает он. А как же, с готовностью подхватывает Мария, сияя улыбкой. На нижних юбках, носовых платках, чепцах и вуалях. У нее столько новой одежды, везде должен быть вышит ее герб, не говоря уже о занавесях, салфетках…
– А как вы?
Она прячет глаза.
– Устала. Издергалась. Рождество выдалось…
– Я слышал, они ссорились.
– Сначала он поссорился с Екатериной, а после пришел искать сочувствия к ней. А она возьми да и скажи, я ведь просила вас ей не перечить, в спорах она всегда одерживает верх. Не будь он королем, – замечает Мария с явным удовольствием, – любой бы его пожалел. Что за собачью жизнь они ему устроили!
– Ходят слухи, что Анна…
– Пустое. Я узнала бы первой. Если бы она раздалась хоть на дюйм, именно я перешивала бы ей одежду. Только не будет этого, между ними ничего не было.
– Думаете, она вам скажет?
– Тут же! Лишь бы меня позлить.
Мария до сих пор ни разу не подняла глаз, но, кажется, искренне уверена, что снабжает его важными сведениями.
– Когда они наедине, она позволяет ему расшнуровать корсет.
– По крайней мере, король не просит вас помочь.
– Затем он поднимает ее сорочку и целует грудь.
– Надо же, он нашел там грудь?
Мария хохочет; заливисто, совсем не по-сестрински. Должно быть, хохот слышен в покоях Анны, потому что дверь распахивается, и к ним выбегает кроткая фрейлина. Сама серьезность и сосредоточенность, кожа так нежна, что кажется прозрачной.
– Леди Кэри, – обращается к Марии юная скромница, – леди Анна ждет вас.
Тон такой, словно говорит о двух паучихах.
Мария недовольно хмыкает, ах, ради всего святого, поворачивается на каблуках, изящным заученным движением подхватывает шлейф.
К удивлению Кромвеля, бледнокожая скромница ловит его взгляд, и за спиной у Марии Болейн возводит очи горе.
На обратном пути – восемь комнат отделяют его от прочих сегодняшних дел – он уже знает, что Анна встала у окна, чтобы он хорошенько ее разглядел. Разглядел утренний свет в ложбинке горла, тонкий изгиб бровей и улыбку; и то, как изящно сидит хорошенькая головка на длинной шейке. А также ее ум, рассудительность и строгость. Вряд ли он чего-нибудь от нее добьется, кардиналу не повезло, но попытка не пытка. Это мое первое предложение, думает он, возможно, не последнее.
Лишь однажды Анна одарила его пронзительным взглядом черных очей. Король тоже умеет так смотреть: мягкость его голубых глаз обманчива. Так вот как они смотрят друг на друга! Или иначе? На миг он понимает – но лишь на миг.
Он стоит у окна. Стайка скворцов расселась на голых ветках среди набухших черных почек. Внезапно – словно из почек выстреливают ростки – скворцы взмахивают крыльями; они поют, перелетают с ветки на ветку, и кажется, что мир состоит из полета, воздуха, крыльев и музыки этих порхающих черных клавиш. – Он смотрит на птиц и радуется: что-то давно потухшее, едва различимое, стремится навстречу весне. Несмело и отчаянно мысли обращаются к предстоящей Пасхе; дни покаяния позади, кончается пост. За этим беспросветным миром должен быть иной. Мир, где все возможно. Мир, в котором Анна может быть королевой, а Кромвель – Кромвелем. На миг он видит этот новый мир – но лишь на миг. Мгновение так мимолетно, и все же его нельзя отменить. Нельзя и вернуть.
Даже в пост найдутся сговорчивые мясники, главное – знать места. Он спускается на кухню в Остин-фрайарз поболтать с шеф-поваром.
– Кардинал болен и получил разрешение не поститься.
Повар стягивает колпак.
– От папы?
– От меня.
Он обегает взглядом ряды ножей и тесаков для рубки костей. Выбирает один, касается лезвия – нож требует заточки – спрашивает:
– Как думаешь, похож я на убийцу? Только честно.
Молчание. Помешкав, Терстон мямлит:
– Видите ли, сударь, должен сказать, что сейчас…
– Ясно, но представь, что я иду в Грейз-инн с бумагами и чернильницей подмышкой.
– Думаю, их должен нести писарь.
– Стало быть, не можешь представить?
Терстон снова стягивает колпак и выворачивает наизнанку, словно его мозги находятся внутри или, по крайней мере, там спрятана подсказка.
– Мне кажется, вы похожи на стряпчего, не на убийцу, нет, не на убийцу. Но если позволите, сударь, по вам сразу видно, что вы в два счета управитесь с разделкой туши.
Он велел приготовить кардиналу мясные рулетики с шалфеем и майораном. Они аккуратно перевязаны и уложены рядком на подносе – кардинальскому повару в Ричмонде останется только запечь. Покажите мне, где в Библии сказано, что нельзя есть мясные рулетики в марте.
Он думает о леди Анне, ее неутоленной потребности ссориться; о печальных дамах вокруг. Он посылает им корзинки с пирожными из засахаренных апельсинов и меда. Анне шлет тарелку миндального крема. Крем сбрызнут розовой водой, украшен засахаренными лепестками роз и фиалок. Он не настолько низко пал, чтобы самому доставлять угощение, но не так уж далеко от этого ушел. Давно ли он служил на кухне Фрескобальди во Флоренции? Может, давно, но память свежа, будто все было вчера. Он процеживал бульон из телячьей голяшки, болтая на смеси французского, тосканского и лондонского просторечий. Кто-то позвал: «Томмазо, тебя ждут наверху!» Не суетясь, он кивнул поваренку, тот подал таз с водой. Помыл руки, вытер их льняным полотенцем, повесил на гвоздь фартук. Вполне может статься, что фартук висит там до сего дня.
Парнишка младше его самого, стоя на карачках, скреб ступеньки и горланил:
– Подвинься, Джакомо, – попросил он.
Тот отстранился, освобождая проход. Луч света стер любопытство с лица, погасил его, растворяя прошлое в прошлом, расчищая место для будущего. Скарамелла идет на войну…Но ведь я и вправду был на войне, подумал он.
Он поднялся на второй этаж. В ушах грохот и спотыкание барабанов: ла дзомберо боро борометта.Он поднялся на второй этаж и никогда больше не спустится на кухню. В углу меняльной конторы Фрескобальди его ждал стол. Напевая Scaramella fa la gala – Скарамелла отправляется на праздник, – он занял свое место. Очинил перо. Мысли теснились, тосканские, кастильские ругательства, проклятья, которые он помнил со времен Патни. Но когда он доверил мысли перу, они легли на бумагу безупречно гладкой латынью.
Не успевает он подняться, а женщины уже знают, что он от Анны.
– Говори, – требует Джоанна, – высокая или низкая?
– Ни то ни другое.
– Я слыхала, высокая. Бледная, как поганка.
– Так и есть.
– Говорят, она очень грациозна, превосходно танцует.
– Мы не танцевали.
– А сам ты что думаешь? – вступает Мерси. – Правда ли, что она евангельской веры?
Он пожимает плечами:
– И не молились.
Алиса, маленькая племянница:
– Какое на ней было платье?
А вот наряд он готов расписать в деталях – от чепца до подола, от ступней до мизинцев: что, откуда и почем. Анна носит круглый чепец по французской моде, который выгодно подчеркивает тонкие скулы. Это объяснение женщины принимают с неодобрением, несмотря на тон, деловой и холодный.
– Она вам не понравилась? – спрашивает Алиса. Понравилась – не понравилась, не мне судить, да и тебе, Алиса, не советую, говорит он, тормоша племянницу и заставляя ее визжать от хохота. Наш хозяин сегодня в духе, говорит малышка Джо. А эта беличья отделка, начинает Мерси. Серая, отвечает он. А, серая, вздыхает Алиса и морщит носик. Должна сказать, ты стоял очень близко, замечает Джоанна.
– А зубы у нее хорошие? – спрашивает Мерси.
– Ради Бога, женщина! Когда она их в меня вонзит, я тебе сообщу.
Когда кардинал узнает, что Норфолк готов примчаться в Ричмонд и разорвать его собственными зубами, то, смеясь, замечает:
– Мать честная! Коли так, Томас, пора ехать.
Однако чтобы двинуться на север, Вулси нужны деньги. Проблема изложена королевскому совету, в котором нет согласья. Споры продолжаются и при нем.
– Нельзя же, – восклицает Чарльз Брэндон, – чтобы архиепископ пробирался на свою интронизацию [36]36
Будучи архиепископом Йоркским, Вулси тем не менее до этого времени не бывал в своей северной епархии. Его появление там должно было сопровождаться интронизацией – торжественной церемонией усаживания на архиепископскую кафедру в Йоркском соборе.
[Закрыть]тишком, словно лакей, стащивший ложки!
– Если бы ложки! – взрывается Норфолк. – Да он объел всю Англию, стянул скатерть и, клянусь Богом, вылакал винный погреб!
Генрих умеет быть неуловимым. Как-то раз, придя на аудиенцию к королю, Кромвель был вынужден довольствоваться обществом королевского секретаря.
– Садитесь, – говорит Гардинер, – слушайте. И держите себя в руках, пока я не закончу.
Он смотрит, как Гардинер снует по комнате, Стивен – полуденный демон: вихляя конечностями, каждой черточкой источая яд. Ручищи огромные, волосатые, а когда Стивен сжимает кулак и упирает в ладонь, костяшки хрустят.
Уходя, он уносит с собой слова Гардинера вместе с заключенной в них злобой. На пороге оборачивается, мягко улыбается:
– Ваш кузен кланяется вам.
Гардинер смотрит на него. Брови топорщатся, как собачий загривок. Неужто Кромвель смеет…
– Нет, не король, – успокаивает он секретаря. – Не его величество. Я говорил о вашем кузене Ричарде Уильямсе.
– Никакой он мне не родственник! – выпаливает Гардинер.
– Полноте! Быть королевским бастардом – не позор. По крайней мере, так считают в моей семье.
– В вашей семье? Да что вы понимаете о пристойности? Я не желаю знать этого юнца, не собираюсь с ним водиться и не намерен ему помогать!
– Право, незачем утруждаться. С недавних пор он зовет себя Ричардом Кромвелем.
Уходя – на сей раз окончательно – он добавляет:
– Пусть совесть вас не гложет, Стивен. Я присмотрю за Ричардом. Ему вы, возможно, и родственник. Но не мне.
Он улыбается, но внутри все кипит от ярости, словно в кровь впрыснули яд и она стала бесцветной, как у змеи. Дома он хватает в охапку Рейфа Сэдлера и лохматит тому волосы.
– Вот и пойми: мальчик или еж? Ричард, Рейф, я полон раскаяния.
– На то и пост, – замечает Рейф.
– Как бы мне хотелось обрести спокойствие! Проникнуть в курятник, не задев ни перышка. Меньше походить на дядю Норфолка и больше – на Марлинспайка.
Долгий разговор с Ричардом, который хохочет над его валлийским. Когда-то знакомые выражения стерлись из памяти, и он то и дело жульничает: произносит английские слова на валлийский манер. Племянницам достаются браслеты с жемчугами и кораллами, купленные давно, да недосуг было подарить. Он спускается на кухню и весело отдает приказания.
Затем собирает слуг и приказчиков.
– Мы должны все продумать заранее, смягчить кардиналу дорожные тяготы. Передвигаться будем медленно, дабы народ мог выразить его милости свое почтение. Страстную неделю кардинал проведет в Питерборо, оттуда, с остановками, доберется до Саутвелла, где наметим дальнейший путь к Йорку. Комнаты в Саутвеллском дворце вполне пригодны для жилья, однако не мешало бы нанять строителей…
Джордж Кавендиш говорит, что кардинал проводит время в молитвах, в обществе угодливых ричмондских монахов, которые без устали расписывают его милости благотворное воздействие шипов, впивающихся вплоть, сладость соли, щедро насыпаемой на раны, изысканный вкус хлеба с водой и унылые радости самобичевания.
– Хватит, мое терпение лопнуло. Чем скорее кардинал окажется в Йоркшире, тем лучше! – негодует он.
Обращается к Норфолку:
– Так как же, милорд, хотите вы, чтобы он уехал, или нет? Хотите? Тогда идемте со мной к королю.
Норфолк хмыкает. Короля испрашивают об аудиенции. Спустя день или два они встречаются под дверью королевских покоев. Герцог меряет шагами приемную.
– Святой Иуда! – выпаливает Норфолк. – Да тут можно задохнуться! Выйдем на улицу? Или ваш брат стряпчий обходится без воздуха?
Они прохаживаются в саду. Вернее, прохаживается он, герцог тяжело топает и пыхтит.
– Зачем тут цветы? – ворчит Норфолк. – Когда я был ребенком, никаких цветов не было в помине! А все Бекингем. Он завел эту чепуху. Баловство одно.
В 1521 году страстному садовнику герцогу Бекингему отрубили голову за измену. С тех пор не прошло и десяти лет. Печально вспоминать об этом весной, когда из каждого куста доносятся птичьи трели.
Их зовут к королю. Герцог артачится, как норовистый жеребец, глаза вращаются, ноздри раздуты. Кромвель шагает слишком быстро, и Норфолк кладет ему руку на плечо, вынуждая умерить шаг, и вот они тащатся друг за другом, процессия искалеченных вояк. Scaramella va alia guerra…Рука Норфолка дрожит.
Но лишь когда они предстают перед королем, он окончательно понимает, как не по себе старому герцогу в присутствии Генриха Тюдора. Рядом с этим золотым весельчаком Норфолк съеживается под одеждой.
Генрих приветлив. Дивный день, не правда ли? Как дивно устроен этот мир, не находите? Король расхаживает по комнате, широко раскинув руки и декламируя вирши собственного сочинения. Он готов беседовать о чем угодно, только не о кардинале. Норфолк багровеет и начинает бурчать. Аудиенция окончена, они идут к двери.
– Кромвель, стойте, – произносит Генрих.
Они с герцогом обмениваются взглядами.
– Клянусь мессой… – бормочет Норфолк.
За спиной Кромвель делает жест, означающий, ступайте, милорд Норфолк, я вас догоню.
Генрих стоит, скрестив руки, опустив глаза. Он разбирает шепот короля, лишь подойдя совсем близко.
– Тысячи хватит?
На языке вертится ответ: первой из тех десяти, которые, насколько мне известно, вы задолжали кардиналу Йоркскому десять лет назад?
Нет, он не осмелится. В такие минуты Генрих ждет, что ты упадешь на колени: герцог или крестьянин, грузный или тощий, молодой или дряхлый. Что ты и делаешь. Шрамы ноют: немногим, дожившим до сорока, удалось избегнуть ран.
Король делает знак – можно встать.
– А герцог Норфолк вас отличает. – Генрих удивлен.
Рука на плече, догадывается он: минутное дрожание герцогской длани на плебейских мышцах и костях.
– Герцог всегда помнит о своем статусе и никогда не переходит границ.
Генриха успокаивает ответ.
Непрошеная мысль не дает покоя: что если вы, Генрих Тюдор, лишитесь чувств и рухнете к моим ногам? Будет ли мне дозволено поднять вас или придется звать на подмогу герцога? Или епископа?
Генрих уходит, оборачивается, несмело произносит:
– Каждый день я ощущаю отсутствие кардинала Йоркского.
Пауза, шепот. Берите деньги, с нашим благословением, герцогу не говорите, никому не говорите. Попросите вашего господина обо мне помолиться. Скажите, я сделал, что мог.
Слова, которые он произносит в ответ, так и не встав с колен, проникновенны и красноречивы.
Генрих смотрит печально:
– Бог мой, а у вас неплохо подвешен язык, мастер Кромвель.
Сохраняя внешнюю торжественность – и борясь с желанием улыбнуться во весь рот, – он выходит. Scaramella fa la gala…«Каждый день я ощущаю отсутствие кардинала Йоркского».
Ну что, что он сказал, налетает на него Норфолк. Да так, ничего особенного. Слова порицания, которые я должен передать кардиналу.
Маршрут проложен. Кардинальский скарб грузят на барки до Гулля, оттуда его будут переправлять по суше. Он сбивает цену у лодочников.
Пойми, объясняет он Рейфу, тысяча не так уж много, когда в путь отправляется кардинал.
– Во сколько вам обошлось это безнадежное предприятие?
Есть долги, которые невозможно отдать.
– Я помню тех, кто мне должен, но, видит Бог, и своих долгов не забываю.
– Скольких слуг он взял? – спрашивает он Кавендиша.
– Всего сто шестьдесят.
– Всего. – Кивает. – Хорошо.
Хендон. Ройстон. Хантингдон. Питерборо. Он высылает гонцов вперед, с подробнейшими указаниями.
В вечер перед отъездом Вулси протягивает ему сверток. Внутри что-то маленькое и твердое. Печать или кольцо.
– Откроете, когда меня не станет.
Люди входят и выходят, вынося из кардинальских покоев сундуки и связки бумаг. Кавендиш слоняется, не зная, куда пристроить серебряную дарохранительницу.








