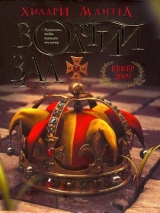
Текст книги "Волчий зал"
Автор книги: Хилари Мантел
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
– Латимер? – Гардинер качает головой, но не может сказать вслух, что королева покровительствует еретикам. – Роуланд Ли, как мне доподлинно известно, никогда в жизни не стоял за кафедрой. Некоторые люди приходят в церковь только из честолюбия.
– И благородно пытаются это скрыть.
– Я не сам выбрал для себя этот путь, – говорит епископ, – но, видит Бог, Кромвель, я честно им иду.
Кромвель смотрит на Анну. Ее глаза торжествующе блестят. От нее не ускользает ни единое слово.
Генрих говорит:
– Милорд Винчестер, вы долго пробыли за границей по посольским делам.
– Надеюсь, ваше величество согласится, что к вашей пользе.
– И тем не менее вы невольно пренебрегали делами своей епархии.
– Как пастырь вы должны заботиться о своих овцах, – говорит Анна. – Возможно, считать их.
Гардинер кланяется:
– Мои овцы надежно присмотрены.
Что еще может сделать король? Самолично спустить епископа с лестницы, кликнуть стражу, чтобы того уволокли силой? Генрих произносит негромко:
– И все же не стану вас удерживать. Можете со спокойной душой съездить в свою епархию.
От пса, когда тот готов броситься в драку, идет особый запах. Сейчас он наполняет комнату. Анна брезгливо отводит взгляд, Стивен кладет руку на грудь, словно хочет вздыбить шерсть, стать больше, прежде чем оскалить клыки.
– Я вернусь к вашему величеству через неделю, – говорит Стивен. Елейные слова вырываются из глотки, как утробный рык.
Король хохочет.
– А пока нам по душе Кромвель. Мы довольны его обхождением.
Как только Винчестер выходит, Анна вновь прижимается к королю, стреляет глазами, словно предлагает ему разделить тайну. Она по-прежнему туго зашнурована; единственный внешний признак беременности – чуть набухшая грудь. Никто официально не объявляет, что королева ждет наследника: когда речь идет о женской утробе, ничего нельзя знать наверняка. Возможны ошибки. Однако весь двор уверен, что она носит под сердцем дитя, и сама Анна так говорит: яблоки на сей раз не упоминаются, все, на что ее тянуло тогда, теперь вызывает отвращение – так что по всем признакам будет мальчик. Билль, который он намерен предложить палате общин, не предвосхищает несчастье, как думается Анне, а напротив, упрочивает ее статус. В этом году ей исполнится тридцать три. И как он мог столько лет смеяться над ее плоской грудью и желтоватой кожей? Теперь, когда она королева, даже Кромвель видит, что Анна – красавица. Черты правильные, точеные, головка маленькая, как у кошки, шея отливает минеральным блеском, словно припудренная золотой обманкой.
Генрих говорит:
– Как посол Стивен несомненно хорош, однако я не могу держать его при себе. Я доверял ему в самом важном, а теперь он против меня. – Качает головой. – Я ненавижу неблагодарность. Ненавижу вероломство. Вот за что я ценю вас. Вы не отступились от своего господина, когда того постигла беда. Для меня это – лучшая рекомендация. – Можно подумать, беда постигла Вулси без всякого участия короля. Можно подумать, с вершины власти его сбросила молния. – И еще меня огорчает Томас Мор.
Анна говорит:
– Когда будете составлять билль против лжепророчицы Бартон, включите туда, кроме Фишера, еще и Мора.
Кромвель качает головой.
– Не выйдет. Парламент не примет. Против Фишера довольно свидетельств, и члены палаты общин его не любят, он говорит с ними, словно с турками. Однако Мор приходил ко мне еще до ареста Бартон и доказал свою полную непричастность.
– Но это его напугает, – говорит Анна. – Так пусть испугается. Страх лишает человека воли. Мне случалось такое наблюдать.
Три часа дня. Вносят свечи. Он сверяется с журналом Ричарда: Джон Фишер ждет. Сейчас надо вызвать в себе злость. Он пробует думать о Гардинере, но его разбирает смех.
– Сделайте лицо, – говорит Ричард.
– Вы не поверите, но Гардинер мне должен. Я оплатил его назначение на Винчестерскую епархию.
– Стребуйте с него долг, сэр.
– Я уже забрал для королевы его дом. Он до сих пор горюет. Я не хочу припирать Стивена к стене – надо оставить ему путь к отступлению.
Епископ Фишер сидит, возложив костлявые руки на трость черного дерева.
– Доброе утро, милорд, – говорит Кромвель. – Почему вы так легковерны?
Епископ удивлен, что они не начали с молитвы, тем не менее бормочет благословение.
– Вам следует молить короля о прощении. Сошлитесь на свои лета и телесную немощь.
– Я не знаю, в чем моя вина. И что бы вы ни воображали, я еще не выжил из ума.
– А я думаю, что выжили. Иначе как бы вы поверили этой Бартон? Увидев на улице кукольный балаган, вы не станете кричать: «Ах, как они ступают деревянными ножками, как машут деревянными ручками! Слушайте, как они дудят в свои трубы!» Ведь не станете же?
– Я никогда не видел кукольного балагана, – печально говорит Фишер. – По крайней мере такого, как вы описываете.
– Но вы в него попали, милорд епископ! Оглянитесь! Это все – один большой балаган.
– Однако очень многие ей поверили, – кротко отвечает Фишер. – Сам Уорхем, тогдашний архиепископ Кентерберийский. Десятки, сотни набожных и образованных людей. Они засвидетельствовали ее чудеса. И она не могла прямо говорить о том, что открыли ей небеса. Мы знаем, что Господь изъявляет свою волю через своих служителей. У пророка Амоса сказано…
– Не тычьте мне в нос пророком Амосом! Она угрожала королю. Предсказывала ему смерть.
– Предсказывать не значит желать. А уж тем более – замышлять.
– Она никогда не предсказывала того, чего не желала. Она встречалась с недругами короля и обнадеживала их, описывая им, как все будет.
– Если вы о лорде Эксетере, – говорит епископ, – то король его уже простил, как и леди Гертруду. Будь они виновны, король привлек бы их к суду.
– Одно из другого не вытекает. Генрих стремится к миру и потому решил их помиловать. Возможно, он помилует и вас, но прежде вам следует признать свою вину. Эксетер не печатал инвективы против короля, а вы печатали.
– Какие инвективы? Покажите.
– Вы подписывали их чужим именем, милорд, однако меня не обмануть. Больше вы ничего не опубликуете.
Фишер вскидывает глаза. Видно, как движутся кости под сухой старческой кожей; пальцы сжимают трость с рукоятью в виде золоченого дельфина.
– Ваши заграничные издатели теперь работают на меня. Стивен Воэн предложил им более высокую плату.
– Вы преследуете меня из-за развода, – говорит Фишер. – Не из-за Элизабет Бартон, а потому, что королева Екатерина просила у меня совета, и я его дал.
– Когда я требую соблюдать закон, вы говорите, что я вас преследую? Не пытайтесь увести меня от своей провидицы, не то я отправлю вас к ней и запру в соседней камере. Поверили бы вы, если бы она увидела коронацию Анны за год до самого события и объявила, что небеса благоволят новому браку короля? Не сомневаюсь, в таком случае вы бы объявили ее ведьмой.
Фишер трясет головой, уводит в сторону:
– Знаете, я всю жизнь мучился вопросом: Мария Магдалина и Мария, сестра Марфы – одно ли это лицо? Элизабет Бартон сказала мне твердо, что – да. У нее не было ни малейших сомнений.
Кромвель смеется.
– О, это ее ближайшие знакомые, она запросто к ним заглядывает. Не раз ела с Богородицей из одной миски. А теперь послушайте, милорд, святая простота была хороша в свое время, но оно миновало. Идет война. Если вы не видите за окном воинов императора, не обманывайтесь: мы воюем, и вы в стане врага.
Епископ молчит, слегка покачиваясь на табурете. Фыркает.
– Теперь я понимаю, почему Вулси взял вас на службу. Вы негодяй, как и он. Я сорок лет ношу священнический сан и никогда не видел таких подлецов, как те, что сейчас у трона. Таких нечестивых советников.
– Заболейте, – говорит Кромвель. – Слягте в постель. Это мой вам совет.
Билль против кентской девственницы и ее сообщников поступает в палату лордов утром двадцать первого февраля, в субботу. Там значится имя Фишера и, по настоянию короля, Мора. Он отправляется в Тауэр к Бартон – выяснить, не хочет ли она перед смертью рассказать что-нибудь еще.
Она пережила эту зиму, когда ее возили по стране и в каждом городе заставляли повторять признание, стоя на эшафоте, на пронизывающем ветру. Он приносит свечу и видит, что она обмякла на табурете, как плохо увязанный тюк с тряпьем. Воздух разом холодный и затхлый. Она поднимает голову и говорит, словно продолжая недавно прерванный разговор:
– Мария Магдалина сказала мне, что я умру.
Возможно, думает он, она разговаривала со мной у себя в голове.
– А день она назвала?
– Вы хотите его знать? – спрашивает Бартон, и у него мелькает мысль: уж не проведала ли она, что парламент, возмущенный тем, что в список включили Мора, готов отложить принятие билля до весны. – Я рада, что вы пришли, мастер Кромвель. Здесь ничего не происходит.
Даже самые долгие, самые изощренные допросы ее не запугали. На какие только ухищрения он ни шел, чтобы притянуть к делу Екатерину, – все безрезультатно. Он спрашивает:
– Тебя хорошо кормят?
– О да. И одежду мне стирают. А я все вспоминаю, как ходила в Ламбет к архиепископу. Так было хорошо. Река, народ суетится, лодки разгружают. Вы знаете, что меня сожгут? Лорд Одли сказал, что меня сожгут.
Она говорит об Одли, как о старинном друге.
– Надеюсь, тебе заменят казнь на более легкую. Это решает король.
– Я ночами бываю в аду, – говорит она. – Господин Люцифер показал мне кресло, сделанное из человеческих костей и обитое огненными подушками.
– Для меня?
– Христос с вами, нет конечно. Для короля.
– Вулси больше не видели?
– Кардинал все там же. – То есть среди нерожденных. Долгая пауза, за время которой ее мысль вновь уплывает в другую сторону. – Говорят, тело горит час. Матерь Мария меня прославит. Я буду купаться в пламени, как в ручье. Для меня оно будет прохладным. – Она смотрит ему в лицо, но, увидев его выражение, отводит взгляд. – Иногда в дрова подкладывают порох, да? Чтобы горели быстрее. Скольких сожгут со мной?
Шестерых. Он называет имена.
– Их могло быть и шестьдесят, ты понимаешь? И всех сгубило твое тщеславие. – Говоря это, он думает: верно и то, что ее сгубило их тщеславие. И еще он видит, что она не прочь была бы утащить с собой шестьдесят человек, сгубить семейства Полей и Куртенэ – ведь это упрочило бы ее славу. Если так, странно, что она не указала на Екатерину. Какой триумф для пророчицы – уничтожить королеву! Вот как я должен был действовать – сыграть на ее ненасытном честолюбии.
– Я вас больше не увижу? – спрашивает она. – Или вы будете при моем мученичестве?
– Этот трон, – говорит он, – кресло из костей. Лучше о нем помолчать. Чтобы не дошло до короля.
– Думаю, ему стоит знать, что ждет его после смерти. А что он мне сделает хуже того, что уже присудил?
– Не хочешь сказать, что беременна? Казнь отложат.
Она краснеет.
– Я не беременна. Вы надо мной смеетесь.
– Я всякому посоветовал бы выгадать несколько недель жизни, любым способом. Скажи, что тебя обесчестили в дороге. Что стражники над тобой надругались.
– Тогда мне придется сказать, кто это был, и этих людей приведут к судье.
Он качает головой, жалея Бартон.
– Стражник, который насилует арестантку, не сообщает ей своего имени.
Впрочем, видно, его совет ей не по душе. Он уходит. Тауэр – целый город, и вокруг уже громыхает обычная утренняя суета. Стража и работники Монетного двора здороваются с ним, начальник королевского зверинца подходит сказать, что пришло время кормежки – звери едят рано, – и не угодно ли вам будет посмотреть? Премного благодарен, отвечает он, как-нибудь в другой раз. Сам он еще не ел, и его слегка мутит. От клеток пахнет несвежей кровью, слышно урчание и приглушенный рык. Высоко на стене невидимый стражник насвистывает старую песенку, потом затягивает припев. Я веселый лесник, поет стражник. Вот уж неправда!
Он ищет взглядом своих гребцов. Бартон выглядит не ахти – если она больна, то доживет ли до казни? Ее не истязали, только заставляли бодрствовать ночь или две кряду, не больше, чем сам он бодрствовал на королевской службе, а меня, думает он, это не заставило никого оговорить. Сейчас девять утра; в десять обед с Норфолком и Одли; по крайней мере, можно надеяться, что они не будут рычать, как звери в зверинце, обдавая его смрадом. Бледное солнце украдкой смотрит из-за облаков, над рекой завивается дымка – белые росчерки тумана.
В Вестминстере герцог гонит прочь слуг.
– Если захочу вина, сам себе налью! Вон, пошли все вон! И дверь закройте! Поймаю у замочной скважины – освежую и засолю!
Кромвель, кряхтя, садится на стул.
– А что если я встану перед ним на колени и скажу, Генрих, Христа ради, вычеркните Томаса Мора из билля об опале?
– Что если мы все встанем на колени? – подхватывает Одли.
– Да, и Кранмер тоже. Мы не дадим ему отвертеться от этого миленького спектакля.
– Король клянется, – говорит Одли, – что если билль не примут, он сам придет в парламент, если надо, в обе палаты, и будет настаивать.
– И сядет в лужу, – отвечает герцог, – при всем честном народе. Бога ради, Кромвель, отговорите его. Позволил же он Мору уползти в Челси и нянчиться там со своей бесценной совестью, хоть и знал, что тот думает. Бьюсь об заклад, крови Мора требует моя племянница. Она на него злится. Женская месть.
– Думаю, на него злится король.
– А это, на мой взгляд, слабость, – объявляет Норфолк. – Что королю до Мора с его суждениями?
Одли неуверенно улыбается.
– Вы назвали короля слабым?
– Назвал короля слабым?! – Герцог подается вперед и трещит Одли в лицо, как говорящая сорока: – Что это, у лорда-канцлера прорезался собственный голос? Обычно вы ждете, пока заговорит Томас Кромвель, а потом чирик-чик-чик, да, сэр, нет, сэр, как скажешь, Том Кромвель.
Дверь открывается, и в нее заглядывает Зовите-меня-Ризли.
– Клянусь Богом! – взрывается герцог. – Будь у меня арбалет, я бы отстрелил вам башку. Я велел никого не впускать!
– Пришел Уилл Ропер. С письмами от тестя. Мор желает знать, как вы с ним поступите, сэр, если признали, что по закону он чист.
– Скажите Уиллу, мы репетируем, как будем на коленях просить короля, чтобы тот вычеркнул Мора из списка.
Герцог опрокидывает в глотку вино из кубка – которого собственноручно себе налил – и с грохотом ставит кубок на стол.
– Ваш кардинал говорил, Генрих скорее отдаст полцарства, чем поступится своим капризом.
– Однако я его уговариваю… и вы, лорд-канцлер, ведь тоже?..
– О да! – восклицает герцог. – Если Том уговаривает, то и лорд-канцлер туда же. Курлы-мурлы!
Зовите-меня хлопает глазами.
– Можно пригласить Уилла?
– Так мы согласны? Молим на коленях?
– Я без Кранмера не пойду, – объявляет герцог. – С какой стати мирянину утруждать суставы?
– Позвать милорда Суффолка тоже? – спрашивает Одли.
– Нет. У него сын при смерти. Наследник. – Герцог утирает рукой рот. – Без месяца восемнадцать лет. – Перебирает реликварии, образки. – У Брэндона только один сын. И у меня. И у вас, Кромвель. И у Томаса Мора. У всех по одному. Дай Бог Чарльзу сил, придется ему, не щадя себя, заводить новых детей с новой женой. – Лающий смешок. – Если бы я мог отправить в отставку старую жену, я бы тоже взял себе славненькую пятнадцатилетку. Да только поди ее сплавь!
Одли багровеет:
– Милорд, вы женаты, и благополучно женаты, двадцать лет!
– А то я без вас не знаю. Все равно что заталкивать себя в старый кожаный мешок. – Костлявая рука герцога стискивает его плечо. – Добудьте мне развод, Кромвель, а? Вы с милордом архиепископом придумайте какую-нибудь лазейку. Обещаю, из-за моего развода никого не убьют.
– А кого убивают? – спрашивает Ризли.
– Мы собираемся убить Томаса Мора, разве нет? Точим нож на старика Фишера.
– Боже упаси. – Лорд-канцлер встает, запахивает мантию. – О смертной казни речи не идет. Мор и епископ Рочестерский всего лишь соучастники.
– Что, – говорит Ризли, – безусловно, тоже тяжкое преступление.
Норфолк пожимает плечами.
– Сейчас или позже – разница невелика. Мор не примет вашу присягу. И Фишер тоже.
– Я совершенно убежден, что они ее примут, – говорит Одли. – Мы приведем неоспоримые доводы. Ни один разумный человек не откажется присягнуть будущему наследнику престола ради блага своей страны.
– Значит, Екатерина тоже должна присягнуть, – говорит герцог, – чтобы дети моей племянницы правили без помех? А как насчет Марии – вы и ее намерены привести к присяге? А если они откажутся, что вы будете делать? Отволочете их на Тайберн и вздернете, на радость их родичу-императору?
Они с Одли обмениваются взглядами. Одли говорит:
– Милорд, вам не следует пить до обеда так много вина.
– О, чирив-чив-чив, – отвечает герцог.
Неделю назад он навещал в Хэтфилде двух августейших особ, принцессу Елизавету и леди Марию, дочь короля.
– Упаси тебя Бог перепутать титулы, – сказал он Грегори по дороге.
Грегори ответил:
– Ты уже жалеешь, что взял не Ричарда.
Ему не хотелось уезжать из Лондона, когда в парламенте такое жаркое время, но король настоял: обернетесь за два дня, я хочу, чтобы вы своими глазами взглянули, что там у них и как. Снег тает, по дорогам бегут ручьи, в рощицах, где всегда тень, на лужах еще по-прежнему лед. Когда они переправлялись через реку в Хертфордшир, ненадолго выглянуло солнце; терновник тянет корявые ветки с белыми цветочками – хочет вручить ему петицию против излишне долгой английской зимы.
– Я здесь бывал, давно. Тогда это был дворец кардинала Мортона, архиепископа Кентерберийского. Весной, когда заканчивалась судебная сессия и становилось теплее, он перебирался сюда. Мне было лет девять-десять. Дядя Джон сажал меня на провиантскую телегу с лучшими сырами и паштетами, чтобы их не стащили при остановке.
– А охраны у вас не было?
– Охраны-то он и боялся.
– Quis custodiet ipsos custodes? [94]94
Кто будет стеречь сторожей? (Ювенал, «Сатиры»).
[Закрыть]
– Я, очевидно.
– А что бы ты сделал?
– Не знаю. Покусал их?
Старый кирпичный фасад оказался ниже, чем ему помнилось, но с детскими воспоминаниями так всегда. Пажи и джентльмены выбегают во двор, конюхи берут лошадей под уздцы и ведут на конюшню, в доме ждет подогретое вино – совсем не так его встречали здесь прежде. Таскать воду и дрова, топить печи – тяжелое занятие для ребенка, но он упорно работал наравне со взрослыми, голодный и грязный, пока кто-нибудь не замечал, что он валится с ног, или пока не падал на самом деле.
Всем этим странным хозяйством заведует сэр Джон Шелтон, но Кромвель подгадал время, когда сэр Джон в отъезде: ему надо поговорить с женщинами, а не слушать, как Шелтон после обеда разглагольствует о лошадях, собаках и своих юношеских подвигах. Впрочем, на пороге он жалеет о своем решении: по лестнице старческой походкой семенит леди Брайан, мать одноглазого Фрэнсиса, воспитательница маленькой принцессы. Ей почти семьдесят, она давным-давно бабушка, и он видит, как шевелятся ее губы, до того как может различить голос: ее милость спала до одиннадцати, кричала до полуночи, измучилась совсем наша ласточка, часик подремала, проснулась квелая, щечки красные, заподозрили лихорадку, разбудили леди Шелтон, подняли врачей, уже зубки режутся, опасное время! Дали успокаивающую микстурку, к рассвету угомонилась, проснулась в девять, покушала…
– Ой, мастер Кромвель! – говорит леди Брайан. – Да неужто это ваш сын! Какой статный, благослови его Бог, да какой высокий! А лицом-то как пригож, наверное, в мать. А сколько ему годочков?
– Столько, что он уже сам умеет говорить.
Леди Брайан обращает к Грегори счастливое лицо, словно предвкушая, что сейчас они вместе прочтут детский стишок. Вплывает леди Шелтон.
– Добрый день, господа. – Секундная заминка: должна ли тетка королевы сделать реверанс перед хранителем королевских драгоценностей? Подумав, леди Шелтон решает, что не должна. – Полагаю, леди Брайан уже сполна отчиталась вам о своей подопечной?
– О да, и, возможно, теперь мы можем выслушать отчет о вашей.
– Вы не хотите посетить леди Марию?
– После того как ее предупредят…
– Конечно. Я вхожу к леди Марии без оружия, хотя моя племянница Анна и советует ее бить. – Она окидывает его взглядом, проверяя, какое впечатление произвела; воздух потрескивает, словно перед грозой. И как женщинам такое удается? Не исключено, что этот трюк можно освоить. Он не столько видит, сколько чувствует, как его сын отступает назад, пока не упирается в буфет, в котором выставлена уже довольно внушительная коллекция золотой и серебряной посуды, подаренной принцессе Елизавете. Леди Шелтон говорит:
– Мне поручено, если леди Мария не будет меня слушать – и здесь я дословно цитирую королеву, – бить ее смертным боем, приблуду этакую.
– О, матерь Божия! – стонет леди Брайан. – Я ведь и Марию тоже воспитывала, уж такая она была упрямица в детстве – если с годами не исправилась, то и бейте, раз позволили. Вы ведь сперва захотите посмотреть на малютку, господа? Идемте со мной. – Хваткой няньки или стражника она берет Грегори за локоть и продолжает трещать без умолку: в таком возрасте жар это так страшно! Вдруг, не приведи Господи, корь. Или оспа. Когда у шестимесячного ребенка жар, это может быть любая болезнь… Говоря, леди Брайан часто облизывает пересохшие губы. На горле пульсирует жилка.
Он понимает, зачем Генрих послал его сюда. То, что здесь происходит, в письме не изложишь. Он спрашивает леди Шелтон:
– Вы хотите сказать, королева в письме распорядилась бить леди Марию? Этими самыми словами?
– Нет, это были устные указания. – Она обгоняет его на ходу. – Вы считаете, что я должна им следовать?
– Пожалуй, нам лучше побеседовать наедине, – тихо отвечает он.
– Можно и наедине, – бросает она через плечо.
Маленькая Елизавета туго спеленута в несколько слоев, кулачки примотаны, и хорошо, потому что вид у нее такой, будто она не прочь двинуть тебе в глаз. Жесткие рыжие волосенки выбились из-под чепчика, глаза смотрят настороженно – он никогда не видел, чтобы младенец в колыбели выглядел таким обидчивым.
Леди Брайан спрашивает:
– Ведь правда похожа на короля?
Он мнется, не желая обидеть ни одну из родственных сторон.
– Насколько может быть похожа юная дама.
– Будем надеяться, комплекцией она не в него, – замечает леди Шелтон. – Он ведь еще раздался, да?
– Все говорят, что похожа, кроме Джорджа Рочфорда. – Леди Брайан склоняется над колыбелью. – А его послушать, так она – вылитая Болейн.
– Мы знаем, что моя племянница почти тридцать лет блюла себя в чистоте, – говорит леди Шелтон, – но даже Анна не сумела бы зачать непорочно.
– И волосы, – добавляет он.
– Точно, – вздыхает леди Шелтон. – Не в обиду ее милости и со всем почтением к его величеству, она у нас светленькая, что твой поросеночек – хоть на ярмарку вези.
Она пытается заправить рыжие волосенки под чепчик. Младенец сморщивает личико и возмущено икает.
Грегори хмуро смотрит на принцессу:
– Она может быть чья угодно.
Леди Шелтон прикрывает рот, пряча улыбку:
– Вы хотели сказать, Грегори, что все младенцы на одно лицо? Идемте, мастер Кромвель.
Она берет его за рукав и тянет прочь. Леди Брайан остается перепеленывать малютку – опять та сбила все пеленки. Он бросает на ходу: «Бога ради, Грегори!» В Тауэр можно угодить и за меньшее. Леди Шелтон он говорит:
– Я не понимаю, как Мария может быть приблудой. Ее родители честно верили, что состоят в браке.
Она останавливается, поднимает брови.
– Скажете ли вы это моей племяннице-королеве? В лицо?
– Уже сказал.
– А она?
– Знаете, леди Шелтон, будь у нее в руке топор, она бы попыталась отрубить мне голову.
– Тогда и я вам скажу, можете, если хотите, передать моей племяннице. Будь Мария и впрямь приблудой, будь она приблудой последнего безземельного джентльмена в Англии, от меня она все равно видела бы только доброту. Потому что она славная девушка, и надо иметь каменное сердце, чтобы не испытывать к ней жалости.
Она стремительным шагом, волоча шлейф по каменным плитам, идет в центральную часть дома. Навстречу им попадаются прежние слуги Марии, он узнает лица; под эмблемами Генриха у них на одежде следы эмблем бывшей хозяйки. Он смотрит по сторонам и все узнает. Останавливается перед парадной лестницей. Прежде ему не разрешали по ней бегать: для мальчишек вроде него, с дровами или углем, была черная лестница. Как-то он нарушил правило и на верхней ступеньке получил из темноты удар в ухо. Кто там подкарауливал? Сам кардинал Мортон?
Он трогает камень, холодный, как надгробие: сплетенье виноградных лоз и неведомых цветов. Леди Шелтон смотрит с вопросительной улыбкой, не может понять, что его остановило.
– Может, нам стоит сменить дорожное платье, прежде чем идти к леди Марии. Она может оскорбиться…
– А если вы промедлите, она тоже оскорбится. Так или иначе, она найдет, что поставить вам в вину. Я сказала, что жалею ее, но о как же с ней непросто! Она не выходит ни к обеду, ни к ужину, потому что не хочет сидеть ниже маленькой принцессы. А моя племянница постановила, чтобы ей не носили еду в комнату, кроме хлеба на завтрак, как всем нам…
Леди Шелтон подводит их к закрытой двери.
– Вы по-прежнему называете эту комнату синей?
– Ваш отец бывал здесь раньше, – обращается леди Шелтон к Грегори.
– Мой отец везде бывал, – отвечает тот.
Она поворачивается к ним:
– Успеха вам. И, кстати, она не откликается на «леди Марию».
Комната длинная, почти без мебели, и холод, словно камердинер, встречает их у входа. Синие шпалеры сняли, оставив голую штукатурку. У почти погасшего камина сидит Мария: сгорбленная, маленькая и пронзительно-юная. Грегори говорит: она похожа на эльфийского подменыша.
Бедный эльфийский подменыш! Ест по ночам, питается хлебными крошками и яблочной кожурой; если рано утром спуститься по лестнице тихо-тихо, можно застать его сидящим в золе.
Мария поднимает глаза, и – удивительное дело! – ее миниатюрное личико светлеет.
– Мастер Кромвель.
Она встает, делает шаг и тут же едва не падает, запутавшись в подоле.
– Сколько времени прошло с нашей последней встречи в Виндзоре?
– Трудно сказать, – серьезно отвечает он. – За эти годы вы успели расцвести.
Мария хихикает; ей уже почти восемнадцать. Она растерянно озирается, ища глазами, на чем сейчас сидела. «Грегори», – говорит он, и его сын делает стремительный шаг вперед, подхватывает бывшую принцессу, пока та не села мимо табурета. Движение похоже на танцевальное па – даже и от Грегори может быть прок.
– Простите, что заставляю вас стоять. Вы можете, – она машет рукой в неопределенную сторону, – сесть на сундук.
– Думаю, нам хватит сил постоять. А вот вам, полагаю, нет. – Он ловит на себе взгляд Грегори: сын смотрит так, будто никогда не слышал его смягчившегося тона. – Вас ведь не оставляют сидеть одну возле потухшего огня?
– Слуга, который приносит дрова, не хочет обращаться ко мне «принцесса».
– Обязательно ли вам с ним говорить?
– Нет, но если я стану молчать, это будет уловка.
Умница, осложняй себе жизнь чем только можешь.
– Леди Шелтон рассказала мне про затруднения с… про обеденные затруднения. Что если я пришлю врача?
– У нас есть врач. Вернее, у девочки.
– Я могу прислать более толкового. Он пропишет вам режим и потребует, чтобы сытный завтрак приносили сюда, в комнату.
– Мясо? – спрашивает Мария.
– Много мяса.
– А кого вы можете прислать?
– Скажем, доктора Беттса.
Ее лицо смягчается.
– Я его помню по двору в Ладлоу. Когда я была принцессой Уэльской. Была и остаюсь. Как вышло, что я больше не наследница трона, мастер Кромвель? Разве это законно?
– Законно то, что решил парламент.
– Есть закон выше парламента. Закон Божий. Спросите епископа Фишера.
– Я не умею определять Божий Промысел и, Господь свидетель, не считаю епископа Фишера достойным его истолкователем. Воля парламента, напротив, выражена вполне отчетливо.
Она закусывает губу, не желает на него смотреть.
– Я слышала, доктор Беттс теперь еретик.
– Он верит в то же, во что ваш отец король.
Он ждет. Мария поднимает голову, впивается серыми глазами в его лицо.
– Я не назову еретиком милорда моего отца.
– Правильно. Лучше, чтобы эти ловушки сперва проверили ваши друзья.
– Я не понимаю, как вы можете быть мне другом, если вы друг этой особы. Маркизы Пемброкской.
Она не хочет именовать Анну королевой.
– Положение упомянутой дамы таково, что ей не нужны друзья, только слуги.
– Пол говорит, вы – сатана. Мой кузен Реджинальд Пол. Который бежал в Геную. Он сказал, при рождении вы были такой же, как все другие христианские души, но потом в вас вошел дьявол.
– А вам известно, леди Мария, что я бывал тут ребенком? Лет девяти-десяти. Мой дядя был у Мортона поваром, а я, сопливый мальчишка, на заре складывал хворост для растопки печей и сворачивал шеи курам. – Он говорит серьезным тоном. – Как вы думаете, дьявол тогда в меня вошел? Или раньше, примерно в том возрасте, когда другие принимают крещение? Как вы понимаете, мне хотелось бы знать.
Мария наблюдает за ним искоса; на ней старомодный жесткий чепец домиком, из-под которого она смотрит, как лошадь, которой набросили на голову тряпку, а та сползла. Он говорит мягко:
– Я не сатана. И милорд ваш отец не еретик.
– А я не приблуда.
– Конечно. – Он повторяет то же, что сказал Анне Шелтон: – Ваши родители верили, что состоят в браке. Это не означает, что их брак был законным. Вы ведь понимаете разницу?
Она трет пальцем под носом.
– Да, понимаю. Только на самом деле их брак был законным.
– Скоро королева приедет навестить свою дочь. Если вы просто выкажете ей уважение как супруге своего родителя…
– Только она его сожительница…
– …ваш отец вернет вас ко двору и вы получите все, чего лишены сейчас: тепло и приятное общество. Послушайте меня, я желаю вам добра. Королева не ждет от вас дружбы, ей нужен лишь декорум. Прикусите язык и сделайте реверанс. Это займет одно мгновение и переменит все. Помиритесь с ней сейчас, до того, как она родит. Потому что если будет мальчик, у нее не останется поводов с вами ладить.
– Она меня боится, – говорит Мария, – и будет бояться, даже если родит мальчика. Она боится, что я выйду замуж и мои сыновья станут ей угрозой.
– Кто-нибудь говорит с вами о замужестве?
Сухой недоверчивый смешок.
– Еще в младенчестве меня помолвили с французским дофином. Затем с императором, потом с французским королем, с его старшим сыном, с его вторым сыном, со всеми его сыновьями, сколько их ни на есть, потом один раз опять с императором и один раз с его кузеном. Меня сватали без передышки. Однако когда-нибудь я выйду замуж на самом деле.
– Но только не за Пола.
Она вздрагивает, и он понимает, что кто-то ей такую мысль подсказал: может быть, прежняя воспитательница Маргарет Пол, а может, Шапюи, который ночи напролет изучает генеалогию английской знати – укрепить ее притязания, сделать их неоспоримыми, выдать полу-испанку Тюдор за коренного Плантагенета.
Он говорит:
– Я видел Пола. Знал его еще до отъезда. Вам такой не годится. Вашему мужу нужна будет твердая рука, чтобы крепко держать меч. Пол похож на старуху, которая сидит в углу и боится леших и домовых. В жилах у него не кровь, а святая вода, и говорят, он рыдает в три ручья, если его слуги убьют муху.








