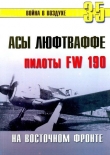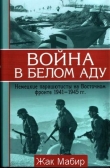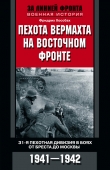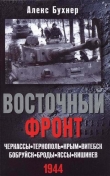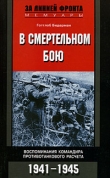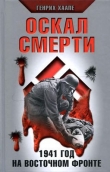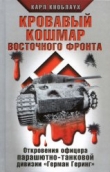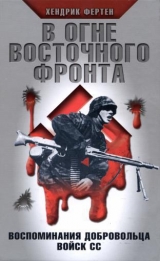
Текст книги "В огне Восточного фронта. Воспоминания добровольца войск СС"
Автор книги: Хендрик Фертен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
Глава четырнадцатая
Восточная Пруссия
Мы редко слышали теперь победные фанфары. По радио все чаще звучали приказы, в которых были фразы «удерживать позиции» и «любой ценой». Кризис в войне на Востоке начался уже в июне 1944-го. Это было особенно заметно в центральном секторе Восточного фронта, где удерживала оборону группа армий «Центр». Без сомнения, именно с этого началась самая ужасная и тяжелая для Германии страница войны. Последующие месяцы стали тяжелейшими месяцами свирепых боев, обусловивших огромные потери среди солдат Восточного фронта.
С наступлением осени 1944 года дороги в сельской местности Польши и Литвы были размыты и состояли из сплошной грязи. Битва за Восточную Пруссию началась, когда шесть русских армий прорвались через линии обороны 3-й немецкой армии на центральном и северном участках. Четыре дня спустя русские впервые вступили на немецкую землю, войдя в Кроттинген.
Наступил наш черед возвращаться в строй. Огромные потери среди сержантского состава, являвшегося хребтом немецкой армии, стали причиной многочисленных прорех в линии обороны. Недостаток младшего командного состава требовалось срочно восполнить, и наши курсы были резко завершены. С рюкзаками за плечами мы снова отправились в путь, даже не зная своего места назначения.
Когда наш длинный поезд, загруженный тяжелыми орудиями и боеприпасами, миновал Данциг, нам стало ясно, что мы возвращаемся на Восточный фронт. Несмотря на то что курсы были прекращены досрочно, мы получили звания сержантского состава. А я позднее даже получил награду за храбрость, проявленную на фронте.
После курсов меня зачислили в восьмую роту боевой группы Ремера. Мы проехали на поезде 300 километров на восток. Нашей последней остановкой стал город Летцен в Восточной Пруссии. Оттуда по проезжей дороге мы добрались до деревни Кругланкен в центре области Мазурских озер. Именно там мы и должны были базироваться в полной боеготовности к операции «Шарнхорст».
Мне было временно поручено выполнять роль связного мотоциклиста и выдан мотоцикл БМВ-250, на котором я сопровождал моторизованные колонны. Мне нравилось носиться на мотоцикле от начала к хвосту колонны и обратно, подобно собаке-пастуху вокруг стада овец. Однако позднее, со вступлением зимы в свои права, это стало уже не так приятно: ледяной ветер, несмотря на вязаный подшлемник и защитные очки, превращал мое лицо в одеревенелую маску.
Вскоре основным моим занятием стали разведывательные и охранные рейсы. Я выполнял их вместе с одним из моих товарищей. У нас на шеях висели пистолеты-пулеметы, и мы были сами себе хозяевами, самостоятельно планируя свои маршруты через окружавшую нас восхитительную сельскую местность.
Однажды неподалеку от линии фронта мы наткнулись на двух молодых женщин, которые собирались покинуть свой дом и уйти в более безопасное место, но никак не могли уговорить отправиться вместе с ними свою старую бабушку. Мы попытались помочь им переубедить ее. Каждый из нас как можно доходчивее старался объяснить старушке, какая опасность ей грозит в связи с военными действиями и приближающимися русскими. Но все наши слова не возымели никакого действия. Она продолжала стоять на своем и говорила, что лучше умрет, чем покинет родной дом. Дальнейшие уговоры не имели смысла, и с этим ничего нельзя было поделать. Внучки не могли сдержать горьких слез. Когда они прощались с бабушкой, у нее на коленях сидел кот. В доме оставалось достаточно еды и для старушки, и для ее любимца. Но их могли ждать и ужасы пострашнее голода. Сцена прощания была душераздирающей.
Во многих других местах, где расквартировывалась наша часть, мы также становились свидетелями неописуемых человеческих трагедий. Это зрелище было особенно тяжелым в ситуациях, когда жителям деревень и ферм приходилось собираться за крайне ограниченное время и удавалось взять с собой лишь то, что они могли унести в руках. За эвакуацию районов несла ответственность их администрация, которая зачастую отдавала приказ об эвакуации в самый последний момент, не оставляя жителям времени на раздумья о том, что они возьмут с собой, а что оставят в домах. Когда была возможность, мы, солдаты, помогали им грузить их скудные пожитки на телеги с запряженными лошадьми, на ручные тележки и в прицепы тракторов. Нередко у жителей были и другие помощники – военнопленные, присланные на работы к местным фермерам. Последние хорошо обращались с ними, и поэтому пленные также помогали своим хозяевам упаковывать и грузить их имущество. Потоки беженцев угрюмо двигались на запад, спасаясь от Красной Армии.
Операция «Шарнхорст», помимо всего прочего, была разработана для того, чтобы усилить охрану Ставки Гитлера «Вольфшанце» («Волчье логово») и обширной территории вокруг нее. Комплекс сооружений «Волчьего логова» находился в лесу Герлиц недалеко от города Растенбурга [15]15
Hыне Кентшин. – Прим. пер.
[Закрыть]и состоял из более чем восьмидесяти строений. Помимо жилых и хозяйственных построек, среди них было около сорока легких железобетонных бункеров и семь массивных укрепленных сооружений. В «Волчьем логове» были бомбоубежища, офицерское казино, собственная электростанция и две взлетно-посадочных полосы. При этом Ставка Гитлера была практически идеально замаскирована. Внутренняя территория комплекса была разделена на три зоны, разграниченные колючей проволокой и другими средствами обеспечения безопасности. Для пересечения рубежа каждой из зон было необходимо обладать соответствующими пропусками. Это была самая укрепленная из всех Ставок Гитлера. С развитием русского наступления на Запад фюрер и его штаб были вынуждены 20 ноября 1944 года переместиться в Берлин. Однако «Волчье логово» не оказалось в руках русских, а было взорвано в начале января 1945 года.
У нас в секторе вокруг деревни Кругланкен было не слишком много дел и оставалось время для освоения изумительной сельской местности Восточной Пруссии. Мне она запомнилась, прежде всего, темными лесами, зеленой и чистой водой озер и рек и пряным сухим и холодным воздухом. Также в окрестностях располагались небольшие городки с памятниками великим германским принцам. Кроме того, там встречались и памятники Фридриху Великому, или «старому Фрицу», как его называли солдаты. А в причудливых деревеньках на улицах было множество берез, березы росли и вдоль дорог, ведущих к усадьбам. И везде были озера, цепочка которых, отражая солнечные блики, скрывалась за горизонтом. Сколько лет прошло, а у меня все так же ясно и ярко встают перед глазами те живописные пейзажи. Однако уже к концу 1944 года эта земля, на которой жили 2,5 миллиона человек и чья территория была примерно равна размерам Голландии, стала практически безлюдной.
Покрытые плющом сельские усадьбы с парковыми воротами из кованого железа, длинные аллеи, беседки в тени вековых деревьев, благоухающие зеленые луга и обширные пастбища – сегодня многое из тех красот сохранилось лишь в моей памяти.
Возможно, эта местность так запала мне в душу еще и потому, что в пределах расположения нашей части жил местный почтальон со своей дочерью. Он постоянно сидел с ней на почте, хотя работы для него уже не было. И фортуна в который раз улыбнулась мне. Дочка почтальона была очаровательной брюнеткой, настоящей мазурской красавицей! С первых же минут общения между нами возникло взаимопонимание. А благодаря исключительному пониманию, проявленному ко мне моим командиром роты, ей было разрешено сопровождать меня в поездках, чтобы помогать мне ориентироваться в окрестностях. Оставаясь наедине, мы с ней, пусть и на короткое время, могли забыть о войне. Мы гуляли в еловом лесу, и ветви деревьев над нашими головами образовывали купол, укрывавший нас от всего остального мира. Нашу идиллию лишь изредка нарушали отдаленные звуки выстрелов и взрывов, доносившиеся с фронта. Но мы старались не слышать их.
Однако наш роман был недолгим. Почтальон и его дочь были вынуждены вместе с другими жителями в последнем фургоне для беженцев отправиться на запад.
Думаю, что во всей армии не было бойца, у которого за время войны не возникло бы с противоположным полом хотя бы флирта, а то и бурного романа. Возможно, по моим рассказам у кого-то сложится впечатление, что мы, солдаты, вели себя, как донжуаны, и были бабниками. Но это совсем не так. Мы были нормальными здоровыми молодыми солдатами. Мы тяготились одиночеством и любили женщин, но не больше и не меньше, чем все остальные молодые люди в мирное время. И лишь ситуация обуславливала то, что мы не могли себе позволить долгих романов, поскольку солдат всегда в пути.
В декабре 1944-январе 1945 года русские войска начали сосредотачиваться возле Вислы. По этой реке, тянувшейся на сотни километров, проходила немецкая демаркационная линия. В наступающей русской армии было более трех миллионов солдат, около десяти тысяч танков, сорок тысяч артиллерийских орудий и семь тысяч самолетов. Таким образом, на Германию шла крупнейшая в мире армия. Защитники Третьего рейха с мужеством, порожденным отчаяньем, пытались остановить эту всесокрушающую силу. Немецкие бойцы сражались за каждый клочок земли. Их воля к борьбе многократно усиливалась, когда они узнали о зверствах, которые на захваченных территориях творила по отношению к гражданскому населению Красная Армия.
Снова отвоевав у русских деревню Голдап, немецкие солдаты увидели картину страшнейшей варварской жестокости. Женщины и молодые девушки были изнасилованы русскими. Старики, дети и младенцы – убиты. Французские и польские военнопленные, не успевшие сбежать из деревни, – забиты до смерти. Произвол, чинимый Красной Армией на занимаемых ею территориях, невозможно описать словами.
Еще один из таких печальных примеров – действия русских в Неммерсдорфе. Рано утром 21 октября 1944 года колонна изможденных беженцев сделала остановку в Неммерсдорфе, не зная, что этим подписывает себе смертный приговор. Их телеги, которые они тащили сами и с помощью лошадей, заполнили главную дорогу. Из-за ржания лошадей и шума, создаваемого суетящимися людьми, беженцы не сразу услышали грохот танковых траков. Колонна русских танков вышла из утреннего тумана и поехала прямо на них, заголосивших женщин, детей и стариков.
Русские не смогли удержать Неммерсдорф, и деревня была взята 4-й немецкой армией под командованием генерала Фридриха Хоссбаха. Ее бойцы стали свидетелями невероятного варварства красноармейцев по отношению к жителям деревни. – Немецкими солдатами были обнаружены 72 трупа, среди которых были дети и даже младенцы. Так Неммерсдорф, наряду с деревней Голдап, навсегда вошел в самые страшные и печальные страницы истории.
Какой судьбы мы могли ждать для Германии? Ненависть к немцам всячески раздувалась пропагандой среди советских бойцов, пока она не стала патологической и не приобрела характер эпидемии. «Убивайте немцев!» – это стало заповедью советских солдат, заменившей все десять библейских заповедей. Русский писатель и один из главных пропагандистов ненависти Илья Эренбург призывал: «Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов» [16]16
Здесь автор цитирует знаменитую статью «Убей!» И.Эренбурга, забывая упомянуть, что она была напечатана в газете «Красная Звезда» 24 июля 1942 г. (№ 173 [5236]), т. е. в момент, когда Красная Армия находилась в самом тяжелом положении за всю войну, всего лишь за четыре дня до публикации приказа № 227 «Ни шагу назад!». Слово «немец» в данном контексте было употреблено в одном-единственном значении – вражеский солдат. В чем легко убедиться, если ознакомиться с полным текстом, который сегодня широко доступен, в том числе и в Интернете. Более того, рассуждать о влиянии этой статьи на события в Восточной Пруссии, происходившие через 2,5 года после ее публикации, пожалуй, не совсем корректно. – Прим. пер.
[Закрыть].
А вот более сдержанные комментарии газеты «Красная Звезда»:
«Приходится признать, что немецкое сопротивление в Восточной Пруссии столь сильно и стойко, что оно превосходит все, что было прежде. Идут чрезвычайно кровавые бои, в которых немцы сражаются с фанатичным упорством. Они неустанно контратакуют и борются за каждый клочок земли».
Радио Лондона также было поражено происходящим и отмечало, что «за Восточную Пруссию идут невероятно упорные бои, требующие максимальной силы воли от обеих сторон. Немцы отчаянно сражаются за святую землю Пруссии».
Однако немецкие солдаты знали гораздо лучше радио Лондона, почему и ради чего они рискуют своими жизнями. В деревнях, которые они отбивали у врага, немецкие бойцы своими глазами видели свидетельства зверств врага. И им уже не нужна была ни пропаганда, ни исторические примеры, чтобы заставлять их сражаться так, как они сражались.
Тем не менее Пруссия оказалась в руках русских. Эта прекрасная земля всегда была желанным трофеем для иностранных завоевателей. В начале весны следующего года в Восточную Пруссию, как домой, возвращались лишь аисты и дикие гуси, привычно летевшие клином. Их прилет создавал обманчивую, но столь желанную иллюзию того, будто с нашим миром все в порядке. Однако земле, на которую возвращались птицы, никогда уже не было суждено стать прежней.
Глава пятнадцатая
Силезия
Естественной преградой на пути мощного наступления армии Сталина на восточные границы Германского рейха и Берлин была река Одер. Двигаясь к Одеру, огромные силы русских вошли в Силезию, где одной из их главных целей был захват Бреслау, центра экономической жизни Силезии и ключевого рубежа для Красной Армии. Как раз тогда и возникла фраза: «Судьба Европы будет решена на Одере». Именно поэтому на данном театре. военных действий Германия предприняла колоссальные оборонительные меры и сконцентрировала войска. Наша часть была также направлена туда.
Нашу боевую группу неожиданно сняли с предыдущего места дислокации, и вскоре мы выехали в железнодорожном составе из Восточной Пруссии в Померанию. Наш путь длился несколько дней.
Мы получили новое снаряжение и были распределены по новым частям. После чего, покинув наши старые казармы школы для младшего командного состава в Лауэнбурге, мы на поездах-экспрессах поехали по направлению к Одеру. Не зная стратегических планов, каждый из нас удивлялся, почему место назначения нашей боевой группы меняется так часто. Во время пути оно опять в очередной раз было изменено, и мы оказались вовсе не там, где должны были быть изначально, но там, где наша группа была отчаянно нужна.
Когда наш состав наконец достиг сельской местности Силезии, с неба падали хлопья снега, залепляя окна вагонов. Это была середина декабря, и в Силезии уже наступила зима. Мы прибыли в Бреслау. Нас, не знавших этот город, удивила царившая в нем мирная атмосфера. Там не было ни единого признака войны. Автомобили и трамваи ярко светили фарами, проносясь среди сверкающего снега. Люди терпеливо стояли в очереди возле кинотеатра, увешанного разноцветными афишами. Дети катались на коньках по замерзшему рву у входа в город. С главного городского вокзала поезда продолжали отходить по расписанию, точно так же, как и поезда, шедшие из Фрейбурга на запад.
Наряду с Дрезденом, Бреслау был единственным крупным немецким городом, который до конца 1944 года не бомбили союзники. За время войны этот важный восточногерманский город разросся. Его население увеличилось с 630 тысяч до почти миллиона человек за счет людей, приехавших с запада Германии. В Бреслау функционировало большое количество предприятий военной промышленности. После бомбардировок Берлина сюда переместились отделы государственной администрации и официальные лица из министерств финансов и иностранных дел. Помимо этого, Бреслау и окружавшие его небольшие городки и деревни стали домом для эвакуированных жителей территорий, подвергавшихся тяжелым бомбардировкам, в частности областей Рейна и Рура. По сути, Бреслау можно было даже назвать национальным бомбоубежищем, куда стекались тысячи немцев, которых выгнали из их домов бомбежки.
Наши новые казармы находились на территории «Школы пехотных тренировочных батальонов пополнения» в городке Дойч-Лисса, находившемся всего в восьми километрах к западу от Бреслау. Трехэтажный каменный комплекс школы был расширен за счет деревянных домов, построенных для регулярной армии. Один из них и стал моим очередным пристанищем. Жалеть о теплых домах, в которых мы жили прежде, не имело смысла, поскольку альтернативы все равно не было. Нас утешало то, что в течение всего дня мы находились за пределами бараков и возвращались в их оледенелые стены только на время сна. К тому же по вечерам мы нагревали наше новое жилище с помощью большой и уродливой на вид железной печки, подкидывая в нее дрова, пока она не раскалялась докрасна. Правда, из-за этого приходилось спать на середине комнаты, подальше от печи, чтобы не загорелись набитые соломой мешки, служившие нам матрасами.
Каждый день у нас проходили занятия на открытом воздухе, в ходе которых мы отрабатывали применение пехотных гаубиц и минометов. Между тем численность нашей части росла и в конечном счете достигла целого батальона. К нам поступили бойцы из Померании, Восточной Пруссии, а также из других частей. У большинства из них уже был фронтовой опыт. Но немало было и тех, кто только что прошел базовую подготовку и теперь ждал боевого крещения. Некоторые из новобранцев не могли дождаться своего первого боя, однако многие из них лишь говорили так, чтобы скрыть страх. Нас, бойцов из 11-й роты, собралось здесь в итоге 120 человек. Мы знали, что сможем положиться друг на друга, и держались вместе.
В один из дней, когда у нас шли привычные занятия на местности, вдруг появился связной, который сообщил, что все мы должны незамедлительно возвращаться в лагерь. Там нам было приказано выстроиться на заснеженном учебном плацу. В нескольких словах суровым военным тоном нам объяснили причину нашего спешного возвращения. Также, прежде чем получить приказ выдвигаться на позиции, мы услышали напоминание о том, что «каждый боец должен оставаться верным присяге и выполнять свой долг защиты Родины от большевицкого штурма».
Нам выдали сухие пайки, боевые снаряды и дополнительную дневную норму еды. Личные вещи, которые не могли нам пригодиться в сложившейся ситуации, мы сложили на чердаках бараков. Почтовое отделение тут же наполнилось бойцами, которые отправляли домой телеграммы и спешно написанные письма для семьи и друзей. Для некоторых эти письма стали их последним приветом родным.
Мы оказались в числе гарнизона защитников Бреслау в тот же день, что и отдельный полк СС «Бесслейн», в составе которого я и провел основную часть боев за Бреслау. Всем нам было приказано находиться на позициях в полной боевой готовности.
Русский маршал Жуков приближался к Бреслау с огромными превосходящими силами со стороны Южной Польши. Несмотря на яростную оборону немцев, его продвижение было невозможно остановить. Маршал Конев также наступал в направлении Бреслау, действуя столь же огромными силами. Его войска при поддержке бессчетного количества танков, как и войска Жукова, впоследствии пересекли Одер, используя занимаемые заранее плацдармы на противоположном берегу.
Сталин, полностью осознавая проблемы союзников на Западном фронте, возникшие у них в связи с Арденнской наступательной операцией немецких войск, ускорил на восемь дней начало наступления Красной Армии. Советские разведывательные войска небольшими группами приземлялись на парашютах перед самыми нашими позициями. Они были оснащены мощными радиостанциями, улавливавшими сигнал на расстоянии 200–300 километров. Благодаря этому командование Красной Армии знало практически о каждом нашем шаге. Наша закодированная информация о мерах по фортификации, сведения о численности частей, перемещениях войск и, в частности, участках линии обороны, занимаемых вызывавшими страх у русских бойцов войсками СС, – все это стало достоянием врага и было использовано советским командованием против нас при разработке плана атаки. Кроме того, у Красной Армии была сеть осведомителей из русских рабочих в Бреслау.
Бреслау был объявлен городом-крепостью летом 1944 года. В начале января 1945-го все население еще оставалось в нем. Будучи местом пересечения многих транспортных магистралей, Бреслау, находившийся в центре Силезии, представлял собой открытый город, который только мечтатель мог вообразить в виде классической крепости. На тот момент он был защищен лишь несколькими слабо укрепленными бункерами на левом берегу Одера. Их военная значимость, к сожалению, была слишком переоценена.
Гауляйтер Силезии Карл Ханке не воспринял с надлежащей серьезностью приказ о фортификации, пришедший из Берлина, и сделал очень мало для обороны города. Так, по указанию Ханке были вырыты противотанковые рвы, однако они располагались слишком далеко от города, возле бывшей немецко-польской границы. Там же находились и другие защитные сооружения. Впоследствии все они оказались совершенно бесполезными для того, чтобы задержать наступление русских.
Несмотря на то что указания по эвакуации населения были получены заблаговременно, планы по ее осуществлению с использованием сотен поездов так и не начали осуществляться, пока город не оказался окружен. 20 и 21 января на каждой улице Бреслау, не только в центре, но и на окраинах, были слышны призывы, транслировавшиеся через громкоговорители. Женщинам и детям рекомендовалось эвакуироваться в Оппенау и Кант, однако весь путь до этих мест им нужно было преодолевать пешком.
При этом тот же городок Кант лежал в двадцати пяти километрах к западу от Бреслау. Пройти такое расстояние пешком довольно трудно и в нормальных обстоятельствах, а тогда это было настоящим самоубийством, особенно для женщин с маленькими детьми. В те дни держались 20—30-градусные морозы, которые, впрочем, были привычными в Силезии, где Одер был скован льдом до самого марта. Но, кроме того, за две предыдущие недели выпало столько снега, что высота его слоя доходила до полуметра. Покрытый настом, он лежал на дорогах. И многие женщины при таких погодных условиях даже не рискнули покинуть Бреслау.
Тем не менее не меньше было и тех, кто решился на этот отчаянный шаг. Тысячи женщин, взяв с собой еду и питье, обвернули себя и своих детей в шерстяные покрывала поверх толстой зимней одежды и обвязали головы шарфами. Положив малышей в коляски, на небольшие повозки или на санки и держа старших детей за руку, они покинули город. Им предстоял кошмарный поход в ад, наполненный льдом и снегом.
Большинству женщин удавалось пройти лишь первые несколько миль. Над окрестностями Бреслау хотя и сияло зимнее солнце, но его лучи почти не грели, и даже в полдень мороз достигал 16–20 градусов. Ветер все сильнее ревел. Это был резкий ледяной ветер с востока. Женщины продолжали двигаться, отчаянно борясь с судьбой. Но их ждало поражение в этой борьбе, несмотря на то что материнский инстинкт заставлял их двигаться дальше и дальше, пока у них не заканчивались последние силы. Они уже не могли толкать коляски и тащить санки по снегу, который был им по колено. Матери брали малышей на руки, но не могли их даже накормить. Молоко замерзало в бутылочках, а свирепый ветер не знал жалости.
Младенцы и маленькие дети стали первыми жертвами этого рокового перехода. Ни шерстяные покрывала, ни толстая подкладка одежды не могли сохранить в их телах необходимое для жизни тепло. Они умирали, словно засыпая на руках у матерей. Многие женщины так и проходили километр за километром, заставляя себя верить, что их ребенок просто уснул. Однако когда к матерям приходило осознание того, что произошло в действительности, то и самые стойкие из них зачастую теряли силу воли. На глазах у остальных они останавливались и начинали, обезумев, разгребать руками снег, чтобы вырыть в нем могилу для своего малыша. Зачастую матери так и замерзали за этим занятием. Их вместе с детьми заметал снег. Впрочем, количество беженцев из Бреслау, умерших в пути, никем не подсчитано. Статистика обошла стороной эту трагедию.
Русские подошли к Одеру. Между ними и нашими новыми позициями в районе Кирхсберга теперь оставалось совсем небольшое расстояние. Части вермахта и войск СС, находившиеся в подчинении ротмистра Спекмана, не смогли сдержать наступление передовых советских частей, занявших плацдарм шириной в два километра на западном берегу Одера. Русские продолжали расширять этот плацдарм, пока не достигли леса к югу от деревни Пейскервиц. А мы, как полковой резерв, дожидались приказов, находясь всего в трех километрах от передовой.
Русские расширяли территорию своего плацдарма прямо на наших глазах, используя при этом всю военную мощь, которой они обладали. Огонь с обеих сторон был столь интенсивным, что даже небо над Пейскервицем было озарено от огня и бесконечно взрывавшихся снарядов. Во время пауз в артиллерийской дуэли небо тут же освещалось красными сигнальными ракетами, предвещавшими новый шквал артиллерийского огня.
К нам приносили раненых, которые дожидались у нас транспорта для отправки в полевые госпитали. Также к нам стекались бойцы, оказавшиеся отрезанными от своих частей. И те и другие рассказывали о свирепых боях на берегах Одера. Кроме того, мы узнали от них, что часть нашего батальона оказалась в ловушке, завязнув в ближнем бою среди разрушенных домов деревни.
Вскоре прибыл связной, доложивший о безнадежности ситуации в Пейскервице. Это определило наш боевой приказ. Нашу роту, состоявшую из 120 бойцов, было решено использовать в качестве ударной группы. От нас ожидали, что мы не только ворвемся в деревню, очистим ее от врага и спасем наших товарищей на главном участке фронта, но также, что мы отбросим иванов на другую сторону Одера.
Таким образом, во второй половине дня 28 января мы покинули Кирхсберг, вооруженные обычным стрелковым оружием, ручными пулеметами и огромным количеством ручных гранат и панцерфаустов. Продвигаясь вперед по пересеченной местности через Вилксен по направлению к поместью Траутензе, мы старались обмениваться шутками, чтобы хоть немного сбросить напряжение, накопившееся у нас за время ожидания боевых действий. Тем более что до начала боя оставалось совсем немного.
Монотонное постукивание прикладов висевших у нас на плече винтовок о ножны штыков, скрип снега под ботинками – все эти звуки смешивались с нараставшим по мере нашего приближения к передовой грохотом боя. Вскоре нам на пути начали встречаться первые раненые, которые могли передвигаться самостоятельно. Их лица были серыми и потрясенными, а глаза выпученными. Одежда раненых была залита кровью. На них были перевязки, сделанные на скорою руку прямо на поле боя. Некоторые из них стонали от боли, делая каждый шаг. После того, как несколько таких бойцов прошло мимо нас, мы, 11-я рота, совершенно потеряли охоту шутить и разговаривать.
После короткого привала возле усадьбы наша рота небольшими группами выполнила бросок по открытой местности к Пейскервицкому лесу. Мы бежали туда, пригнувшись и вжав голову в плечи, держа дистанцию друг от друга. И это было чудом, что нашей роте удалось достигнуть леса в полном составе.
Однако радовались мы недолго. Русские обнаружили нас и устроили нам настоящий ад. За считаные секунды мы оказались в огненном вихре. Со всех сторон на нас обрушился артиллерийский огонь. Его вели с берегов Одера как легкие, так и тяжелые орудия русских. Советские артиллеристы, казалось, даже не заботились о том, что их собственные бойцы также успели продвинуться в лес. За кустами и деревьями вокруг нас пряталось уже значительное количество русских солдат, которые также обрушились на нашу роту.
Но даже в этой ситуации командир нашей роты оберштурмфюрер, а впоследствии штандартенфюрер Цицман не потерял присутствия духа. С гранатой в левой руке и автоматом в правой, он начал отдавать продуманные и необходимые в этих обстоятельствах приказы, которые вернули нам веру в себя. Моей группе было приказано оставаться как раз позади Цицмана. И через миг каждый из нас уже держал наготове винтовку с пристегнутым штыком. Однако враг был так же решителен и неумолим. Русские были готовы к рукопашному бою. Мало того, вокруг нас засвистели пули вражеских снайперов, прятавшихся среди деревьев. Мы открыли ответные огонь по ним, но кто знает, скольких из них нам удалось убить.
Бой в лесу всегда крайне опасен, особенно для тех, кто входит в него, не зная, где залег противник. Грохот выстрелов и взрывов продолжал нарастать: громыхание минометов смешивалось со стрельбой пехоты. Пули проносились между деревьями, словно посланники смерти.
Тем не менее наши гренадеры ползли по заснеженному лесу с такой сноровкой, словно занимались этим всю жизнь, и, передвигаясь от прикрытия к прикрытию, отвоевывали у русских метр за метром. Мы понимали, что для нас в тот момент самым важным было держаться вместе и не дать советским бойцам укрепить линию обороны. С упорством, которое поразило русских, 11-я рота начала постепенно отбрасывать их назад, стреляя из-за деревьев, с колена и даже на ходу. Продвигаясь глубже и глубже в лес, мы вскоре увидели, что русские в панике побежали, оставляя позади боеприпасы и оружие, среди которого оказался и крайне устаревший пулемет с водяным охлаждением и на деревянных колесах. Лишь единицы советских солдат были готовы к рукопашному бою. Но отступление продолжалось. Русские остановились, только достигнув дальнего края леса.
Однако очень скоро нам стало ясно, что численное преимущество на стороне Красной Армии. Русские подтянули свежие резервы, перегруппировались и заняли позиции среди деревенских домов и сараев, большинство из которых было уже охвачено пожаром. Впрочем, последнее обстоятельство делало советских солдат легкой мишенью для нашего огня. И мы, несмотря на их численное превосходство, стали продвигаться вперед, заставляя русских отходить от дома к дому.
Тем не менее, войдя в деревню, мы начали задыхаться от дыма и так же, как и русские, оказались освещены заревом пожара. Это привело к огромным потерям убитыми и ранеными среди бойцов нашей роты.
Но, так или иначе, к рассвету мы сумели оттеснить русских к берегам Одера. Остатки боевой группы Спекмана, не один день сражавшиеся в Пейскервице и крайне изнуренные за время этих боев, были спасены из окружения.
Теперь перед нами стояла задача отбросить русских на другую сторону реки. Это могло получиться только в том случае, если бы нам удалось взять штурмом их позиции на нашем берегу и удержаться на них до прибытия пополнений.
Половине наших отделений пришлось залечь между краем леса и берегом реки, дожидаясь нового приказа. Разрывы снарядов не давали нам поднять головы, и, лежа в глубоком снегу, мы вскоре снова почувствовали страшный холод.
Когда артобстрел стихал на несколько минут, мы отчетливо слышали крики и стоны раненых. Также до нас доносились крики русских:
– Вперед! Быстро! Быстро!
Красноармейские политработники, видимо, нервничали и заставляли бойцов двигаться быстрее пистолетными выстрелами в воздух, а возможно, и не только в воздух.
Наконец, командир нашей роты приказал нам начинать атаку. Отдав этот приказ, он первым продвинулся вперед на несколько шагов… Но ему пришлось вернуться, потому что ни один из нас не последовал за ним. Приказ услышали не все, а многие к тому же колебались в нерешительности. Мы знали, что нас ждет, когда мы поднимемся в атаку, и в довершение ко всему наши конечности были скованы морозом. Наши сердца бешено бились. Впрочем, подобное было нам не впервой. И когда оберштурмфюрер Цицман на пределе возможностей своих голосовых связок снова заорал «Вперед!», мы поднялись, как один, и с криком «Ура!» устремились в атаку. Мы старались продвигаться вперед настолько быстро, насколько это было возможно, перемещаясь по снегу, который был по колено. От русских нас отделяли считаные метры, и, не целясь, мы начали палить, как сумасшедшие.