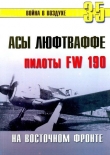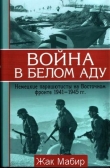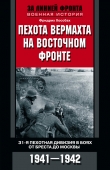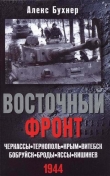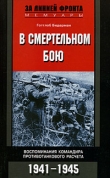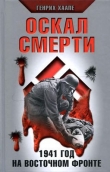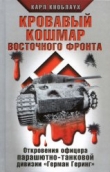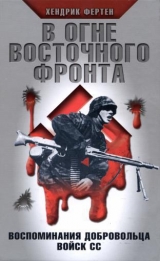
Текст книги "В огне Восточного фронта. Воспоминания добровольца войск СС"
Автор книги: Хендрик Фертен
Жанры:
История
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
В скором времени мы окружили деревню. Начался свирепый бой буквально за каждый дом. Сжимая замерзшими пальцами штыки и винтовки, мы сражались с русскими в ближнем бою на руинах деревни, в которой сгорели или были разрушены почти все дома.
Захватывая деревню, мы обшаривали все полуразрушенные строения, попадавшиеся нам на пути. Они не всегда оказывались пусты, порою в них оставались красноармейцы. Мы предлагали им сдаться добровольно, крича на русском:
– Товарищ, иди сюда!
Но если они не выходили, мы бросали в окна гранаты, которые в их тонких металлических корпусах больше поднимали пыль и сотрясали воздух, нежели наносили урон противнику. Поэтому многим из иванов везло, и после взрывов гранат они нередко выходили наружу побледневшие и с поднятыми руками, но лишь с одним или двумя осколками в их ватных куртках, либо же с легким ранением.
Очистив дома от неприятеля, мы спешили дальше, туда, где грохотали пулеметы и взрывались снаряды. Раненых, количество которых постоянно росло, отвозили на пункты первой медицинской помощи. На дороге лежали тела убитых, сливаясь с пейзажем точно так же, как и пустые ящики из-под боеприпасов, выведенное из строя вооружение и черные воронки от разрывов снарядов. Картина выглядела зловещей, но мы смотрели на это уже почти равнодушно, поскольку в последнее время нам слишком часто доводилось видеть смерть и другие ужасы войны.
В итоге, несмотря ни на что, мы выполнили свою задачу. Деревня была в наших руках. Однако войска врага отступили не полностью. И мы по-прежнему находились под огнем, который русские вели с дальних краев леса и из домов, стоявших за территорией деревни. И тут настала моя очередь получить ранение. Правда, оно оказалось легким, и я даже не почувствовал его сначала. За время боя у меня в крови накопилось много адреналина, который, как известно, приглушает боль, и я совершенно неожиданно для себя вдруг заметил, что моя левая перчатка, которая была зеленой, вдруг покраснела от крови. Очень быстро кровь оказалась и на моей маскировочной куртке. Осколок или пуля (я так и не знаю, что именно) сорвал кожу с большого пальца моей руки, в результате чего образовалась кровоточащая открытая рана. Что ж, мне повезло, ведь на фоне судьбы многих моих товарищей мое ранение было пустяковым. Тем не менее рана оказалась очень болезненной и боль возобновлялась, стоило мне только прикоснуться к этому пальцу, даже через много лет после войны. Вероятно, был задет нерв.
Пункт первой медицинской помощи я обнаружил в небольшой деревянной церкви. Как было видно снаружи, она осталась совершенно невредимой за время боя. Зато внутри церковь оказалась полностью разоренной. Коммунисты использовали ее как складское помещение для местного колхоза. Внутри нее уже не было большинства церковных атрибутов, а окна были заколочены досками. Это в очередной раз убедило меня в грубости и бездушии сталинского режима. Тем не менее судьбе было угодно распорядиться так, чтобы теперь в этом оскверненном храме оказались наши раненые, которые, как никто другой, молили Бога о помощи.
Заняв деревню, мы обеспечили себе более-менее комфортные условия жизни на время, пока держали в ней оборону. Уцелевшие дома, в которых остались хотя бы крыша и четыре стены, теперь служили нам убежищем от страшного холода. Понеся огромные потери, мы не думали, да и не могли думать о дальнейшем преследовании врага. Мы были счастливы уже тем, что смогли выполнить задание, и надеялись, что нам удастся как можно дольше удерживать позиции в этой деревне. Единственное, мы не могли позволить себе такой роскоши, как сон. Противник вовсе не был настроен дать нам хоть небольшую передышку и, очевидно, даже подтянул резервы. Этот вывод напрашивался, судя по тому, что плотность пехотного огня, который русские вели по нам, вскоре резко возросла. Его интенсивность немного снижалась только в ночное время.
Наше положение не было обнадеживающим. Резервов у нас не было, и рассчитывать на чью-то огневую поддержку мы также не могли. Основные силы нашего полка находились слишком далеко от нас, и у них также на счету был каждый боец. Подобный расклад не обещал ничего хорошего. Однако нас радовало хотя бы наличие крыши над головой и стен, защищавших от русской непогоды. Мы собирались держаться до последнего.
Тем не менее мы все почувствовали огромное облегчение, когда через несколько дней получили из полка приказ об отступлении. Основанием для этого приказа стали сведения, полученные в ходе допросов пленных, а также разведданные патрулей, говорившие о том, что силы врага выдвигаются на наше направление вместе с резервными войсками, следом за которыми движутся танки. Противостоять такой огромной массе войск не мог не только наш батальон в его тогдашнем состоянии, но и более многочисленное формирование. Русские контратаковали силами, значительно превосходящими наши, и останься мы в деревне, наша часть была бы неминуемо уничтожена.
На рассвете мы тайно подготовились к отходу и бесшумно покинули деревню, захват которой имел такое важное стратегическое значение. Отступая, мы надеялись, что иваны не станут преследовать нас, но при этом опасались подобного развития событий. Наши опасения, по счастью, оказались напрасными. Бойцы Красной Армии точно так же, как и мы, страдали от свирепого холода. Соответственно, они были рады сменить открытые позиции в лесу на теплые деревенские дома, которые мы оставляли позади, и не спешили снова на мороз.
Зато вместо них нас преследовали огромные стаи черных ворон. Эти птицы были беспокойными и шумными. Они летали у нас над самыми головами и кричали так, что иногда казалось, будто они насмехаются над нами. Когда на пути нам встретился березовый перелесок, эти птицы уселись на заснеженные ветви и все разом начали оглушительно каркать. Конечно, это все вызывало мрачные предчувствия. На своем участке в центре Восточного фронта мы не могли ничего сделать, чтобы остановить продвижение контратакующей Красной Армии. Нам оставалось только отступать и ждать перелома ситуации.
Праздник Рождества уже был на исходе, когда мы не без грустной иронии желали друг другу: «Счастливого Рождества!» Сочельник наступил и прошел почти не замеченным нами. За суматохой боевых действий нам оказалось просто не до него. Рождественскую ночь, ночь «мира на земле и добра ко всем людям», мы провели на позициях, осаждаемых врагом. И эта ночь казалась нам бесконечной. Она была наполнена смертью, болью, голодом и пробирающим до костей холодом. Наши домашние в это время наверняка сидели в тепле вокруг рождественской ели. А наша жизнь теперь была абсолютно иной. К концу года мы совершенно увязли в трясине войны, отнимавшей у нас все человеческие радости. Но мы должны были продолжать сражаться. Был ли у нас иной выбор? Могли ли мы позволить Сталину пройти маршем в сердце Европы? Нет, мы должны были сделать все, чтобы помешать этому!
Жили мы в этот период в большом блиндаже, находившемся у самой передовой. Он был рассчитан на двенадцать человек, и в нем мы могли даже стоять в полный рост. Выход из блиндажа вел прямо в траншеи. При этом наш блиндаж был достаточно безопасен, и мы могли бояться только прямого попадания в него. Крыша блиндажа была сделана из положенных в два слоя толстых березовых стволов. В нем у нас стояла железная печка, которая в сочетании с толстым слоем снега вокруг стен поддерживала в блиндаже постоянное уютное тепло. Правда, мы не топили печку в дневное время, поскольку ее дым стал бы хорошим ориентиром для врага. Однако те, кто не был в карауле в светлое время суток, прекрасно согревались в нагревшейся за ночь соломе, укрывшись шинелью вместо покрывала. У некоторых из нас было даже две шинели: вторые шинели доставались нам от павших товарищей.
Но надо сказать, что немецкие солдаты в России, помимо холода, страдали еще от одного страшного бедствия. Иногда оно даже казалось нам секретным оружием иванов. Наш блиндаж защищал нас от огня врага и от холода, но ничто не могло защитить нас от вшей. Эти отвратительные мелкие паразиты буквально атаковали каждого солдата на Восточном фронте. При этом они точно так же, как и мы, не любили холод. Поэтому в дневное время вши прятались, так что мы едва их замечали. Зато по ночам, когда наш блиндаж нагревался, вши выходили на охоту. Зуд в местах их укусов был нестерпим, но это было не единственной проблемой, которую они создавали. Зудящую кожу мы невольно расчесывали до крови, из ран на месте укусов сочился гной, и на морозе наша кожа примерзала к униформе.
Спать во время атаки вшей было невозможно, поэтому по ночам мы отчаянно ловили их, когда они ползли у нас по груди, по позвоночнику или по ногам. Каждый боец за ночь убивал до восьмидесяти вшей, раздавливая их пальцами. Тем не менее с нас все равно не сходили следы укусов, что свидетельствовало о том, что части этих тварей удавалось полакомиться нашей кровью безнаказанно. Любимыми местами вшей, в которые они кусали нас, были участки кожи с волосяным покровом и части тела, где проходит много кровеносных сосудов.
Нас поначалу удивляло, почему головы советских солдат были не просто коротко подстрижены, но и гладко выбриты. Однако теперь мы поняли, из-за чего русские предпочли такие прически. Вспоминая позднее о Восточном фронте, многие немецкие солдаты говорили, прежде всего, о вшах, которые были гораздо хуже клопов и тараканов. Огромное количество вшей водилось не только в русских домах, но и на открытом воздухе. Атакуя людей, они не смотрели на знаки различия, и их укусов не мог избежать никто, от рядового пехотинца до самого генерала!
Нашим единственным спасением от этого бедствия на передовой стала старая русская баня. Когда в боях наступало затишье, мы ходили туда мыться так часто, как только это было возможно. После всего пережитого и увиденного баня казалась нам буквально островком цивилизации, который словно появился здесь из другого мира. В бане мы ощущали себя, словно в раю. Там мы, наконец, могли снять с себя униформу вместе с населявшими ее паразитами. Замечу, что до революции у каждой крестьянской семьи в России была своя баня. Но к началу войны их уже оставалось немного, личные бани считались пережитком прошлого. Вместо них в деревнях строили большие общественные бани.
К середине нашей первой военной зимы мы были измотаны из-за всех обрушившихся на нас лишений. Но, помимо этого, немецкие солдаты находились в ужасном состоянии из-за сокращения их продовольственного обеспечения. Все мы, даже командиры, очень сильно похудели. Таким же тощим было и гражданское население. Однако в ту пору на подобные вещи все смотрели легче, чем современные поколения. Мы умели радоваться, как вы видите, даже обычной бане.
Когда в письмах из дома нас спрашивали о нашем настроении, мы не знали, что ответить. Конечно, нам хотелось ответить правду о том, как упал наш боевой дух. Но мы боялись, что это вызовет непонимание или тревогу среди близких, а потому отвечали в коротких фразах, избегая описания реальной ситуации, и говорили, что с оптимизмом смотрим в будущее. Между нами и семьями к этому времени было не только две тысячи километров, но и долгие месяцы ужасов войны. Чем дольше нам удавалось выживать среди всего этого, тем сильнее менялись мы и наши души.
К этому времени изменился и наш внешний вид. Наша униформа уже не была такой впечатляющей, наоборот, она была изодрана и выцвела из-за пыли, дождей, грязи и снега. Но нас уже не волновало то, как мы выглядим, мы ведь находились на войне, а не на параде.
Тем не менее, когда почтальону удавалось добраться до нас, письма из дома всегда быстро поднимали наш боевой дух. Мы очень радовались письмам от родителей, девушек и друзей, хотя они и были написаны за много недель до того, как попадали к нам в руки. Единственное письмо или посылка создавали у нас ощущение, что мы не остались отрезанными от родного дома. В каждом доставляемом на фронт мешке с письмами было много столь важной для нас любви и теплых человеческих чувств. Когда кто-нибудь из наших товарищей, живших в деревне, получал из дома продуктовую посылку, он по-братски делился ее содержимым с друзьями, жившими в городе. Семьи последних, получив информацию о нашем номинальном рационе, были уверены, что у нас всего вдоволь. А сельские жители справедливо считали, что не стоит слишком полагаться на армейскую службу обеспечения провиантом. В посылках, присланных ими, оказывалось много вкусных вещей, которые было невозможно получить по продуктовым карточкам.
Отмечу забавную деталь. В то время на всех посылках, которые нам присылали из дома, стояли бюрократические штампы, которые в том числе содержали надпись: «Осторожно! Огнеопасно, особенно в степных и лесных районах!» Это вызывало у нас, находившихся в зоне постоянного огня противника, многочисленные усмешки. И когда вокруг нас начинали взрываться мины и падать бомбы, обязательно находился шутник, громко предупреждавший товарищей: «Осторожно! Огнеопасно, особенно в степных и лесных районах!»
Ко мне почтовые отправления, мягко говоря, приходили вовсе не так регулярно, как к другим. Если сказать откровенно, я получал письма буквально в единичных случаях, хотя немецкая полевая почта функционировала превосходно. После войны я узнал, что голландские почтальоны в знак протеста уничтожали письма, адресованные на Восточный фронт. Возможно, они думали, что подобными «актами героизма» смогут помочь победить Сталину?
Между тем невероятные морозы делали нас почти неспособными вести бои. К новому году ситуация нисколько не улучшилась. Поэтому время нахождения в карауле для каждого отдельного бойца было сокращено. Теперь часовые сменялись каждые полчаса. На позициях караульных лежал толстый слой соломы, но это все равно не спасало от обморожений, которые можно было получить не то чтобы за половину часа, но и за более короткий временной промежуток. Обморожения были частым явлением. И, если мне память не изменяет, один бедный парень даже замерз до смерти. Тем не менее покидать караульный пост было запрещено при любых обстоятельствах. Употреблять алкоголь, чтобы согреться, нам также не разрешалось. Зато у русских постоянно были полные фляги водки, которую они пили всегда, когда хотели. Зачастую не столько для того, чтобы согреться, как чтобы напиться. Впрочем, русские всегда считали, что сорок километров – это не расстояние, сорок градусов – не мороз, а сорок процентов спирта неприлично называть алкоголем.
При недостатке водки иваны находили способ его восполнить. Они использовали авиационный спирт, который очищали через фильтр противогаза, а затем смешивали с сиропом. В результате у них получался более чем приемлемый ликер, но они не пили его маленькими глотками, а быстро опрокидывали в горло большими стаканами.
Но вернусь к нам. Помимо вшей и морозов, нам досаждала также топорная советская пропаганда. К нам забрасывались листовки, но мы использовали их как туалетную бумагу, или пускали на самокрутки. Однако русские продолжали вести психологическую войну. И мы периодически слышали один из самых популярных немецких хитов того времени «Я видел вас танцующей, о донна Клара». За песнями следовали пропагандистские призывы на немецком, в том числе: «Сдавайтесь победоносной Красной Армии, и вы вернетесь домой сразу после войны». Многие из подобных обращений пытались играть на наших естественных желаниях, как, например, такое: «У нас вас ждут девушки и много еды!» Мы обычно отвечали на него короткой очередью в направлении громкоговорителя, а иногда стреляли и до тех пор, пока он не замолкал.
Однако реакция на эти столь привлекательные обещания была различной. Особенно часто на эту удочку попадались горячие и легковерные испанские добровольцы из «Голубой дивизии». Они верили тому, о чем слышали. И это неудивительно, если учесть, что они прибыли на Русский фронт с его безжалостной зимой из страны, согреваемой горячим иберийским солнцем.
Впрочем, немецкая армия также не хуже русских знала силу печатного слова и обещаний, произнесенных через громкоговоритель. Так, в войсках СС с самого начала было три взвода военных корреспондентов, бойцы которых первоначально прошли пехотную подготовку. Затем, когда их численность достигла батальона, они были отправлены на Восточный фронт. Через некоторое время советские бойцы стали слышать воспроизводимые через громкоговорители сообщения на превосходном русском, призывавшие их сдаваться в плен и обещавшие им те или иные блага. Первоначально это приносило очень хорошие результаты. В первые месяцы войны, оказавшись в безнадежной ситуации или когда сражение обещало огромные потери, советские бойцы нередко сдавались, и кровопролития удавалось избежать.
Однако война с каждым днем становилась все более безжалостной. Это изменяло поведение бойцов с обеих сторон и учило нас тому, чему мы не научились бы нигде больше. Так, мы поняли, что страх, который все мы испытывали вначале, может быть побежден. В один прекрасный день в каждом из нас он переродился в смелость. Кроме того, мы осознали и приняли основной закон войны: если ты промедлишь с выстрелом и не поразишь врага, то погибнешь сам. Выжить могли только те, кто, не колеблясь, стрелял в противника. Это было жестоко, но просто, и очень важно, особенно если у тебя вдруг пропадала смелость. А так иногда случалось, когда атака врага оказывалась неожиданной. Особенно, если множество русских с криками «Ура!» внезапно выпрыгивали из укрытий и начинали окружать твою траншею. Еще хуже, если из-за леса вдруг выезжало несколько танков Т-34, ревущих двигателями в 500 лошадиных сил, которые стремительно приближались к тебе, и, казалось, – ничто не может их остановить. Тут уж даже самые отважные ощущали, как по их телу проходила дрожь.
Надо сказать, что советский танк Т-34 поразил и впечатлил даже легендарного немецкого танкового генерала Гудериана. Этот танк с его низким, обтекаемым силуэтом позволял экипажу чувствовать себя на поле боя, как рыба в воде. А траки Т-34, ширина которых была полметра, позволяли этой боевой машине перемещаться даже по заболоченной местности, где «Панцеркампфваген IV», чьи траки были шириной 36 сантиметров, увязал и останавливался. Русский танк был мощным и хорошо вооруженным, но при этом и маневренным. А что самое главное, он без труда двигался и по снегу, и по распутице. Т-34 представлял собой лучшую танковую конструкцию своего времени. И даже ни «пантера», ни «тигр», которые начали выпускаться годом позже, не могли сравниться с ним. Т-34 с его броней, толщина которой в разных местах колебалась от 45 до 60 сантиметров, и его высокими боевыми качествами не имел себе равных.
Когда нам, пехотинцам, приходилось противостоять этим машинам, то мы ощущали себя, как Давид, вышедший с пращой против Голиафа. Только действовать нам приходилось иными методами. Когда мы находились в траншеях и русские танки заставали нас врасплох, мы просто вжимались в свои окопы и позволяли им проехать над нами. Сразу после этого нам приходилось иметь дело с русскими пехотинцами, сопровождавшими танки. Завязывался ближний бой, в ходе которого мы также старались уничтожить и танки, атакуя их сзади. Все это было смертельно страшно и требовало стальных нервов, но зачастую приносило результат. Правда, мы при этом почти всегда несли крайне высокие потери.
Надо заметить, что все дивизии, корпуса и армии войск СС подчинялись командованию вермахта. И хотя эсэсовцы были экипированы и вооружены ничуть не лучше, чем обычные солдаты, но именно от войск СС ждали наибольшего напора в атаке и в обороне. Когда на каком-то участке возникала критическая ситуация, то туда направляли бойцов войск СС, действия которых порою спасали целые сектора Восточного фронта. Но удавалось это ценой огромных потерь. «Когда позади была лишь половина войны, треть бойцов изначальных дивизий войск СС уже лежали в русской земле», – отмечал Хайнц Хене в своей книге «Орден „Мертвой головы“».
Эти слова можно было применить и к нашей части. Тем не менее самые сложные недели через некоторое время остались позади, и зима ослабила свою ледяную хватку. Все вокруг по-прежнему было белым от снега, но морозы ослабли. В конце января и начале февраля к нам наконец поступила так давно обещанная нам зимняя одежда, собранная жителями Германии. Среди нее оказались замечательные меховые шапки, ватные куртки, зимняя обувь и теплые шерстяные свитера, а также вязаные подшлемники – результат спешной и самоотверженной работы немецких девушек и женщин. Однако все эти вещи дошли до нас слишком поздно.
23 февраля 1942 года генерал Гальдер, возглавлявший Генеральный штаб сухопутных войск Германии, писал в своем дневнике: «Сегодняшний день был особенно тихим». Наверное, именно так этот день и прошел у него на КП в Восточной Пруссии, однако у нас все было совершенно иначе. 23 февраля стало для нас днем исключительного кровопролития, когда Красная Армия атаковала наши позиции всеми имевшимися у нее средствами. И именно в этот день мой друг Робби получил очень тяжелое ранение.
В тот день он выполнял роль связного. Наш сержант беззвучно упал, мгновенно погибнув от пули, попавшей ему в сердце, и в тот же миг я услышал, как позади меня взорвалась мина, выпущенная из миномета. Сразу за взрывом я услышал голос Робби, он звал меня к себе. Как только я подбежал к нему, Робби с трудом улыбнулся, но его улыбка выглядела жалкой и болезненной. Он не хотел меня слушать, когда я стал утешать его, говоря, что, благодаря ранению, его теперь отправят в отпуск домой. Робби попросил меня, чтобы я пообещал навестить его семью, если он умрет. Он страдал от ужасной боли, и я не мог ему ничем помочь. Вокруг нас беспрестанно взрывались мины и не умолкали пулеметы.
Это были ужасные минуты, но наконец мне удалось оттащить Робби из зоны огня. Его положили на покрытые соломой сани. Лежа на них, защищенный от ветра высоким сугробом, он должен был дожидаться, пока его с другими ранеными отправят в полевой госпиталь. Чтобы мой друг не замерз, я накрыл его толстым покрывалом, натянув его ему на лицо, которое успело пожелтеть от начавшегося обморожения. В этот момент я был твердо уверен, что увижу Робби снова живым и здоровым. Однако перед тем, как его увезли, я вдруг разглядел на его лице выражение, которое видел уже много раз прежде на лицах умирающих. Это было странное выражение удивления и нежелания поверить в то, что скоро все в этом мире для них будет кончено.
Я не мог оторвать взгляда от своего друга, мне хотелось долго смотреть ему вслед. Но этого я уже не мог себе позволить в том аду, что творился вокруг меня. Чтобы выжить, нужно было продолжать сражаться. И мне оставалось только отчаянно молиться за Робби.
Через несколько дней мы были вынуждены отойти на другие позиции. У нас появилась возможность отдохнуть и согреться в деревенских хатах, стоявших у дороги. Там к этому моменту размещался пункт медицинской помощи вермахта. Больные и раненые дожидались здесь транспорта, который доставит их в госпиталь. Внутри было тепло, и мы наконец почувствовали облегчение после трудного боя. Услышав мою речь, сержант медицинской службы сказал:
– У нас здесь был парень с таким же акцентом, как у тебя. Ты голландец?
Я был удивлен и обрадован. Неужели это Робби? Чтобы уточнить, я назвал его имя.
Сержант согласно кивнул и добавил:
– Он лежит там.
Посмотрев на его руку, я понял, что сержант указывает за окно.
– Никто не смог бы выжить с таким количеством шрапнели, какое было в нем, – сказал сержант сочувственно. – Он держался очень мужественно.
Я долго стоял над только что вырытой могилой Робби. Его последний приют оказался скромным. Это был покрытый снегом холм у дороги в бескрайней России. Я не знаю, как долго я стоял у его неприметной могилы, не в силах смириться с тем, что больше никогда не увижусь с ним. Над могильным холмиком возвышался простой березовый крест. Такой же простой была и надпись на нем: «СС шутце Роберт Райлинг, пал 1 марта 1942 г.»
В июне его семья получила письмо от немецкого отделения Красного Креста, сообщавшее о происшедшем: «Немецкое отделение Красного Креста с сожалением вынуждено сообщить вам, что, согласно полученным нами сведениям, СС шутце Роберт Райлинг умер от ран, полученных в бою, в 4 часа ночи 1 марта 1942 г. на главном пункте первой медицинской помощи в деревне Сосно. Место его захоронения находится в двухстах метрах восточнее школы в Сосно у дороги Малоархангельск – Дросково. Сердечно соболезнуем вам и вашей семье. Хайль Гитлер!»
Копию этого письма я храню по сей день. Последнюю волю Робби мне удалось выполнить только через несколько месяцев. Во время своего первого отпуска домой я немедленно отправился к его родителям на север Голландии. Мне было нелегко ехать к родителям и братьям Робби с последним приветом от него. Но я был удивительно тепло встречен его семьей в их большом особняке под Гронингеном. И они даже подарили мне многие вещи, которые у них были приготовлены для Робби.
Я гостил у них несколько дней. За это время мне приходилось снова и снова рассказывать о том, что нам доводилось пережить вместе с Робби. И тогда же меня охватила первая большая любовь в моей жизни. С сестрой Робби мы влюбились друг в друга практически с первого взгляда. А когда я окончил гостить у них, наш роман продолжал развиваться по переписке, а также мы встречались во время моих коротких солдатских отпусков.
Смерть Робби стала началом несчастий и страданий, обрушившихся на его семью. Менее чем через год его отец был убит, когда возвращался домой на своем велосипеде. Его застрелили в спину в его родной мирной Голландии. В прошлом он был генеральным консулом в Либерии и воспитал четырех детей. Также он был членом НСД и был известен своими симпатиями к Германии. Это и стоило ему жизни. Вплоть до конца войны подобных вероломных убийств с каждым годом становилось все больше. Они выливались в ответные меры со стороны оккупационных властей, направленные против деятелей антигерманского подполья.
Следует заметить, что активность подполья во время той войны была феноменальной, особенно в Советском Союзе. С одной стороны, тысячи русских, украинцев, эстонцев, латышей, крымских татар и грузин добровольно помогали войскам Германии, работая в тыловых службах в качестве шоферов, конюхов, рабочих по кухне и разнорабочих. Немало жителей СССР было и в боевых подразделениях немецкой армии, где они в первые годы войны преимущественно выполняли функции подносчиков патронов, связных и саперов. В немецких частях их сначала называли просто «наши иваны», но потом был введен официальный термин «хильфсвиллиге» (нем. Hilfswillige), или сокращенно «хиви», т. е. «добровольные помощники». Они вставали на сторону Германии, чтобы освободиться от ярма коммунизма.
С другой стороны, в Советском Союзе было ничуть не меньше партизан, противостоявших немецкой армии. Они сражались без униформы, без знаков различия, и их нельзя было опознать среди населения. Крестьянин, вспахивающий поле, женщина, работающая на кухне немецкой части, кузнец, сельская учительница или даже хозяин дома, в котором мы жили, – любой из них мог принадлежать к партизанам. Страшная судьба ожидала того, кто попадал в их руки. Чтобы добыть нужные им сведения, они прибегали к жесточайшим средневековым пыткам. С их помощью партизаны старались добыть хоть какую-то информацию о последующих немецких атаках, перемещениях войск и вооружении. Пленным выкалывали глаза, отрезали языки и уши. И не стоит думать, будто я говорю здесь о единичных случаях, это было системой, по которой работали партизаны. Оказавшись в плену у этих варваров, никто не мог рассчитывать остаться живым. И лишь немногим везло оказаться застреленными в затылок без предшествующих мучений.
Пожалуй, именно партизанская деятельность на Восточном фронте, на Балканах и в Западной Европе привела к ответным мерам со стороны вермахта. Однако сегодня перед нами рисуют совершенно другую картину, преподнося противоречившую законам войны деятельность партизан как нормальную освободительную борьбу народов. История в который раз оказалась написанной победителями.
Тем не менее я процитирую некоторые из десяти заповедей бойца, которые были напечатаны в расчетной книжке каждого немецкого солдата. Третья заповедь гласила: «Преступно убивать пленных, оказавшихся в окружении, в том числе партизан и шпионов». Четвертая заповедь: «Пленные не должны оскорбляться и подвергаться плохому обращению». Шестая: «В отношении раненых пленных должен быть организован человечный уход и лечение» [12]12
Читая подобное, невозможно удержаться от реплики. Библия – самая популярная книга в мире, и ни один бестселлер не сравнится с ней по тиражу. Однако выполняют все библейские заповеди даже среди верующих единицы. И что бы там ни было написано в расчетных книжках немецких солдат, но «доблестный» вермахт и войска СС заживо сжигали целые деревни с мирными жителями, женщинами, стариками и детьми. И если даже согласиться с некоторыми исследователями, что подобное происходило чаще именно в партизанских краях, то говорить об адекватности подобных мер действиям партизан ни в коем случае не приходится. Цитирование же автором «солдатских заповедей» немецких войск на этом фоне выглядит вообще, как минимум, циничным и неуместным. – Прим. пер.
[Закрыть]
До декабря 1941 года вермахт оккупировал территорию России, на которой находилось 65 миллионов жителей. Изначально среди них было около 10000 партизан. Но их число очень быстро росло. И уже к середине 1942 года в подпольную деятельность против немецких войск было вовлечено 100000 мужчин и женщин. На первых порах их активность не приносила особого успеха. Большинство мужчин, состоявших в их рядах, были стариками, и все они были плохо вооружены, хотя их действия зачастую контролировались армейскими властями из глубокого тыла. Гораздо более эффективной была деятельность отрядов из представителей национальных освободительных движений. Они были распространены, в частности, в Западной Украине и Западной Белоруссии и состояли преимущественно из бойцов, дезертировавших из Красной Армии. Эти отряды первоначально выступали исключительно против Красной Армии и советской власти. Но потом, к сожалению, ситуация сложилась так, что они стали нападать и на немцев.
Тем не менее согласно данным, приведенным в книге «История партизанского движения» русского автора Б.С. Тельпуховского: «С 1941-го по 1943 годы русские бойцы уничтожили 500000 вражеских солдат, в том числе 47 немецких генералов, а также множество антисоветски настроенных украинцев». Но вернусь к партизанам. Среди их вооружения были ножи и даже автоматы. Однако наиболее распространены были винтовки и охотничьи ружья. Также в ближнем бою с танками они использовали бутылки с зажигательной смесью. Это простое в изготовлении оружие было впервые применено русскими во время советско-финской войны 1939–1940 годов. Оно было тем более удобно для них, что у русских не было недостатка в пустых водочных бутылках! Впрочем, несмотря на свою примитивность, это оружие было очень эффективным: зажигательная смесь из фосфора и серы, воспламенившись, раскалялась до 1300 градусов.
Приказав создать партизанское движение, Сталин знал, что он делает. Его организация началась на двенадцатый день после начала войны. Помимо этого, советский лидер начал проводить политику «выжженной земли», которая означала, что все, что не удается забрать при отступлении, должно быть уничтожено. «Отвечать ударом на удар – таков был девиз тех дней», – писал Александр Верт. У немецких же войск попросту не было времени выискивать партизанских вожаков среди жителей деревень. Из-за этого мирные жители постепенно оказывались в руках партизан. Это было тем более обидно, если учесть, что изначально многие русские встречали немецкую армию с хлебом и солью, как освободителей от ярма коммунизма.