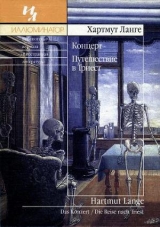
Текст книги "Концерт. Путешествие в Триест"
Автор книги: Хартмут Ланге
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
5
На следующий день профессор Монтаг проснулся очень рано с мыслью, в котором часу пришла его жена и спит ли она до их пор. На другой день он поехал на своей машине в университет. Машин на стоянке почти не было, вахтер удивленно кивнул. Во дворе прямо по газону шли уборщицы с ведрами и метлами в руках. Все это создавало атмосферу суетливости, чуждую его натуре, и профессор, почувствовав тут себя лишним, остался в машине, медленно покрутил ручку стеклоподъемника и приоткрыл окно. Ему пришла в голову идея отменить семинар.
На столе вахтера он набросал записку, в которой извинялся за свое отсутствие, и хотя понимал, насколько расплывчатыми и неубедительными выглядят его объяснения, тем не менее возвращался к машине с чувством облегчения. Ему захотелось движения. Он ехал по узким, заставленным автомобилями улочкам, а добравшись до Галенского озера, свернул на Авус. [17]17
Авус (сокр. от Automobil-Verkehrs-und-Uebungs-Strasse – дорога для автотранспорта и обучения; нем.) – первоначально участок скоростного шоссе под Берлином, где проводились автогонки. Ныне часть автобана.
[Закрыть]На него нахлынули воспоминания о том, сколько раз отсюда они начинали путь на юг!
Он отчетливо, до мелочей, припомнил их последнее совместное путешествие. На заднем сиденье как всегда нагруженной до предела машины поместилась невестка с детьми, едва справлявшаяся с двумя малышками. В этой мягкой толкотне она им нашептывала что-то на ухо и постоянно прикладывала указательный палец к губам – деталь, почему-то особенно тронувшая профессора Монтага. Он вспомнил, как, вместо того чтобы следить за дорогой, все чаще и продолжительнее поглядывал в зеркало заднего вида. Незаметно девочки заснули подле матери. Еще ему вспомнилось, что у младшей во сне соломенная шляпка съехала на лоб.
Он повернул назад к Шмаргендорфу. Настроение улучшилось, и мысль о неотвратимости разговора с женой насчет таинственного извещения о смерти казалась ему теперь едва ли не обыкновенным делом.
Припарковаться перед домом оказалось не так-то просто. Промежутки между машинами казались ему слишком маленькими, так что пришлось свернуть в соседний переулок. Сто метров до калитки палисадника перед его домом он прошел, нет – доплелся, покручивая связку ключей на безымянном пальце. У калитки его внимание привлек старенький кабриолет «фольксваген» с износившимся верхом, залатанным лейкопластырем.
«Паченски», – подумал профессор и бросил взгляд на окна дома. В одном из них, как ему показалось, мелькнула и исчезла фигура, наблюдавшая за улицей. Профессор Монтаг успел заметить колыхавшуюся гардину, которую некто пытался привести в порядок. Профессор еще раз оглядел кабриолет. На пороге дома появилась его жена.
Улыбаясь, она подала ему руку и призналась, что не ожидала столь скорого его возвращения. От профессора Монтага не укрылось ее смущение, а через открытую дверь гостиной в коридоре, ведущем в библиотеку, он увидел Паченски – человека, которого помнил еще студентом и который многие годы ездил на отжившем свой век автомобиле. Паченски безвольно опустил руки, сделал несколько шагов ему навстречу и собирался даже что-то сказать, но под испытующим взглядом профессора смутился и промолчал. Профессор Монтаг повесил куртку в гардероб. Жена объявила, что готова подать завтрак, и выкатила сервировочный столик с посудой в столовую. Профессор бегло пересчитал чашки, желая убедиться, учтено ли его присутствие. Паченски все еще стоял, словно ненужная вещь посреди прихожей, внимательно наблюдая за тем, что происходит вокруг, и раздумывая, не следует ли помочь хозяйке.
Послышался звон, затем глухой удар. Из-за того, что сервировочный столик зацепился за ковер, сахарница соскользнула и разбилась о паркетный пол. Паченски в одно мгновение опустился на колено и нагнулся над осколками и рассыпанным сахаром, как будто в его силах было быстро устранить последствия этого маленького несчастья.
Профессор Монтаг заметил, как покраснела жена. Ее прическа растрепалась, она то и дело поправляла выбившуюся прядь своей маленькой ладонью, а правой рукой одновременно забирала у Паченски осколки. А Паченски, пытавшийся ладонями сгрести с пола сахар и время от времени поглядывавший на хозяев, производил впечатление человека, которого застигли за чем-то недозволенным, что по своей значительности не шло ни в какое сравнение с разбитой посудой. Все выглядело так, словно их обоих связывало нечто сокровенное, по крайней мере, пока они собирали осколки, и эта тайна приводила их в смущение.
«Однако, – подумал профессор Монтаг, – этот человек (он имел в виду Паченски) до сих пор не удосужился вразумительно объяснить, что он тут, собственно, делает».
Завтрак наконец был подан, но профессор Монтаг, поблагодарив, отказался. Никто не знал, что в такой ситуации следует делать, и в столовой повисла напряженная тишина. Жена и Паченски, помешивая ложечками кофе, сидели за круглым столом на почтительном расстоянии друг от друга. Осколки сахарницы лежали тут же, на краешке стола.
Профессор Монтаг попытался восстановить в памяти мгновения, когда бы он хоть издали видел Паченски на территории университета, и даже не мог сказать, на каком факультете он числился. Помнил только, что тот всегда появлялся мельком, отчего его образ расплывался и производил впечатление чего-то непостоянного, переменчивого. И вот теперь он видит его перед собой. Профессора удивляло, что этот молодой человек, настоящий возраст которого трудно было определить, сидел за столом подле его жены. Может быть, их связывает совместная работа? Может, их общение вообще не будет иметь серьезного продолжения, раз он узнал о нем благодаря случаю? Или не все так просто?
«Если это упорное молчание будет продолжаться и дальше, – думал профессор Монтаг, – то я, без сомнения, вовсе ничего не выясню».
– Вы изучаете юриспруденцию? – спросил он вдруг и, прежде чем Паченски успел ответить, добавил: – Я не знал, что вы пожалуете к нам в гости.
6
– Бытие – это укоренение в пустоте.
Профессора Монтага никогда не привлекала эта, как он ее называл, враждебная по отношению к жизни философия, и всякий раз, когда ему приходилось заводить о ней разговор, он не упускал случая высказать свои доводы несогласия. То, что он о ней читал и что должен был донести до студентов в упрощенном виде, казалось ему преувеличением, более того, он считал своим долгом обратить внимание молодежи на то, с каким легкомыслием эта философия приводит своих адептов к пессимизму. Так было и в это утро. Перед ним на кафедре лежала изрядно потрепанная рукопись. Он столько раз зачитывал ее фрагменты и был настолько уверен в себе, что вряд ли мог что-либо прибавить к тем мыслям, которые изложил на бумаге несколько лет назад.
– Бытие, – повторил он наводившим скуку и в то же время резким голосом, – бытие – это…
Едва он начал, успев мельком свериться по часам, что эта лекция, последняя у него в семестре, продлится не более пятидесяти минут, как решил в этот раз побыстрее изложить материал полупустому залу. Он привел в порядок рукопись, отложив несколько несущественных, с его точки зрения, глав, но тут его взгляд упал на одного студента в последнем ряду, который, скрестив руки и перегнувшись через спинку предыдущего ряда, разговаривал с приятелями: это был Паченски.
«А этот что здесь делает? – удивился профессор Монтаг, стараясь не показывать, как неприятно поразило его это открытие. На молодом человеке была куртка большого размера, особенно бросалась в глаза ее несоразмерность в плечах, а воротник доходил едва ли не до ушей. – Он хочет обратить на себя внимание», – продолжал изучать Паченски профессор и поймал себя на мысли, что думает о нем против своей воли.
Профессору хотелось не замечать Паченски, но не удавалось. Это действовало ему на нервы, ему, привыкшему добиваться всего, даже того, о чем и помыслить трудно. Почувствовав сухость в горле, профессор схватил стакан, но заметил, что он покрыт пылью, а на дне лежат крошечные дохлые мошки. Профессор испугался. Сколько раз он предрекал себе и даже воображал картину, как однажды от него странным образом начнет ускользать смысл отдельных слов, в которые он вдумывался тысячи и тысячи раз, подбирая их звучание, и вообще как он перестанет понимать то, о чем здесь сам аргументированно рассказывает с кафедры.
Разве выражения вроде «основоналичия страха» не льстили его научному честолюбию? Разве не он постоянно твердил – одновременно ломая голову над тем, с какой целью Паченски оказался сначала в его библиотеке, а теперь вот здесь, в аудитории, – о феномене «ужасного и трепетного», [18]18
«Ужасное и трепетное» – по-видимому, автор намекает на понятие «tremendum» (внушающее трепет, страшное, ужасное – лат.) в философии Рудольфа Отто, то есть чувство, которое мы испытываем, приближаясь к сакральному.
[Закрыть]несмотря на то, что был не в силах дать этому понятию точного определения?
Он заметил, что Паченски явно скучал, но вдруг что-то привлекло его внимание: молодой человек смотрел уже не на кафедру, к чему профессор отнесся с явной досадой. Паченски встал и, небрежно поправив на плечах куртку, направился к ближайшему выходу.
Все это было в первой половине дня. После обеда профессор Монтаг пролистывал партитуру и думал, как отнесется жена, сидевшая на диване и пытавшаяся распутать узелки на цепочке, к парочке стремительных клавирных пассажей. Он был раздосадован последними событиями и хотел поделиться с ней.
Мол, тот недоросль, с которым она намедни собирала с ковра сахар, возомнил, что может бездельничать на его лекции и вообще делать что ему заблагорассудится. Подробнее, однако, рассказывать о Паченски не хотелось, да к тому же он боялся смутить жену столь пристальным вниманием к молодому человеку.
«А ведь ее всегда окружали такие половинчатые характеры, – размышлял он. – Да, именно половинчатые». И представил себе типов, которых терпеть не мог за беспардонность и скрытую зависть. Он встречал их в университетском городке, но, кроме вечной ухмылки и дурацких пустых фраз, ничего вспомнить не мог.
Он встал и вышел на улицу. Его опять, несмотря на дождливую погоду, потянуло прогуляться, лучше всего, конечно, вдоль реки. Менее чем через час он уже находился в местечке за Линдвердером и стоял, облокотившись на перила мостков, всматриваясь в другой берег. Профессор знал, что там, за рекой, через каких-то двести метров стоял особняк с огромным белым фасадом. Но сегодня было пасмурно, и в непрозрачном воздухе трудно было что-либо увидеть. В той стороне, где должен был стоять замок Шпандау, уже смеркалось. Рассеянный свет, преломляясь во влажной дымке, создавал удивительные световые переходы. Слева на горизонте, куда закатилось солнце, небо еще отражало последние лучи скрывшегося светила, на востоке же все тонуло в неопределенно-сером сумраке, а черная вода Хафеля будто бы говорила, что скоро непроглядная тьма поглотит последние очертания предметов. Вдоль дорожки, что бежала близ воды, словно боялась от нее оторваться, от Линдвердера до Шильдхорна, раньше росли высоченные тополя, но их кто-то срубил. Пахло смолой и гнилыми листьями, и профессор Монтаг с удивлением отметил, что воздух был по-осеннему свеж, как в октябре.
«А ведь сейчас лето», – подумал он, запахивая поплотнее полы пиджака. Туфли промокли, еще когда он полез на мостки. Но он собирался пробыть здесь до самой темноты.
В воздухе разносилось сухое карканье. Профессор огляделся вокруг и в кронах двух оставшихся несрубленными тополей увидел стаю ворон. Неугомонные птицы раскачивались на ветках, взмахивая крыльями. Глядя на птичью суматоху, профессор Монтаг ощутил странное смятение, будто он тоже был вовлечен в этот гомон. Но откуда тут вороны? И почему он не видел, откуда птичья стая постоянно получала пополнение, так что кроны двух деревьев стали буквально черными, а некоторым птицам пришлось разместиться на голом холме?
Сумерки быстро опускались, погода становилась все пасмурнее, справа, на северо-востоке, ландшафт терялся в неразличимой бесконечности, откуда то по одной, то парами появлялись все новые вороны. Они слетались на тополя беззвучно, с видом опоздавших. Как им удавалось преодолеть границу между видимым и невидимым мирами, он не мог объяснить. Словно здесь происходила какая-то равнозначная замена.
«Похоже, они возникают из ничего. Да, да, – размышлял профессор, – почему мы говорим лишь о том, что существует, а не о том, чего нет?» И ему пришло в голову, что примерно такие же фразы он как раз высмеивал на лекции как пример досужего разглагольствования. Некоторое время он раздумывал над этой мыслью, но так и не смог ничего возразить высказываниям самодовольных философов. Он повернул назад, к Линдвердеру. Его удивило, что свет, по которому он ориентировался, падал со стороны Хафеля, как раз оттуда, где стояла совсем непроглядная тьма.
7
– Вы, по-видимому, не ожидали меня здесь встретить?
– Отнюдь, – ответил Паченски.
– Ну что ж, – сказал профессор Монтаг, закинул ногу на ногу и принялся молча разглядывать комнату с оштукатуренным потолком. Выходившая разом на две комнаты выложенная изразцами печь привела его в полный восторг. Он поинтересовался, можно ли эту печь топить, и, после того как Паченски, подпалив скомканные газеты, продемонстрировал печь в работе, долго смотрел в топку, обрамленную чугунным орнаментом. И подытожил:
– Как чудесно старые берлинцы умели оформлять свое жилище!
Паченски согласился. Они сидели друг против друга. Между ними, на уровне колен, – странный столик с подрезанными ножками, по-видимому для цветов. Паченски признался, что у него нет ни чая, ни кофе, и профессор Монтаг понимающе кивнул, не сумев сдержать улыбку.
– Но от водки вы не откажетесь?
Не прошло и трех минут, как на столике стояла бутылка, и они попивали сливовицу из дешевых стаканов.
– Хочу вас попросить, – обратился профессор Монтаг, допивая второй стакан, – хочу вас попросить, – повторил он, – ответьте мне, почему вы на днях пили кофе с моей женой?
Паченски хотел быть вежливым, но вопрос профессора его немного смутил. Как-никак этот человек, который в ином случае едва ли обратил бы на него внимание, неожиданно вернулся к себе домой… получилось, что он застал их врасплох.
– Меня направили к Ирэне стажером.
– Вот как, – отреагировал профессор Монтаг.
Со двора послышались приглушенные звуки. Раздался звон полетевших в контейнер бутылок, потом что-то прокричал женский голос, и все смолкло. Профессор Монтаг повертел в руках свой стакан и с нескрываемой досадой, как будто Паченски заставил его слишком долго ждать, произнес:
– Да? И у вас есть опубликованные работы?
Паченски поднялся с места и, бормоча под нос извинения, пошел в соседнюю комнату. Послышался шорох переворачиваемых бумаг, глухие звуки ударяющихся друг о друга неизвестных предметов. Так продолжалось несколько минут. Профессор Монтаг был уверен, что молодому человеку нечего предъявить, но тут в дверях появился Паченски.
– Вот, – сказал он, протягивая профессору согнутый пополам большой конверт.
Профессор Монтаг случайно задел коленом цветочный столик. Казалось, он пытается ответить сам себе на какой-то вопрос. Не без труда профессор приподнялся со стула и молча взял конверт. Пауза затянулась до неприличия. Наконец профессор Монтаг ни с того ни с сего спросил:
– У вас с моей женой любовная связь?
– С чего вы взяли? – ответил Паченски и забрал конверт, будто от этого он что-то выиграет.
– Скажите мне правду. Вы состоите с моей женой в любовной связи?
Далее случилось то, чего менее всего можно было ожидать. Профессор Монтаг взглянул в лицо своему собеседнику, и у него мигом пропала самоуверенность, с какой он держался всего минуту назад.
– Простите, – пробормотал он.
– Мне не за что вас прощать, – ответил Паченски, смущенный внезапно изменившимся выражением лица профессора. Мгновение мужчины стояли друг против друга, затем профессор Монтаг взял свой шарф, висевший на крючке для одежды, и ушел. После того как хлопнула дверь, Паченски еще некоторое время размышлял, как нехорошо все вышло: они разошлись не объяснившись. Однако он не сдвинулся с места, а только сложил конверт, который бессмысленно теребил в руках.
Спускаясь по лестнице, профессор Монтаг ухватился за перила. Он уже сожалел, что слишком разоткровенничался с Паченски.
Ему пришлось долго искать такси, поскольку он плохо ориентировался в этом районе. Водитель вел машину грубо, то и дело резко меняя ряд. У профессора закружилась голова, он почувствовал боли в животе и потому потребовал, чтобы его высадили на ближайшей железнодорожной станции. Боли отпустили лишь тогда, когда перед ним наконец оставался прямой отрезок пути до Шмаргендорфа. Кое-как преодолев оставшиеся километры от вокзала до дома, он задержался в саду. Его внимание привлекло растение с высоким стеблем и цветами, похожими на подсолнух. Название этого растения он так и не выяснил. Он сорвал цветок, и пошел в библиотеку, надеясь найти его название в учебнике ботаники, но безуспешно: о таком растении не было ни строчки, даже рисунка не было. Цветок был очень хорош, и он поставил его в вазу с водой.
8
Удивительно. Последующие дни до самого июля не принесли никаких беспокойств, и состояние профессора Монтага заметно улучшилось.
– Боли чувствуете?
– Чуть-чуть.
– Можно говорить о положительных сдвигах, – подытожил врач.
От шрама, еще недавно широкого, вздутого и красного рубца, осталась тонкая бледная полоска, и о новом хирургическом вмешательстве, по заверениям врача, пока речь не шла. Не без гордости профессор Монтаг следил за тем, как стрелка весов с каждым днем передвигалась на следующую отметку. Конечно, чтобы набрать прежний вес, тот, что был у него до болезни, нужно еще немало потрудиться, однако он чувствовал, как постепенно приходит в равновесие. Профессор много ходил пешком. Если обед, который с недавних пор готовила домработница, был на столе, а Ирэна еще сидела в своем кабинете, он терпеливо ждал, налив себе вина, или шел на кухню, чтобы отмыть до блеска бокал, и ни словом не обмолвился о том, что из-за медлительности жены еда почти остыла.
«Вот так всегда, – размышлял он. – Даже когда она наконец усаживалась за стол, все равно мыслями была далеко и говорила очень редко». Если только он слишком много пил, что случалось, она осторожно, чтобы не обидеть мужа, брала его за руку и вынуждала опустить рюмку, и профессору Монтагу это даже нравилось. Позже, за кофе, она становилась разговорчивей, рассказывала ему о своей работе в окружном суде, но как-то быстро, без подробностей, оправдываясь тем, что ей, мол, через пятнадцать минут нужно бежать по делам.
«Вот так всегда», – думал профессор Монтаг.
Услышав, как хлопнула входная дверь, и поняв, что она опять в самую последнюю минуту заторопилась на какой-то очередной процесс, он встал и начал убирать посуду. Это было необязательно, все могла сделать и домработница, но ему казалось, что так он сохраняет связь с мирами, и он даже взял тряпку, чтобы стереть пыль со стола и полок библиотеки.
Во время прогулок в Шваненвердер они шли под руку. Он старался подладиться к ее маленькому шагу, и этот жест внимания – или то была простая вежливость? – давал ему ощущение доверительной близости, которой давно не было в их отношениях.
«У нас никогда не было напряженных отношений», – подумал он и вспомнил, как она вполуха слушала его пояснения о холмистой местности вдоль Хафеля, что ему было даже по нраву. В конце концов, почему ее должны интересовать эти холмы? Достаточно того, что она позволила мужу выговориться на любимую тему, и притом не проявила равнодушия.
Вечером он принес из подвала бутылку красного вина, спросил, не сыграть ли ей что-нибудь, но так как она замешкалась с ответом, он стал оправдываться:
– Ты совершенно права. Не буду портить тебе настроение своим бренчанием. Предлагаю поставить пластинку.
Они слушали Тройной концерт Бетховена в записи Берлинского филармонического оркестра и пили вино. Он встал, подошел к столу, собираясь прочитать аннотацию на конверте пластинки, но вдруг взял жену за руку. Нельзя сказать, что он был склонен к нежностям, ему просто захотелось прикоснуться к ней, может быть, музыка, а может, вино делает человека сентиментальным.
Когда они шли в оперу, он поражался, как скоро и без труда ему удавалось сбросить напряжение, как-никак в таком состоянии он находился не менее пяти часов кряду. Если оставались дома, то он устраивался под лампой и, вытянув ноги, буквально сливался с диваном. Он перелистывал какие-то бумаги, черкал красным карандашом в своих ранних лекциях, порой выбрасывая целые абзацы и поражаясь, на какие суждения был способен в те годы. А если в это время из-за стены раздавались щелкающие звуки пишущей машинки, то ему казалось, что все налаживается. В такие минуты он приходил к выводу, что пусть все идет своим чередом, и даже то, что сейчас доставляет беспокойство или кажется угрожающим, даже эта болезнь, которая доставляет столько хлопот, когда-нибудь постепенно, но обязательно исчезнет.
– Прости, Ирэна, – произнес он, входя в полуоткрытую дверь ее кабинета. – Не припомню, когда я чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Может быть, скоро я совсем поправлюсь.


