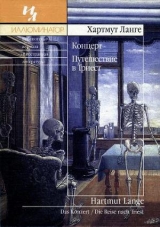
Текст книги "Концерт. Путешествие в Триест"
Автор книги: Хартмут Ланге
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
5
– Он принял решение, – заявила фрау Альтеншуль.
Гостиная была до того переполнена, что кое-кто из гостей стоял в дверном проеме, ведущем в соседнюю комнату. Прием проходил в четверг, когда фрау Альтеншуль могла торжественно объявить о своих успехах: она, мол, решила собрать вокруг себя евреев, тех, кого особенно ценила, но кого в молодом возрасте насильственно вырвали из жизни – при этом она то и дело указывала на Левански, – и в заключение огласила:
– На следующей неделе он даст первый концерт.
По ее тону трудно было не догадаться, что речь идет о событии, которое затмит все прочие, даже уже ставшие привычными многочасовые увлекательные беседы за чаем или кофе.
Обсудили подробности. Левански хотел выступить в западном крыле замка Шарлоттенбург. [6]6
Шарлоттенбург – район Берлина, примыкающий к реке Шпрее.
[Закрыть]Было решено чествовать исполнителя, да так горячо, чтобы ему больше не пришла в голову мысль перекочевать в Прагу или в Лондон. Здесь, в Берлине – в этом все были едины, – раскрылся его талант, здесь преступники должны ответить за его смерть, и здесь он должен освободиться от груза переживаний, связанных с такой страшной несправедливостью.
Как всегда по четвергам, без пятнадцати двенадцать внизу позвонили, но мало кто обратил на это внимание, многие просто не услышали, хотя всем было известно, что за человек просит, чтобы его впустили. Через какое-то время он, как всегда, постучал в надежде, что хотя бы стук будет услышан, но и эта попытка осталась незамеченной. Правда, на этот раз гости ошиблись. Тот, кто стоял перед главным входом, проявлял настойчивость, несмотря на то что по воле фрау Альтеншуль он ни при каких условиях не должен был оказаться среди приглашенных. Он звонил снова и снова, пока наконец фрау Альтеншуль не попросила ТИШИНЫ:
– Пусть стучит сколько ему вздумается. Он все равно ничего не добьется. Но мне не хотелось бы, чтобы он тут появился в тот день, когда Левански будет давать концерт. Нужно ему это втолковать раз и навсегда.
При этом она посмотрела в сторону открытой двустворчатой двери и явственно обратилась к кому-то, скрывавшемуся за дверным косяком. Его лица не было видно, зато все разглядели ноги в лакированных туфлях. Он слегка раскачивался, а руки его непрерывно теребили кожаный портсигар. Этим человеком был Шульце-Бетман. Он написал несколько довольно приличных романов в духе злой сатиры и ни у кого, даже у мертвых, не вызывал симпатий, хотя нельзя было не признать за ним редкого остроумия, которое он пускал направо и налево без оглядки на обстоятельства.
Прежде всего никто так и не понял, к кому обращалась фрау Альтеншуль, поскольку Шульце-Бетман не выдал себя ни единым звуком. Точно так же никто не взялся бы объяснить, чем был вызван неожиданный интерес фрау Альтеншуль к тому человеку на улице, которого она нарочито игнорировала. Тем не менее звонки и стук не прекращались – такой назойливости никто из гостей припомнить не мог, и все подумали: хорошо бы кто-нибудь набрался смелости и положил этому конец.
Спустившись по лестнице вниз, Шульце-Бетман увидел знакомую тень через окно передней на фоне решетки, а когда открыл дверь и вышел на тротуар, то незваный визитер успел перейти на противоположную сторону улицы. Заметив Шульце-Бетмана, он остановился, и они принялись изучать друг друга: тот, что недавно привлекал к себе внимание, медленно протягивал хлыст, зажатый в кулаке левой руки, а Шульце-Бетман с видимым спокойствием вынул из кармана портсигар и достал сигарету.
Он взял сигарету в рот, похлопал себя по карманам пиджака и сообразил, что где-то потерял зажигалку. В этот момент тот, второй, нерешительной походкой двинулся к Шульце-Бетману, он был в военном мундире и мало чем отличался от человека, которого фрау Альтеншуль с Левански встретили во время прогулки на чугунном мосту в Тиргартене, разве что этот открыто носил знаки воинского отличия, а у того, из Тиргартена, их не было. Человек в военном мундире подошел к Шульце-Бетману и предложил огня. Шульце-Бетман обратил внимание на то, как от маленького огонька блеснула серебристая кокарда в виде черепа, и сказал:
– Вы бы сняли этот значок, ведь вы сами теперь в том же состоянии, какое уготовили для нас.
Тут он глубоко затянулся, так что сигарета убавилась на добрую четверть, и, вытянув губы, выпустил струю дыма. Другой едва успел вовремя отвернуться.
Потом произошло нечто странное. Шульце-Бетман подхватил человека в мундире под руку и повел в направлении Вильгельмштрассе, при этом что-то тихо, но настойчиво втолковывая ему. Фрау Альтеншуль из окна наблюдала, как тот, другой, пока Шульце-Бетман безостановочно жестикулировал левой рукой, снял фуражку и близко-близко, почти доверительно наклонил голову к собеседнику. Эта сцена вызвала у нее раздражение. Она представила, сколько язвительных реплик в этот момент было отпущено в адрес Шульце-Бетмана, который настолько потерял стыд, что беседует с убийцами. Глядя на эту парочку, трудно было отделаться от этих мыслей. Парочка тем временем дошла до Вильгельмштрассе и остановилась возле полуразрушенного остроугольного здания, один вид которого был для нее невыносим. Она видела, как Шульце-Бетман протянул руку своему спутнику, уже стоявшему на пороге дома, и как тот схватил ее немного поспешно и даже, как ей показалось, подобострастно, словно хотел еще раз подтвердить какое-то данное Шульце-Бетману обещание, потом надел фуражку и исчез за дверью.
Когда Шульце-Бетман вернулся в гостиную, от него не укрылось, что гости были в недоумении, поскольку его отсутствие тянулось гораздо дольше, чем нужно для того, чтобы поставить на место непрошеного визитера, а фрау Альтеншуль о своих наблюдениях никому говорить не стала. Шульце-Бетман отнесся ко всему хладнокровно и расположился рядом с фрау Альтеншуль посредине гостиной, собираясь ей что-то сказать. Пока же он хранил молчание. Затем достал из портсигара сигарету, вставил ее в серебряный мундштук и стал потягивать, по-прежнему не произнося ни звука. Когда же он почувствовал, что дальнейшая демонстрация столь надменного спокойствия грозит перерасти в общее негодование, произнес:
– Таким образом, все уладилось. Никто не станет докучать Левански.
6
Спустя неделю ударили морозы. Недавние лужи замерзли, с востока, где возвышались три гигантские дымовые трубы Шарлоттенбургского замка, дул ледяной ветер, и в воздухе висел запах горелой серы. Если бы кому-то вздумалось после восьми вечера зайти в парк, который ограничивал территорию замка с запада и севера, он нашел бы входные решетчатые ворота запертыми. Дубы, к ноябрю уже успевшие сбросить листву, протягивали к небу обледенелые ветки, которые игриво поблескивали в холодном свете ополовиненной луны. Пруды перед чайным домиком казались бездонными, однако тишина и спокойствие, подобающие здешней атмосфере, которую создавали живые изгороди из вязов, гравийные дорожки и скульптуры, наступали только к полуночи, когда всякое движение вокруг затихало и не слышно было пролетающих самолетов.
Примерно в это время Левански давал свой первый концерт.
Западное крыло дворца отвели под небольшой концертный зал. Помещение позволяло установить не более трехсот мест. Подмостки с роялем под темно-синим чехлом выдавались вперед, что превращало их в некое подобие сцены. Об этом событии немало говорили накануне, и теперь перед входом толпились те, кому не досталось приглашения, но неутоленное любопытство вынуждало их дожидаться начала концерта в надежде, что им удастся – если, конечно, закроют двери – слушать по крайней мере через окна.
В зале погасили свет. Фрау Альтеншуль вышла к подмосткам и тихо произнесла несколько слов. За окнами ничего нельзя было разобрать, но аплодисменты, грянувшие, когда она, указывая рукой на Левански, попросила музыканта занять место за роялем, были хорошо слышны и на улице.
Рукоплескания внезапно сменились полной тишиной. Затаив дыхание, публика ожидала, когда же пианист начнет играть. Пауза затянулась. От вязовых кустов отделилась тень и медленно переползла к другой стене дворцового крыла, туда, где окна и двери не были завешены, но через них ничего не было видно, так как луна освещала южный фасад дворца. Когда первые аккорды нарушили тишину и фрау Альтеншуль наконец-то разжала сцепленные от волнения руки, некто, кого никто не желал здесь видеть и кто, по заверениям Шульце-Бетмана, обещал не допекать Левански, встал около одной из запертых дверей и стал слушать, ничем не выдавая своего присутствия. Его глаза были полны раскаяния, в ка, кой-то момент даже могло показаться, что он едва заметным движением руки словно смахивал слезы умиления.
Левански исполнил сонату ми мажор Бетховена, опус 109. Затем сыграл три баллады Шопена и в заключение вариации для фортепьяно Антона Веберна. [7]7
Антон фон Веберн (1883–1945) – австрийский композитор, крупнейший представитель так называемой Новой венской школы. Его музыку нацисты причисляли к «дегенеративному искусству».
[Закрыть]Фрау Альтеншуль едва сдерживала слезы. О, как она испугалась, каким бесконечным показалось ей мгновение, когда Левански внезапно остановился, будто хотел осмыслить то, что вышло из-под его рук! Она со страхом подумала, что он может бросить играть, отделаться каким-нибудь извиняющимся жестом, как уже было однажды в гостиной, но ничего такого не случилось.
Когда он наконец поднялся, публика бросилась бурно приветствовать пианиста криками «браво» и восемь раз потребовала da capo. [8]8
Сначала (итал.).
[Закрыть]Гости расходились неторопливо, обмениваясь на ходу впечатлениями. К подъезду подавали автомобили. Фрау Альтеншуль могла быть довольна. Все ее опасения, что чествование Левански пройдет не так, как ей хотелось, были напрасны. Ми-мажорная соната оставила в ее душе неизгладимое впечатление, и она удивлялась, когда по дороге на Кёнигсаллее, где Левански намеревался устроить небольшое торжество, спутники убеждали ее в том, что Бетховена, конечно, из живых мог бы сыграть на худой конец Поллини [9]9
Маурицио Поллини (р. 1942) – знаменитый итальянский пианист.
[Закрыть]или кто-нибудь еще, но вот как эффектно Левански подал Антона Веберна!
Колонна автомобилей, следовавших за машиной с Левански, с трудом добралась по гравийной дорожке до подъезда особняка. Железные ворота теперь были прислонены к главному входу и мешали проезду, поэтому движение застопорилось, и Левански, как, впрочем, и другим, кто пытался, не удалось открыть дверь дома. Внезапная остановка колонны без видимых причин и объяснений привела к тому, что люди начали волноваться.
Преодолев невольно образовавшийся хаос, Левански добрался до своего особняка, и вот он уже стоял на пороге с цветами в руках. Ему не позволили самому взойти по лестнице, которая вела на второй этаж особняка. Молодому музыканту, должно быть, весьма польстило, когда его подхватили на руки и устроили небольшую торжественную процессию. В таком положении его несколько раз пронесли по кругу под возгласы «браво». Раскованная атмосфера всеобщего веселья напомнила времена, когда чествования художников редко обходились без озорных проделок.
Позже, когда гости собрались на втором этаже, свободно расхаживая по анфиладам особняка, подали шампанское. Все было как полвека назад. Как и тогда, Левански стоял у пилястры, украшенной аралией, как и тогда, смутившись, он пытался спрятать лицо в листьях растения. Из прихожей напирали все новые гости, а те, кто уже проник внутрь, выстроились полукругом. Фрау Альтеншуль позаботилась о том, чтобы между Левански и его обожателями осталось свободное пространство в два-три шага, а Шульце-Бетман тем временем обошел гостей и наполнил бокалы, по крайней мере тем, кто был приглашен; ведь было еще множество незваных, и снабдить шампанским всех представлялось ему безнадежным делом. Наконец он поднял свой бокал и воскликнул:
– За бессмертного гения! За решительность и смелость того, кто отважился сызнова начать уже закончившуюся жизнь!
После тоста налили еще по бокалу шампанского, подали бутерброды, и общее праздничное настроение достигло высшей точки. Вино развязало языки, событие этого вечера называли чудом, потому что Левански, на взгляд почитателей его таланта, удалось разрушить границу между жизнью и смертью. Приветствуя пианиста ликующими возгласами, гости стали упрашивать его, чтобы он еще раз сыграл несколько виртуозных пассажей на рояле, который был задвинут в эркер подальше от глаз и наполовину прикрыт чехлом, дабы и все прочие, кого лишили жизни в расцвете лет, также могли надеяться преодолеть в себе страшное чувство конца.
Либерман скромно держался в стороне и наблюдал за происходящим со свойственным ему скепсисом, ожидая момента, когда удобно будет отправиться восвояси. Молодежь старалась ему угодить из уважения к почтенному возрасту. Для них он был олицетворенным примером того, сколько времени требуется человеку для достижения совершенства. Порешили не принимать в расчет восемьдесят восьмой год – последний год жизни художника, – а отпраздновать его девяностолетие. Сам же он таких вольностей себе не позволял.
– Нельзя пренебрегать такой милостью природы, как возможность умереть, только лишь из-за того, что жизнь обманула чьи-то ожидания, – заявил он. – Но я испытал счастье. Я знаю, что это такое, не на словах.
Терпеливо выслушав комплименты в свой адрес, Либерман последовал за фрау Альтеншуль и по ее настоянию безропотно опустошил свой бокал. От него не укрылось, в каком возбуждении пребывала его подруга, и хотя она делала все, чтобы никто этого не заметил, красные пятна на лбу, которые она безуспешно прятала под слоем пудры, выдавали ее чувства. Как только Левански подошел к ним, она живо куда-то засобиралась, извинившись, что нужно, мол, позаботиться о гостях.
– Вы счастливы? – спросил Либерман.
Левански ответил, что было бы любопытно сыграть позднего Бетховена в Праге или Лондоне. Смог бы он с этим справиться при тамошней публике?
– Не берусь судить о многом, – заметил Либерман, но тот, кому удалось до слез растрогать фрау Альтеншуль, может собой гордиться.
Подошедший к ним сзади Шульце-Бетман поддержал старого художника:
– Да, вы играли неподражаемо.
Неожиданный голос из-за спины заставил Левански вздрогнуть, поэтому Шульце-Бетман уже тише, едва ли не шепотом, с вежливой улыбкой на устах продолжил:
– Вы, пожалуй, и своего убийцу доведете до слез, если предположить, что ему позволят присутствовать на концерте. Для позднего Бетховена вы еще слишком молоды. Надеюсь, – закончил он, уже собираясь вернуться к обществу, – вам удастся связать молодость и опыт смерти.
После секундного замешательства Либерман, пристально глядя вслед Шульце-Бетману, который тем временем направился к ближайшему ведерку со льдом, чтобы налить себе шампанского, заявил:
– Не нравится мне этот человек. С другой стороны, он единственный, кто своими суждениями заставляет задуматься. Эх, если бы в них было поменьше колкостей!
7
Описанные события происходили в ноябре. Поскольку Левански, вопреки уговору, с тех пор ни разу в салоне фрау Альтеншуль на Фосштрассе не появлялся, в середине следующего месяца она сама попробовала застать его в доме на Кёнигсаллее. Сколько она ни пыталась обратить на себя внимание, заглядывая внутрь, никто не вышел, чтобы открыть ей дверь. По занавешенным окнам можно было подумать, что Левански не желает, чтобы его беспокоили. Или он съехал с виллы?
На следующий день вечером все повторилось. Никто ей не открыл. Однако она заметила, что в окнах эркера горел свет.
– Подобные приступы мне знакомы еще с той поры, когда я жил в Голландии, – прокомментировал поведение пианиста Либерман. – Он честолюбив и наверняка усердно репетирует новую программу.
Ему удалось кое-как успокоить фрау Альтеншуль, а собравшиеся в тот день в салоне гости не стали выпытывать у нее новых подробностей. Все были уверены, что следующий концерт только выиграет оттого, что Левански какое-то время поживет затворником и подготовится как надо. Именно так, по всей видимости, и происходит.
Приближался Новый год. Фрау Альтеншуль была по горло занята приготовлениями к празднику, ибо это была одна из ее наиболее любимых традиций – собираться в полночь в кругу милых друзей и знакомых, размышлять об ушедшем годе и говорить о надеждах на год будущий, хотя, казалось бы, какое ей было теперь дело до времени. Тем не менее она продолжала отсчитывать годы как когда-то, а то, что она перестала стареть и что половину вечности ей придется пробыть в одном и том же состоянии, в расчет не принималось.
Она напекла своих коронных берлинских пончиков со сливовым муссом и украсила гостиную бумажными гирляндами и фонариками. Однако эти приготовления не должны были, по ее замыслу, развеять некоторый налет замкнутости, свойственной ей в последнее время.
К девяти часам вечера, когда стол был почти накрыт, появился Либерман с букетом из сорока восьми белых хризантем и произнес:
– С Новым годом!
И добавил:
– Вы позволите мне незадолго до двенадцати покинуть вас? Вы же знаете, я не люблю смену лет. Но до этого я охотно помогу вам встретить гостей.
Таким образом, когда внизу звонили, он спускался по лестнице, открывал дверь и помогал дамам снять пальто, на ходу лаская их слух чарующими комплиментами.
Вдруг он увидел на подоконнике письмо, которое фрау Альтеншуль, очевидно, не заметила, и попросил Шульце-Бетмана, пришедшего, как всегда, последним, захватить конверт в гостиную.
– Будет сделано, – отозвался Шульце-Бетман и добавил: – Не желаете ли взглянуть, что там происходит. Выгляните-ка наружу. Наши соседи, – он небрежно показал большим пальцем через плечо на северо-восток, – по-своему отмечают Новый год.
Либерман не понял намека и вышел на улицу. Безоблачное небо выглядело как-то по-особенному плоским, отчего складывалось впечатление, будто тебя прижало к земле. В воздухе повисли звуки, напоминающие лязганье стальных гусениц. Либерман попытался найти источник шума, который, по-видимому, находился где-то на северо-востоке. Он обошел дом, и на прямоугольном пустыре, тянувшемся до самых Бранденбургских ворот, – пустой, лишенной всякой растительности земле, которую отвели под новую застройку, – ему явилось странное зрелище.
Колонна бронированных машин вроде тех, что ежедневно патрулировали вдоль стены, [10]10
Имеется в виду Берлинская стена между Западным и Восточным Берлином, возведенная 13 августа 1961 года и разрушенная в январе 1990 года.
[Закрыть]с зажженными фарами шла своим обычным путем, но у нее на пути встал человек. В ярком, направленном свете его фигура, как будто очерченная темным контуром, казалась значительно крупнее обычной. Либерман не смог узнать этого человека, лишь видел, как он указал рукой на холм, как из машин выходили люди, шли к этому холму и один за другим исчезали, словно спускались по лестнице, ведущей в глубь земли.
Когда Либерман вернулся в гостиную, собравшиеся уже вовсю поедали пончики. Фрау Альтеншуль сказала в оправдание, что, мол, гости и прежде всего она сама не могли больше противостоять лакомому запаху, и заодно пожаловалась, что Левански опять не пришел, хотя она очень просила, послав ему приглашение.
Гости, разбившись на мелкие группки, вели оживленную беседу, лишь Шульце-Бетман оставался наедине с самим собой. Едва ли не всем бросилось в глаза, что фрау Альтеншуль, обходившая гостей с большим подносом, на котором возвышалась гора пончиков, подчеркнуто его сторонилась. Без всяких на то причин она стала уверять собравшихся в том, каким верным оказалось ее решение вернуться в этот район, хотя в свое время здесь никто не желал селиться. Гости соглашались, правда, мало понимая, зачем она ни с того ни с сего затеяла эти объяснения. А фрау Альтеншуль, рассказывая о том, как в первое время, чтобы как-то скоротать зимние месяцы, она разыскала на Парижской площади Либермана, протянула стоявшему поблизости художнику руку и с видимым удовольствием приняла от него легкий ласковый поцелуй в щеку.
– Долгое время мы оставались одни, – подтвердил Либерман, – но теперь нас сильно поприбавилось.
Все засмеялись.
Незадолго до полуночи все вышли на террасу смотреть салют. Над открытой площадкой перед Бранденбургскими воротами нависла зловещая тишина, затем пестрые вспышки фейерверка выхватили из темноты холм, и Либерман удивился, что раньше никогда не обращал внимания на эту земляную насыпь, хотя каждый вечер проходил мимо, и спросил:
– Что это за груда земли?
Стоявший поблизости Шульце-Бетман отозвался, но сделал так, чтобы люди за его спиной ничего не услышали:
– Бункер фюрера. Названия поэлегантнее для него не нашлось. Его засыпали, и теперь он похож на могильный курган, хотя того, кто в нем почил, давно вынесли. Поговаривают, правда… что там по-прежнему собираются кое-кто из тех, кого мы так боялись.
С этими словами он оставил Либермана одного, быстро вернулся в гостиную через открытую дверь, нервно закурил и принялся рассматривать картины, точно видел их в первый раз.
Вокруг все грохотало и сверкало. После каждого трескучего разрыва петарды веранда оглашалась восторженными восклицаниями. Либерман, поразмышляв немного над словами Шульце-Бетмана, вскоре также был захвачен царившим в городе нескончаемым весельем до такой степени, что, когда фрау Альтеншуль схватила его под руку и отвела в компанию других гостей, он сразу же позабыл о своих тревожных думах.
Через полчаса гости принялись плавить свинец. Фрау Альтеншуль приготовила чашу с водой, гости распределили между собой небольшие свинцовые фигурки, которые быстро расплавлялись, когда их подносили к пламени спиртовки. Если вылить жидкий свинец в холодную воду, он сразу принимает причудливые формы, дающие обильный материал для гадания, конечно в шутливом тоне.
– Пошлю-ка я парочку фигурок Левански, – сообщила фрау Альтеншуль, – надеюсь, он не настолько серьезен, чтобы не порадоваться таким милым глупостям.
Шульце-Бетман достал из нагрудного кармана письмо, которое ему доверил Либерман, и передал его фрау Альтеншуль, извинившись, что слишком долго держал у себя послание, безусловно адресованное ей.
Фрау Альтеншуль схватила письмо, словно давно ждала его. Народ примолк. Она решительно надорвала конверт, торопливо развернула листок и, узнав подпись, произнесла:
– Это пишет Левански.
Понимая, что с ее стороны было бы невежливо не удовлетворить любопытство присутствующих, она пробежала глазами текст и хотела тут же передать его содержание, но чем дальше она читала, тем больше возбуждалась, а на лице ее все отчетливее проступало выражение недоверия или даже негодования.
«Фрау Альтеншуль, – писал Левански, – я чувствую, что Вы злоупотребили моим доверием. Как я только мог пообещать Вам остаться в Берлине и как мне теперь отделаться от общества преступника, которого Вы, к моему удивлению, рассчитывали мне навязать?! Он до сих пор стоит под моими окнами, так что я не могу выйти из дому. Может быть, Вам все это безразлично, но я не намерен выступать перед тем человеком, которого мы встретили в Тиргартене».
В заключение Левански горько сетовал на себя, особенно за то, что без всякого сопротивления поддался на уговоры.
Гости, кто изумленно, кто растерянно, уставились на листок бумаги в безвольно упавшей руке фрау Альтеншуль, и только Шульце-Бетман – так, во всяком случае, ей показалось – нагловато улыбался и как ни в чем не бывало полез в карман пиджака за портсигаром. Едва сдерживаясь, она попросила разъяснить:
– Ради бога, что все это значит?
– Не принимайте близко к сердцу, он придет в себя, – ответил Шульце-Бетман, однако под ее осуждающим взглядом так и не решился прикурить сигарету, которую уже держал во рту.
Не прошло и четверти часа, как гостиная опустела. Задержался только Либерман. Учитывая, что он хотел быть дома еще до полуночи, это можно было расценить как благородный жест, который фрау Альтеншуль приняла с признательностью. Чуть позже они сидели рядышком на канапе, и она еле слышно, но настойчиво что-то шептала ему на ухо, а он время от времени тихо кивал головой, соглашаясь с ее понятным возмущением.


