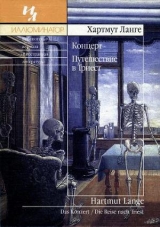
Текст книги "Концерт. Путешествие в Триест"
Автор книги: Хартмут Ланге
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
– А зачем вы ходите к фрау Альтеншуль? – поинтересовался Левански.
– Чтобы взрастить в себе отвращение.
Теперь заговорил человек в мундире, лицо которого, прежде бледное от волнения, покраснело до самых ушей.
При всем его глубоком уважении к господину Шульце-Бетману он готов с ним решительно поспорить. Ни для кого ведь не секрет, что как новеллист он признает одни лишь мрачные стороны жизни, и ему совершенно непонятны причины, побудившие Шульце-Бетмана со столь невозмутимым спокойствием встретить смерть, в которой повинен он, Луц Клефенов. Ибо жизнь, продолжал он, наклонившись в сторону Левански, уникальна, неповторима, да и сам Шульце-Бетман, хотя он и умолчал об этом почему-то, сполна ею насладился. И никто не вправе укорачивать это время своими руками или с чьей-нибудь помощью. Да, он хотел бы жить, без конца повторял Клефенов, и ему понятно, почему Левански, исключительные дарования которого не идут ни в какое сравнение с его собственными, собирается после смерти наверстать жизнь, непременно со всеми ее прекрасными сторонами. И по этой причине, заверил Клефенов, он и его товарищ приветствуют усилия фрау Альтеншуль и как искренне заинтересованные стороны готовы оказать ей всяческую помощь. Вот уже много лет, к сожалению безуспешно, его сотоварищи стучатся в двери особняка на Фосштрассе, пытаясь привлечь к себе внимание обитателей дома. В любом случае, если бы ему или одному из его товарищей представилась хоть единственная возможность сказать несколько слов евреям, перед которыми они виновны, то вот что они бы услышали: если кому-то из них удастся преодолеть в себе последствия насильственного отрешения от жизни, восстановить свою жизнь, тот спасет и своего убийцу!
– Поймите меня, милостивый государь! – воскликнул Клефенов. – Когда вы садитесь за рояль и играете так неподражаемо… когда у меня и у остальных выступают слезы умиления… как же мне не надеяться, что, призвав все свое искусство, из-за которого вас, собственно, и казнили, вы совершите чудо и преодолеете причиненную вам обиду.
Левански увидел, что пластырь на лице Клефенова немного отклеился и под ним открылась едва заметная бороздка во всю щеку. Клефенов замолк и попытался носовым платком прижать пластырь к ранке.
Они молчали, ожидая, пока Клефенов успокоится. Потом он встал и подошел к окну. Поскольку оно было единственным источником света в комнате, его фигура на светлом фоне обозначилась четким контуром. Подставив лицо солнцу, он стоял неподвижно и, по-видимому, был погружен в свои переживания.
– Если бы я был пианистом, – заговорил Шульце-Бетман так тихо, что его слова мог разобрать только Левански, – то уж знал бы, перед кем стоило выступить в следующий раз.
– Что вы имеете в виду? – спросил Левански.
– Земля, – пояснил Шульце-Бетман, – по которой мы ходим в гости к нашей новой приятельнице фрау Альтеншуль, таит в себе неописуемые вещи. Надеюсь, вы догадываетесь, о чем я. Дворец разрушен, но туда тем не менее частенько наведываются особы вроде этой, – при этом он показал большим пальцем правой руки на окно. – Внутри дворца находится большой надгробный памятник. Поговаривают, что под ним в песчаной бранденбургской земле дожидаются своего избавления все те, кто вызывает у нас страх. Другими словами, они собрались для покаяния.
Левански испугался, а Шульце-Бетман, поняв, что зашел слишком далеко, решил тут же исправить положение:
– Я все хорошо понимаю. Чрезвычайно одаренный молодой человек, страстно привязанный к фортепьяно, не может не стремиться к высокому и зрелому исполнительскому мастерству. Однако бывает, тут вы со мной согласитесь, что на иных концертах обыкновенный слушатель временами скучает и что от артиста мирового уровня ждут большего, нежели просто виртуозной игры. Но, – на этом месте он повернулся к гостю в военном мундире, – я не хотел бы показаться вам навязчивым. Каждый делает то, что считает правильным. Вы, верно, пытаетесь осмыслить ми-мажорную сонату исходя из вашего меланхолического настроения, отталкиваясь от партитуры Missa solemnis.
Левански распрощался и, закрывая за собой калитку, в последний раз обернулся. Фруктовые деревья немного загораживали дом, но ему показалось, что Клефенов и Шульце-Бетман вышли на веранду. Он будто бы даже расслышал отдельные слова, которые ему кричали вдогонку, призывая прийти еще раз в самое ближайшее время, но все это он воспринимал как смутное видение, тем более что разглядеть что-либо четко ему мешали деревья.
«Земля, по которой мы ходим в гости к нашей новой приятельнице фрау Альтеншуль, таит в себе неописуемые вещи», – не выходило у Левански из головы. Он вернулся к себе на Кёнигсаллее. Свет от лампы, которую он забыл потушить уходя, теперь раздражал, а проникавшие через шторы солнечные лучи, по-весеннему яркие, причиняли ему физическую боль. Создав в комнате полумрак, он долго сидел в кресле подле пилястры, забыв про безнадежно засыхавшую аралию с ее причудливо свернувшимися черно-желтыми листочками, и сетовал на время года, которое лишь усугубляло его подавленное состояние.
Ему хотелось рассказать фрау Альтеншуль обо всем, что приключилось этим днем, хотя закралось сомнение, стоило ли разжигать еще больше ее недоверие к Шульце-Бетману, которое она и без того не скрывала. И разве нельзя допустить, что Шульце-Бетман сделал свое заявление без всякого умысла, как бы между прочим, по настроению, в порыве откровенности, к которой располагала их доверительная беседа?
Он пролистывал партитуру Missa solemnis, которую приобрел на Ораниенбургской улице, намереваясь внимательнее почитать ее дома, но в царившем там полумраке трудно было что-либо разобрать, и он поймал себя на том, что не понимает смысла написанного. Крайне взволнованный, он принялся ходить из угла в угол – только так можно было сдержать бушевавшие в нем чувства. Он копался в памяти, все пытаясь уяснить, что же полезного для себя как артиста – таков был его неизменный критерий – он приобрел в результате посещения особняка близ Шарите, чего так добивался. Но так и не смог вспомнить. Вместо этого у него закралось подозрение, что появление человека в военной форме не случайно и замечания Шульце-Бетмана должны были зловещим, гнусным образом склонить его к некоему действию, какое он в обычным случае посчитал бы невозможным.
«Земля, по которой мы ходим в гости к нашей новой приятельнице фрау Альтеншуль, таит в себе неописуемые вещи», – бесконечно повторял в уме Левански, и, поскольку с волнением совладать не удалось, да и теснившиеся в голове мысли не давали душе покоя, он снова вышел на улицу. Часом позже он предстал перед изумленным Либерманом и без лишних слов принял приглашение пройти в ателье.
10
– Н-да, – изрек Либерман, снимая пенсне. Дальнейшая пауза, по всей видимости, означала, что он еще раз обдумывал услышанное. – Однако, – сказал он наконец, – задумано неплохо, да и присутствие Клефенова отнюдь не случайно.
Левански пристально изучал вазу китайского фарфора, которая загораживала ему обзор. Либерман предложил ему ликер, но поскольку Левански никак не выказал желания, то и хозяин поставил рюмку около вазы, подошел к высокому окну и стал вглядываться в темноту.
– Конечно, – продолжил Либерман свою мысль после паузы, – этого человека (он имел в виду Шульце-Бетмана) не больно-то интересует то, что мы обыкновенно называем жизнью. Тот, кто норовит переложить все бремя на живых, вполне возможно, о своей насильственной смерти скорбит меньше, чем те, чьего общества он ищет.
– Он ищет мира со своим убийцей, – сказал Левански.
– Признаю, это дерзкая мысль, – ответил Либерман. – И в то же время миролюбивая.
Заметив непонимающий, едва ли не беспомощный взгляд Левански, он пояснил:
– У меня этот человек тоже не вызывает симпатий, но не можете же вы запретить ему иметь особый взгляд на состояние смерти?
Либерман присел на складной стул и принялся рассматривать незаконченный автопортрет, а Левански тем временем изучал лицо художника, которое отражалось в установленном на мольберте высоком зеркале. Оно было достаточно хорошо освещено ближайшей лампой и слабым сиянием ночного неба, проникавшим через окно. Голый череп, энергичный, нависавший над усами нос, серьезный испытующий взгляд и две знаменитые складки, расходившиеся по обе стороны переносицы и придававшие аристократическому облику этого человека налет грусти.
У Левански немного отлегло от сердца, и он равнодушно отнесся к тому, что Либерман внезапно вновь обратился к своему портрету, пожалуй, даже был рад, что художник, забыв о правилах приличия, с головой погрузился в свое искусство.
«Каким мужеством нужно обладать, чтобы вот так возлюбить себя и, сидя перед зеркалом, изучать свою физиономию!» – размышлял Левански. Его всегда восхищало в художниках это качество.
Либерман взял маленькую кисточку и легкими прикосновениями начал наносить краску на холст, добавляя желтизны соломенной шляпе, в которую обрядил своего двойника на портрете. Теперь уже Левански решил потешить свое самолюбие, словно он имел на это не меньше прав, чем задумчивый, внушающий почтение старик.
– Это невозможно, – произнес он. – Никто не заставит меня выступать перед людьми, на которых лежит такая вина.
– А никто этого и не требует, – отозвался Либерман. – Вы как-то говорили, что во время прогулок уже встречались с типами, общение с которыми считаете для себя неприемлемым. И все-таки жаль будет Шульце-Бетмана, если общество подвергнет его осуждению по той лишь причине, что он способен судить о глубинных вопросах жизни шире, нежели окружающие.
С этими словами Либерман снова встал, вытер кисточку льняным полотенцем, подошел к столу и сделал глоток ликера из рюмки, предназначавшейся Левански, но до которой тот так и не дотронулся.
– Он просто-напросто считает, – сказал Либерман, – что в смерти мы все равны, и тот, кто принимает у себя своего палача, чтобы простить, н-да… Почему, собственно, мы должны пестовать в себе свойства живых, которые едва терпят своего ближнего и ничего с собой не могут поделать?
– Вы сможете все это объяснить фрау Альтеншуль?
– Ни слова ей об этом! – воскликнул Либерман. – Даже не намекайте! И прошу вас, больше никому не рассказывайте о сегодняшнем приключении.
Внезапная горячность старика выдала, насколько близко к сердцу он принимает любые перемены настроения этой женщины. Он стал убеждать, что некоторые страшатся не самой казни, а сопровождающих ее обстоятельств.
– Я бы не хотел вдаваться в детали, – продолжал он, – но для фрау Альтеншуль смерть связана с отвратительнейшими переживаниями: ее, раздетую догола, бросили в яму под пошлые смешки солдатни. Смерть – это последняя и наиболее тонкая форма существования, и вы можете себе представить, чего стоило фрау Альтеншуль, всей душой любившей мирскую красоту, забыть о плачевном конце.
Он отпил из рюмки так, как обычно больные по принуждению глотают горькие микстуры, затем медленно перешел в противоположный конец ателье, где стояло кожаное кресло с вычурными подлокотниками. Некоторое время он стоял неподвижно, словно раздумывая, сесть или не сесть, наконец уселся: спина прямо, нога на ногу, правой рукой опершись о колено, левой – о спинку кресла, на лице выражение крайней озабоченности.
– Вы обещали дать новый концерт не позднее Пасхи. Он состоится?
– Ну, разумеется, – ответил Левански.
– Вы знаете, что фрау Альтеншуль считает вас своей последней надеждой. Если бы в идее наверстать остаток жизни после смерти был какой-то смысл, то у вас это наверняка получилось бы. Согласитесь, что фрау Альтеншуль нужно благодарить уже за одно то, что она более всех переживает за вас, за ваш талант, ставший причиной ваших страданий.
– Конечно, конечно, – согласился Левански.
Провожая гостя до двери, Либерман довольно настойчиво поинтересовался, над каким произведением молодой музыкант работает сейчас и не подойдет ли для готовящегося концерта Старая филармония. Левански уже стоял на тротуаре и не был готов отвечать на подобные вопросы, однако ему пришлось проявить терпение.
– Ни о чем не беспокойтесь, – ответил он, пожалуй чересчур резко. – Сейчас я намерен накопить опыт, необходимый для исполнения поздних произведений Бетховена.
Левански успел перейти улицу, а Либерман все еще стоял в дверном проеме, по-видимому тревожась, что молодой человек пошел не по Вильгельмштрассе, а через кусты по открытому полю.
Небо было ясным, и, если посмотреть в сторону Фосштрассе, можно было отчетливо разглядеть особняк фрау Альтеншуль, а дальше чуть ли не до Бельвюштрассе один за другим раскинулись парки, и Либерман очень удивился, что раньше не замечал на их территории множества великолепных построек. Или их отстроили заново с тех пор, как фрау Альтеншуль решила навсегда поселиться в этом районе?
Западнее, где высокая кирпичная стена преграждала доступ в Тиргартен, навстречу Левански бесцеремонно пронеслась бронированная машина с зажженными дальними фарами, и ему даже пришлось прижаться к краю пешеходной дорожки. Неожиданно для себя молодой человек оказался перед тем самым холмом с нереальными и пугающими очертаниями и поразился, каким образом это странное образование могло оказаться посреди расчищенной под застройку ровной площади. На влажной земле не было ни травинки, отчего создавалось впечатление, что холм возник недавно.
Левански не на шутку перепугался, когда бронемашина, очевидно, одна из тех, что патрулировали город, неожиданно изменила направление и подъехала к земляному холму. К счастью, фары освещали лишь каменную стену, но Левански на всякий случай предпочел отойти на несколько шагов в темноту.
Машина остановилась, из нее вышли вооруженные люди и осветили холм карманными фонариками, как будто заметили что-то подозрительное. Левански видел, как поблескивали их каски, и понял, что они избегали подходить к полуразрушенному входу, где он стоял. Всего в каких-то трех шагах от него они выписывали лучами фонариков большие круги, и Левански показалось, будто он стоит между увенчанными фризом мраморными колоннами, но они почему-то были мокрыми и в известке. Так что не сразу и сообразил, в самом ли деле это колонны, или ему только померещилось.
После того как солдаты снова погрузились в бронемашину, завели мотор и укатили прочь, Левански обнаружил вокруг себя только землю и осколки замшелых кирпичей, но затылком ощущал что-то вроде тепла, он чуял, что где-то тут разверзлась бездна, и когда до него долетел слабый ветерок с северо-запада от Бранденбургских ворот, ему опять почудилось, что под развалинами каменного сооружения он слышит не то шепот, не то слабый гул. Прошло немало времени, прежде чем он смог освободиться от притягивающей силы земляного холма и отойти на безопасное расстояние.
Ступив под высокие кроны деревьев на Бельвюштрассе и еще раз оглянувшись на прямоугольную площадь, пустынную и непривлекательную в тусклом свете городских ламп, он терялся в догадках, отчего эта короткая прогулка и вынужденная задержка около земляной кучи так его взволновали.
11
На дворе был март. Левански заявил следующий концерт на середину апреля. Его опасения, что без должной концентрации он без толку промучается за роялем, объяснялись главным образом неуверенностью в себе, но он ошибался. В последние недели он не знал ни сна, ни отдыха и потому решил забыть про все обременительные, но необязательные встречи и следовать одним мгновенным побуждениям. Фрау Альтеншуль, которая стала последней, кого он перестал навещать, ради успокоения совести он написал:
«Сижу днями и ночами за роялем, а так как я живу неподалеку от того самого озера, которое однажды меня обворожило своей угрюмостью и бездонностью, то по-прежнему хожу туда гулять и настраиваюсь на позднего Бетховена».
И вот что странно: вариации ми-мажорной сонаты давались ему теперь легко, по крайней мере он был уверен, что характерные трели у него получатся, если довериться мгновенной интуиции, раскрепоститься, поддаться захватывающему восторгу музыкальной темы Воскресения, и, пока он пролистывал Missa solemnis и пропевал вслух партии отдельных инструментов, от него незаметно ушло то мрачное настроение, которое осталось после разговора с Шульце-Бетманом, в частности, после его утверждения, что необходимо ощутить тоску от долгой жизни, прежде чем пытаться понять сложные вещи и тем более выразить их в музыке или в каком-либо другом виде искусства.
«Эх, если бы я продолжал жить, – сетовал он, – и если бы не эта музыка вечной жизни! Разве я не вправе как любой другой испытать полноту жизни во всех ее чудных проявлениях!»
Весна наступила внезапно, в одну ночь, подарив Левански твердое убеждение, что ему позволено уподобиться природе с ее силой, не ведающей сомнений и колебаний, превращавшей мир в зеленый цветущий сад, а поскольку он сбросил собственную оболочку, теперь его манило лишь существенное в вещах и явлениях – к примеру, одного взгляда на каштаны перед его окнами было достаточно, чтобы еще долго пребывать в благодушном настроении.
«Окончательной смерти нет, – размышлял он, – ведь я чувствую, как все вокруг обновляется; едва угаснув, глянь, снова начинает дышать. Так кто же помешает моей душе выбрать ту единственную форму, которая ей подходит? Я пианист – пускай, пианист! Так я и покажу всему свету, явлюсь ему именно в том качестве, в каком оказался некоторым неугоден!»
В сильном возбуждении, особенно в те минуты, когда ему казалось, что мастерство достижимо не только путем бесконечного изнуряющего повторения, он обычно выходил в сад и упивался дурманящим запахом цветущего жасмина. Сиреневые кусты он обломал еще раньше и поставил пахучие ветки в ту же вазу, где раньше засыхали аралии, безнадежно увядший вид которых стал ему более невыносим.
Но странно: на смену душевному подъему пришли долгие часы сомнений в неожиданно появившейся у него и все возраставшей интуиции. Молодой человек поймал себя на мысли, что в предвкушении радости выступления его более всего заботит не признание у той публики, которая соберется в Старой филармонии, что казалось бы само собой разумеющимся, а непременное желание сыграть перед другими, более требовательными слушателями. Эти – тут ему припомнилось последнее замечание Шульце-Бетмана – ждут большего, чем простой виртуозности. А таковыми могут быть – и он представил их себе с отвращением – только предполагаемые люди, находившиеся под земляным холмом, что вырос по соседству с Вильгельмштрассе. Для этих его выступление столь же желанно, как и само освобождение. И он сгоряча стал упрекать себя в малодушии.
«Как могут вероломно казненные евреи искать соседства со своими палачами! – думал он. – И не те ли, кто стрелял ему в затылок, стараниями фрау Альтеншуль оказались в счастливчиках: сперва они насладились убийством, а теперь вдобавок смогут посмотреть, как их жертва играет на рояле?! Не лучше ли на веки вечные упокоиться в безмолвной могиле, чем давать концерты на месте злодеяния!?» Левански решил во что бы то ни стало заявить собратьям по судьбе, что человек не отвечает за то, что с ним произошло в жизни, но разве не справедливо будет обвинить в подлости и отсутствии достоинства тех, кто, умерев, не прочь погулять по паркам, может быть, по костям присыпанных землей братьев и сестер в городе, который, по правде говоря, следовало бы назвать лобным местом, кто восстанавливает разграбленные особняки, будь они трижды оторванной от их сердца собственностью, и притом еще устраивают празднества?!
Левански закрыл крышку рояля и решил никогда больше к нему не притрагиваться, коль тщеславие – да, он относил это к тщеславию – разжигало в нем дерзкие желания, подобные жажде публичных выступлений, к тому же он не мог с уверенностью утверждать, что его столь неожиданно обретенное мастерство не было вызвано все той же гнусной причиной.
В таком смятенном расположении духа, с тяжелым сердцем, он вновь оказался на берегу озера, где среди ситника и камыша надеялся забыть обо всех желаниях, переживаниях и ощущениях, накопившихся за последние месяцы его пребывания в Берлине.
«Неужто ты не заметил, – взывал он с горечью к самому себе, – что попал в яму со змеями?! Чем еще раз столкнуться с тем типом, лучше стать тенью, во что они меня, собственно, и превратили!» И пока он обходил озеро, понял, как же ему хочется покоя, полной безучастности ко всему и абсолютной независимости от людей и от обстоятельств. Только так, растворясь в безличной природе, полагал он обрести удовлетворение на долгие-долгие годы.
Еще мальчиком, в том возрасте, когда любопытство заглушает все другие жизненные проявления, он частенько задумывался о том, что ждет его после смерти, и даже находил удовольствие, представляя, как будет проходить сквозь любые знакомые предметы. Временами ему хотелось превратиться в тополь, листву которого всегда приятно теребил свежий ветерок. А то завидовал чибисам, неизвестно зачем перелетавшим с одного заливного луга на другой, будто их подгоняла неведомая сила.
«Когда я умру, – фантазировал он мальчиком, – то окажусь сразу везде, а значит, среди них».
Левански даже не заметил, что подошел слишком близко к кромке воды, и насквозь промочил ботинки. При виде нависшего над водой ствола ольхи ему захотелось повисеть и покачаться на нем над тем местом, где устроили игривую потасовку утки лысухи. Забыв обо всем, он влез на дерево и, балансируя, добрался до середины ствола. Озеро здесь было глубоким. Ствол под его весом нагнулся еще больше, и он понял, что стоит лишь протянуть руку, и он дотянется до птиц… Но они вдруг вспорхнули и, как ему показалось, излишне громко хлопая крыльями, перелетели на противоположный берег. Совсем недалеко от того места, где они приземлились, стоял человек и наблюдал за Левански. Он был в военной форме со знаками отличия, которые слабо отражались в воде. В том, что это была за личность, сомнений не возникало.
«Как же так! – чуть ли не взмолился Левански, с трудом удержавшись на своей ненадежной опоре. – Мало того, что вы меня убили, так теперь будете преследовать и после смерти?» От возбуждения Левански потерял равновесие и одной ногой оказался в воде. От этой неудачи он расстроился еще больше, отломал ольховую ветку и, угрожая ею, бросился на человека в военной форме с твердой решимостью проучить его, если тот сию же минуту не скроется. В несколько прыжков Левански достиг своего противника; чтобы сократить путь, он бросился напрямик, туда, где еще можно было пройти, топча без разбора ростки ситника и камыша и не боясь запачкать одежду.
Однако его противник и не думал ретироваться. Даже когда Левански налетел на него с палкой, он продолжал стоять не шелохнувшись и не делая попыток защититься. Левански сбил у него с головы фуражку, но тот не обратил на это никакого внимания. Он лишь изобразил на лице удивление и после некоторых колебаний решил все же уклоняться от ударов, которые Левански наносил обеими руками. Иначе пианист просто-напросто повалил бы его на землю. Противник попытался выиграть дистанцию, для этого ему пришлось войти в воду. Он медленно пятился назад, поскольку Левански следил за всеми его движениями, лицо его кровоточило, но в такую минуту это, по-видимому, казалось ему не самым важным. Оказавшись по колено в воде, он остановился. Здесь Левански уже не доставал до него. Пуговицы на кителе расстегнулись, но он и рукой не пошевелил, чтобы привести себя в порядок Его лицо выражало полнейшую покорность судьбе, он безропотно смотрел, как Левански, вне себя от возмущения, начал швырять камни. Один из них попал в цель, и человек в мундире осел на колено.
Он старался при этом держать голову высоко, по крайней мере над водой. На шее у него был отчетливо виден глубокий кровоточащий рубец. Заметив рану, Левански испугался. На мгновение его охватило неподдельное раскаяние, настолько сильное, что он слышал биение собственного сердца.
– Его казнили, – прошептал он, уставившись на недруга, которого только что желал утопить, словно тот являл собой апокалипсическое видение.
– Его казнили, – повторил Левански и безвольно выпустил из рук свое недавнее оружие. И когда он решил не мешкая бежать прочь, поскольку не мог вынести вида сильно кровоточащей раны, ему стало дурно и он вынужден был подыскать себе опору – столь велико было смешанное с отчаянием потрясение от того, что он, не обидевший за всю жизнь и мухи, оказался способным побить другого человека. Дабы окончательно не потерять самообладания, Левански решил не под даваться искушению взглянуть на то, что происходило в воде за его спиной. Отойдя от озера на приличное расстояние, он замедлил шаг и решил обождать, полагая, что тот выберется из воды и последует за ним. Молодой человек убеждал себя, что ударить тень – отнюдь не преступление.
Добравшись до особняка на Кёнигсаллее, он прислонился к входной двери и ждал до тех пор, пока не удостоверился, что интуиция его не подвела: неподалеку от гаража в самом деле обозначилась человеческая фигура. То был человек в военном мундире. Он приводил в порядок свою одежду: поправил ремень на поясе и пытался застегнуть на все пуговицы намокший китель, который теперь стал заметно уже. Когда в конце концов это ему удалось, он провел ладонью по лицу, пригладил волосы и надел фуражку с кокардой. Все это время он стоял вполоборота к Левански и вел себя, как обычно ведут себя люди, несправедливо обиженные, униженные, те, кто не в состоянии ответить тем же и с видом кроткой жертвы терпеливо сносит все оскорбления.
Левански поднялся на второй этаж, открыл окно, вдохнул полной грудью и почувствовал разлившуюся вокруг тишину. Тот, другой, достал сигарету и попытался ее зажечь, но безуспешно. Было видно, что он дрожал в мокрой, но снова безупречно сидевшей на нем форме.
«Виновные будут посрамлены, – подумал Левански. – Он был осужден, но смерть не принесла ему даже надежды на искупление».
С этой мыслью молодой человек решил проверить, увидит ли он с такого расстояния в надвигающихся сумерках кровавый рубец на шее чужака, но так и не смог ничего разглядеть.
На юго-востоке, там, где свалили несколько сосен, взошла луна, оранжево-красная, и исходивший от нее свет создавал ощущение теплоты. Левански вздохнул с облегчением и вернулся в комнату, так как и ему стало зябко. Мгновение он пребывал в задумчивости, затем снял ноты с табурета, сел и начал играть, зная, что тот, кому это так необходимо, его сейчас слушает.


