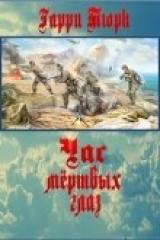
Текст книги "Час мертвых глаз (ЛП)"
Автор книги: Харри Тюрк
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Барден знал, как будет выглядеть пробуждение от этого сна. Через его руки проходили донесения разведывательной роты, которой командовал его племянник. Он анализировал эти донесения и с согласия командующего группы армий отдавал приказ о проведении операций, которые должны были в тылу противника помешать его продвижению. Он знал, насколько мал шанс изменить таким путем хоть что-то в предстоящих событиях, но он опасался сознаться в этом любому другому человеку, кроме самого себя.
– У тебя теперь на боевой операции девятнадцать человек, – сказал он Альфу. Тот кивнул. – Девятнадцать. В четырех разных группах. Это первый раз, когда в боевой операции участвуют так много человек одновременно.
Барден некоторое время подумал. Потом он сказал: – В ближайшее время нам потребуется еще две группы. Большая операция.
– С двумя группами?
– Да. Но обе группы вместе. Он стал говорить тише, хотя не было ни малейшего риска того, что кто-то мог бы подслушать их разговор. – Мы используем вместе с ними несколько людей из армии Власова. Добровольцев. Они уже прошли свой курс подготовки.
– Власов? – поинтересовался Альф. – Это русский перебежчик?
Барден кивнул. – Он сам тут не играет никакой роли. Его, в общем, отстранили от дел. Но он привлек к себе массу русских, и для этих заданий их нужно использовать. Часть из них, конечно, на той стороне сразу стащит с себя свою форму и разбежится, но все равно достаточное их число еще останется.
– Для чего?
Барден обрезал новую сигару. Он обходился со своими сигарами как с совершенно бесполезными предметами. Как будто он не знал, что это были дорогие импортные товары, которые штабной снабженец доставал только обходными путями и которые и без того скоро должны были закончиться.
– Для чего? – повторил он. – Для разных дел. Не забывай, что эти люди – русские. Они говорят на русском языке и хорошо ориентируются в традициях и обычаях их армии.
– Боже мой, – сказал Альф, – неужели ты веришь, что это решит исход войны? Он посмотрел на дядю, но тот добродушно улыбался ему в лицо, дымя своей сигарой.
– Конечно же, нет, – сказал он, – впрочем, они получат относительно незначительные задания. Но все-таки они носят форму Красной армии и их не так легко распознать. Пусть они даже ничего и не решают, но все же они причинят там замешательство. Впрочем, разумеется, насколько я знаю русских, это замешательство им не сильно помешает.
– Ты говоришь мне это сегодня, а завтра ты будешь им расписывать, как сильно наша окончательная победа зависит от их действий.
– Может, мне лучше пойти воевать под Гумбинненом в должности командира пехотной роты? Найдется достаточно людей, которые с нетерпением ждут возможности сменить меня на должности Ic… Барден выпустил несколько облаков дыма в душный воздух комнаты. Альф задумчиво смотрел на бутылку коньяка. Барден вынул сигару изо рта и тихо произнес: – Мой мальчик, ты должен понимать, что нам противостоят тридцать стрелковых дивизий и двенадцать различных танковых соединений. Артиллерию я вообще не хочу считать. Но до того, как русские начнут наступление, это количество еще увеличится. Что, как ты думаешь, произойдет тут, когда это начнется?
Альф потянулся к сигарете. Когда она загорелась, он встал и прошел несколько шагов по комнате туда-сюда. Барден больше не мог видеть его лица, потому что керосиновая лампа, которая висела на стене, была прикреплена слишком низко. Он только слышал, как лейтенант сказал: – Есть ли какие-то исходные данные о времени начала наступления?
Барден наморщил лоб. Он пригладил свои растрепавшиеся, довольно редкие седые волосы, а потом сказал: – Судя по тому, что мы до сих пор знаем, наступление заставит себя ждать еще довольно долго. Я имею в виду крупномасштабное наступление. Русские едва ли начнут его в старом году. Они осторожны. Им требуется открытая погода. Это значит мороз и снег. Это их время. Вчера твои люди вернулись. Они установили, что на позиции прибыли сани. Если они доставляют сани на позиции, это значит, что они хотят ехать на санях. Снега пока еще нигде нет. До Рождества его тоже еще не будет. Потом и начнется наступление. Мы как раз вовремя вернемся со свадьбы Эрнестины, чтобы испытать его…
– Вероятно, это будет последнее наступление, которое мы испытаем…, – произнес Альф из темноты. Барден молчал. По прошествии долгого времени он сказал: – До него будет еще много небольших столкновений. В нескольких местах русские попытаются захватить более выгодные исходные позиции для наступления.
Он большим пальцем руки, которая также держала сигару, указал в сторону двери. Это был неопределенный жест. Потом он произнес: – Они однажды попробуют это и здесь, в этой местности. Есть определенные признаки этого.
Альф ответил: – Они уже доходили за Хазельгартен. Тогда…
– Да, – прервал его Барден, – они попытаются еще раз. Насколько я вижу ситуацию, мы не сможем им противопоставить ничего существенного. Мы только затормозим их, но не нанесем контрудар.
– Ты думаешь, у нас нет сил для этого?
– Тут разыгрываются другие дела. Все, что мы еще будем делать, это задерживать русских так долго, пока американцы не достаточно далеко продвинутся в Германии. Так вижу это. Ты понимаешь?
– Понимая. А моя рота?
– Мы отведем ее назад. Слишком жаль использовать ее в качестве тормозного башмака. Она еще пригодится. Ее отведут назад, когда это начнется. Но похоже на то, что до этого придется еще подождать.
Барден не был пьяницей, и алкоголь ударил ему в голову. Утром у него были бы страшные головные боли, но теперь ему было все равно.
На улице перед домом откатывалась назад колонна грузовиков. Машины с боеприпасами. Двигатели рычали в ночи, и Альф, стоявший с опущенной головой за столом, представлял себе лица водителей. Плохо выбритые, немытые, согнувшиеся над рулевым колесом, напряженными глазами всматривающиеся в темноту, едва освещаемую узкой полоской света от фар со светомаскировкой. Сигареты у лиц. Горящие точки в темноте. Запах пота и табачный дым.
– Теперь у русских тоже есть радиолокаторы… , – сказал Барден.
– В Шварцвальде…, – бормотал Альф. – Эрнестина выходит замуж в Шварцвальде. Мой черный костюм мне больше не подойдет. Я должен буду появиться там в мундире…
Чтение мессы
Пока Цадо очень тщательно умывался, он думал о том, что говорила та девушка.
Он пробыл у нее весь прошлый вечер, всю ночь и следующий день. Только в сумерках он вернулся в Хазельгартен. Он заранее попросил разрешения у Альфа. Тот обязал его вернуться не позже сумерек, и Цадо выполнил свое обещание, вовремя вернувшись в деревню. В доме, где они квартировали, он не нашел никого, кроме одного обер-ефрейтора, известного тем, что в промежутках между операциями он только пару часов был трезвым, а все остальное время постоянно спал, потому что он поднимался со своего лежбища на матрасе из соломы только для того, чтобы пить дальше, до тех пор пока он снова не падал. Мужчина был безвредным. Он много говорил, когда пил, но был добродушным. Он лежал на матрасе из соломы и смотрел остекленевшими глазами, как Цадо принес большую миску с водой и поставил ее на печь. Комната, в которой они лежали, когда-то была хорошей комнатой крестьянской семьи. Они вытащили мебель и поставили ее в амбар. Матрасы выложили в ряд на полу. Так в комнате появилось больше места. Они лежали там вшестером, с их вещами и большим количеством предметов, нужных им для ежедневного употребления: миски для мытья, несколько больших кастрюль, кофейник с вязаным чехлом для сохранения тепла, столовые приборы, собранные из шести различных домов. Одеяла, старые занавески, которые они использовали для чистки оружия, и точило Цадо нашел на кухне какого-то дома. Возле железной печи на полу стоял граммофон с огромной трубой. Сначала был один только граммофон. Они нашли трубу позже за домами на куче хлама. Водители использовали ее как воронку для заливания бензина. Она даже сейчас воняла им. Но аппарат играл. Солдаты нашли несколько пластинок. Это были старые песни бабушкиных времен, но кто-то позже принес из того местечка, в котором располагался штаб, полудюжину новых дисков. Они играли их попеременно. Не осталось никого, кто не знал бы их уже наизусть.
Когда вода для умывания нагрелась, Цадо поставил миску на стул и разделся. Другой в углу неподвижно смотрел на него. Цадо обтирал верхнюю часть туловища, при этом тихо насвистывая. Девушка говорила ему что-то о любви.
Обер-ефрейтор в углу потянулся к бутылке. Это был «болс» и происходил он еще из Голландии. Обер-ефрейтор владел еще половиной ящика этих бутылок. Он сам их украл. Когда они уходили из Хардервейка, он с водителем поехал на продовольственный склад, чтобы забрать для роты 50 килограмм хлеба, двенадцать килограмм масла, столько же сыра, две тысячи сигарет и сто бутылок «болса». Часовые в то время уже не особо за ним следили, и обер-ефрейтор вместе с водителем утащили дополнительно еще два ящика «болса». Потом они из поделили. Половина ящика, которой он еще владел, было остатком его доли. Он не был жадным, и по этой причине никто не воровал у него «болс». Достаточно было сказать ему, что хочешь бутылку, и он ее давал. Но в наличии был шнапс лучше «болса», потому остаток в ящике обер-ефрейтора продержался довольно долго. Водитель тайком перевез ящик из Голландии до Хазельгартена на своей машине. Иногда он приезжал сюда, и тогда они на пару с обер-ефрейтором выпивали бутылочку. Они дружили еще со школы.
– На! – буркнул обер-ефрейтор. Цадо не осталось времени, чтобы подумать, чего хотел пьяный. Он увидел, как к нему летит бутылка, и едва успел перехватить ее. Она чуть не выскользнула у него из рук, потому что его ладони были скользкими от мыла. Но он схватил ее, прижав к телу, сделал из нее глоток, и бросил ее назад.
– Отстегни пистолет, – бурчал обер-ефрейтор, – нельзя мыться с пристегнутым пистолетом…
Цадо прищурил глаз на своем лице, похожем на хищную птицу, и посоветовал обер-ефрейтору:
– Не пей так много. Если они снова отправят тебя на операцию, у тебя не будет верной руки.
– Пистолет… , – бурчал мужчина. – Заряженный и на предохранителе… Хи… Идиот… Пошел купаться с пистолетом.
Девушка была уже не очень молода. Одна из тех женщин, у которых не было никого, кто был бы в них заинтересован. Ни семьи, ни мужа. Только солдаты.
Цадо взял с собой для нее немного еды. Несколько консервных банок с мясом мула, хлеб в целлофане, несколько банок сардин в масле. Все с офицерской кухни. Цадо был одним из немногим, с которыми повар играл в покер. Для таких людей всегда что-то находилось. Цадо позволял повару выигрывать. Когда он играл с поваром в покер, то рассматривал как личную неудачу, когда у него был «флеш». Нужно было давать выигрывать повару. Тогда у того улучшалось настроение и вытаскивал те продукты, которые были в дефиците. Сигареты и «шокакола» были важнее, чем пара замызганных банкнот, которые проигрывал.
– Все уже больше не солдаты… , – бормотал обер-ефрейтор. Он поставил бутылку и снова пил. Он два дня назад вернулся после операции. Другие охотно шли с ним, так как он был силен как медведь. Однажды он пронес раненого восемнадцать километров на спине и спас его. Этот солдат уже лежал в кустах со стволом «Беретты» во рту, и обер-ефрейтор был последним, кто проходил мимо него. Он взял его с собой…
Он отставил бутылку и удовлетворенно громко рыгнул. Потом он взял сигарету и смотрел, как Цадо насухо вытирал кожу.
– Будь осторожнее, чтобы ты не взорвался, – ухмыльнулся Цадо. Обер-ефрейтор небрежно махнул рукой. При этом он коснулся горящим концом сигареты своей руки. Искры разлетелись в разные стороны, но мужчина, казалось, не заметил этого.
Мы должны всегда оставаться вместе, говорила девушка. Было темно, и в комнате пахло духами, знакомыми Цадо. Они как-то нашли большую бутыль его в каком-то голландском парфюмерном магазине и взяли с собой. Баллон, в конце концов, оказался в штабе, и офицеры разлили его для себя по пивным бутылкам. Было время, когда уже на улице местечка, в котором находился штаб, можно было унюхать, в каком именно доме он расположился. Не было смысла ломать себе голову, кто мог бы подарить эти духи девушке.
– Фронт, наверное, больше не изменится, – говорила девушка, – тогда мы навсегда останемся вместе, и когда война закончится, ты будешь жить у меня. Это будет так прекрасно…
Цадо играл с ее волосами. Он любил эти полные, тяжелые волосы. Он не видел их, он слышал только ее голос. Этих девушек было легче выносить в темных комнатах, чем в освещенных. Он больше не помнил точно, что ответил ей. Но он знал, что он дал ей надежду. В той деревне было не много девушек. Было хорошо знать, к кому было бы можно пойти, когда очередная операция снова закончится.
У этой девушки было что-то материнское. Когда он уставал, она снимала с него ботинки и носки. Она раздевала его и все аккуратно складывала. Она гладила его брюки и стирала его рубашки. Она не была особо красивой. Даже не особо испорченной. Она только жила в деревне, которая была занята Вермахтом.
Цадо задумчиво вытирал насухо своие волосы. На полу была маленькая лужа рядом с миской для мытья. Она одинока, думал Цадо, она так же одинока, как мы. Она начала прогонять эту скуку своим телом себе, и она больше не находит конца. Вот и все. Более ничего. Она называет это любовью. Можно ли вообще знать, что еще можно назвать любовью? Вероятно, то, что будет происходить между Биндигом и этой Анной? Конечно, до этого дойдет. Будет ли тогда это любовью?
Обер-ефрейтор ныл: – Послезавтра начнется… я знаю это точно. И они снова будут меня… все равно… если всеь «болс»…
– Тогда ты притащишь ящик водки с той стороны, как я тебя знаю, – произнес Цадо. Он надел рубашку и потянулся к форме.
– Водка…, – запинался пьяный с отвращением, – это денатурированный спирт с блохами. Он ухмыльнулся: – От него можно подхватить триппер.. в мозгу…, и в коренных зубах. Представь только – триппер в коренных зубах…
– Ты свинья, – в деловом тоне сказал Цадо. – Ты должен по крайней мере раз в день на полчаса быть трезвым, чтобы ты смог понять, что все остальное время ты был пьян.
Обер-ефрейтор входил во взвод Тимма. Если они несли службу между операциями, то Тимм появлялся на несколько часов раньше и отнимал у обер-ефрейтора бутылку. Несколько часов хватало, чтобы тот стал годным к службе. Тимм обращался с ним как с больным ребенком. Если он с таким подходом не мог добиться успеха, то он на него орал. Это всегда помогало, так как у обер-ефрейтора был нрав ребенка.
Он искоса смотрел на Цадо и причитал: – Нет, но все же, не свинья… ты не можешь так говорить.
Цадо снова вспомнил о девочке. Он видел ее перед собой, как она лежала в кровати, и над кроватью, на стене, висел маленький, стеклянный котел святой воды с ангелом на нем. Он был пуст, так как комната, в которой жила девочка, не принадлежала ей, и, кроме того, девочка не была достаточно религиозной, чтобы снова наполнять котел святой водой. Они использовали его как пепельницу, и это было так здорово лежать в темноте, бросать окурок в прозрачный сосуд и наблюдать, как он там медленно догорал.
О, небеса, думал Цадо, как долго это продлится, и они будут нашивать себе на одежду жемчужины четок как пуговицы! Если бы не было девушки, я тоже пил бы, думал Цадо. Всякий раз когда не было девочек, я пил. И я теперь тоже делал бы это. Она рассказала ему свою биографию. Бледно-фиолетовая картинка-лубок, намалеванная халтурщиком. Дочь пекаря из Гольдапа. Родители погибли, спасаясь от авианалета. Потом Вермахт забрал девушку с собой. И он также заботился о ней. Ей разрешили помогать на кухне. Она за это получала еду. После того, как повар поимел ее, она даже при случае приносила домой сигареты и шоколад. Позже духи. Ароматизируемая картинка-лубок. Цадо надевал ботинки и с отвращением думал об опухлых пальцах повара. Карты покера клеились к этим пальцам, как будто бы они были намазаны клейстером. Он вспомнил, что он часто думал об этих пальцах. Он размышлял тогда, было ли возможно, что эти пальцы оставили липкое ощущение на коже девушки. Он сидел на своем матрасе и зашнуровывал ботинки. Цадо, думал он, что будет из тебя? Женщина? Эта? Вздор. Ты каждую ночь будешь думать, что ее кожа все еще липкая от пальцев повара. А какая-то из дома? Ты будешь видеть каждую ночь перед собой рекрута, который занимался этим с нею, в то время как ты висел здесь на своем парашюте.
– Я тебя очень люблю, – говорила девочка. Очень тихо и так, что можно было ей в этом поверить.
Заменимая любовь, думал Цадо. Любовь борющейся германской расы. Любовь между липкими пальцами одним и воспаленными прыщами другого. Любовь образца 1944 года и позже. Любовь героев нашего времени. О чем только все не думают, говорил он себе. Но в этом ничего нельзя изменить. Им удалось это. Они сделали мужчин героями, а женщин проститутками.
– Слушай-ка, глупыш! – обратился он неожиданно к обер-ефрейтору. – Где, собственно, все остальные?
Пьяный ухмыльнулся всем лицом. Он закатил глаза и схватился снова, как будто вопрос Цадо его разбудил, за бутылку. – В церкви…, – запинаясь, пробормотал он. Он сделал глоток и вытер себе рот. – Все в церкви. Мозек во главе, ха-ха! Но… не молятся.
Тут Цадо надел камуфляжную куртку и шапку. Пьяница хихикал ему вслед, когда он покинул помещение.
Он услышал музыку уже когда приближался к церкви. Он остановился и одно мгновение недоверчиво внимательно прислушаливался.
Церковь стояла на краю маленькой площади, посреди деревни. Ее стены обросли усиками ползучих растений. Старое, почтенное сооружение. Балка для колокола была разрушена, хотя колокол еще висел неповрежденным. В башню попал снаряд, сильно ее повредил, а также сорвал часть крыши, так что черепица беспорядочно лежала вокруг.
Когда пойдет первый снег, он через эту дыру будет падать внутрь, думал Цадо. Теперь он очень отчетливо слышал, как играет орган. Орган не был поврежден. Он поднялся на ступени и медленно открыл дверь. Ее петли тихо запищали, но она открылась легко. Было темно, за исключением тусклого огня «светильника Гинденбурга», свечки в картонной чашечки, горевшей на ступенях к алтарю. Вокруг этого света сидело чуть больше дюжины мужчин. Они так сложили ковровую дорожку, которая вела наверх лестницы, что каждый получил кусок ее как подстилку для сиденья. Цадо старался приблизиться к свету, но в церкви было темно, и он ударялся об деревянные скамьи, пока не пробился к центральному проходу. Он споткнулся на скрученной дорожке и громко выругался. Только теперь он осознал, что эта ситуация в церкви Хазельгартена была особенной. Он только лишь слабо мог вспомнить, как выглядела церковь, в которой он был еще ребенком. И теперь, в этой деревне, в спустившейся ночи, с дюжиной солдат перед главным алтарем. Собравшихся вокруг «светильника Гинденбурга». Это казалось таинственным, безумным. Орган на эмпоре начал играть «Родина, твои звезды».
Один из солдат, которые сидели на ступенях, узнал Цадо и позвал его негромко: – Цадо… Иди сюда, у нас есть твой шнапс!
Это был голландский джин. Джин тут был часто, так как рота в Голландии сама помогала грузить весь джин, который был под рукой, в грузовики дивизии. Теперь его раздавали. Это был прозрачный, крепкий, жгучий напиток. Цадо пил его только тогда, если у него ничего другого не было. Когда он приблизился к солдату, который позвал его, то узнал в нем Паничека. Один из силезского Рыбника, не умевший ни слова ни написать, ни прочитать по-немецки. Один из тех, кто спускался в угольную шахту, не заботясь о том, считали ли люди его поляком или немцем. До тех пор, пока не пришли немцы, и Паничек заметил, что «Жечи посполитой» больше не существовало. Тут он обнаружил, что начиная с бабушки все его предки были немцами, и ему не нужно отправляться в контору «Фолькслиста» ради включения в список этнических немцев. Паничек был имперским немцем, который умел читать и писать, зато мог в самых разных вариациях ругаться на обоих языках и иногда для развлечения своих друзей сгибал мог проклинать для этого, однако, на обоих языках очень разнообразно и иногда к удовольствию его друзей сгибал монеты между большим и указательным пальцами. Он был парнем богатырского телосложения с широкими плечами и руками как лопаты для песка. У него была сила быка, но он был настолько добродушен, что другим уже не доставляло удовольствия дразнить его.
– Проходи… , – просил он Цадо, когда тот дотопал до него.
– И что же вы все тут делаете? – поинтересовался Цадо непонимающе. – Вы с ума сошли или только пьяные?
– Всё! – ухмылялся Паничек. – И сумасшедшие, и пьяные тоже. Тут у тебя есть шнапс. Шнапс и музыка.
Он подал Цадо бутылку, и тот взял ее. Он видел, что она наполовину полная. Поллитра шнапса означали, что самое позднее через три дня будет следующая операция.
Орган еще раз загрохотал, и тогда отзвучал последний звук. Исполнитель начал следующее произведение. Он позволил инструменту звучать с полным тоном, так что он заполняло большое пространство церкви своим звуком. Он играл «Я знаю, однажды произойдет чудо». Несколько солдат, сидевших на ступенях алтаря, подпевали. Это были грубые, гортанные голоса, немного хриплые.
– Вы сумасшедшие, – сказал Цадо, – все же, вы не можете музицировать в церкви. И пить…
– Садись и заткнись, – сказал Паничек, – садись, католик, и пей. Но молча.
«Светильник Гинденбурга» освещал лица мужчин, сидевших на ступенях. Это были те же самые лица, что и всегда. В них не было ничего особенного. Как будто бы они сидели не в церкви, а вокруг костра между двумя озерами на Мазурских болотах.
– Я не католик, – сказал Цадо, приседая на корточки рядом с Паничеком, – но, конечно, тут есть такие. Неужели не нашлось никого, кто мог бы вас отговорить от этой идеи пьянствовать в церкви?
Богатырь хлопнул его по плечу. – Пей, Цадо. Музыка и водка – это полжизни. Другая половина – это дерьмо. Больше нет католиков. И нет священника, который оберегал бы эту церковь. Скоро больше не будет и самой церкви. Крыша уже испорчена. Тогда орган больше не будет играть, и другая половина жизни тоже станет дерьмом. И мы, вероятно, мертвыми…
Музыка шумела под сводами. Мозек был хорошим музыкантом. Его часто отвозили в штаб, когда они отмечали там праздники. Мозек был популярным. Он играл свинг, и звуки вырывались из инструмента, перекатывались и звучали полновесно и прекрасно в отличной акустике церковного здания.
Они играют свинг в церкви, думал Цадо. Он вытащил пробку из бутылки и сделал большой глоток. Собственно, в этом не было ничего такого. Паничек был прав. Кто знает, как долго бы эта церковь еще простояла. Именно этим огромным «Кто знает» можно было обосновать все, что происходило. Протяжные звуки органа заставляли его барабанные перепонки вибрировать. Было так, как будто он сам сидел на эмпоре, слишком близко к органу. Он смотрел на потолок и видел звезды в разорванной крыше. В церкви все еще пахло ладаном. Ею не пользовались, пожалуй, много недель, и дыре в крыше тоже было уже много недель. Но запах ладана сохранился. Он исходил от каждого куска стены и от каждой из деревянных скамей, от ковриков и от покровов с золотой нитью, лежавших на алтаре. Фигура Христа еще стояла там, и мерцающий свет играл на ней. Цвета не светились, для этого свет был слишком слаб. Кровь на гвоздях, которые были вбиты в ноги, казалась такой же черной как складки набедренной повязки и терновый венец на голова распятого. Вокруг света тлели сигареты. Цадо покачал головой и откинулся назад. Мозек играл «Пой, соловей, пой», и солдаты благоговейно подтягивали. Звезды в дыре в крыше беспокойно мерцали.
Цадо погрузился в эту таинственную атмосферу, пока Паничек внезапно не толкнул его и спросил: – Почему ты не пьешь? Ну, давай, пей! Не каждый день у нас есть шнапс и музыка!
– … когда самый любимый мною овладел…, – произнес один из мужчин. Цадо по голосу узнал Клауса Тимма, Тимм, он думал. Этого он не упустит. Это для Тимма что-то значит. Джин и ладан, и Иисус на кресте, в мерцании «светильника Гинденбурга», и при этом «… когда самый любимый мною овладел».
Мы все сентиментальны, думал он. Мы как старые девы, когда это охватывает нас. Мы больше не мужчины. Сентиментальные мочалки, совершенные в убийстве и в профессиональном закладывании мин. И каждый пустяк заставляет нас выть. Мы все вместе отдали бы свое содержимое для музея, в котором немцы двадцатого столетия будут выставлены напоказ для будущих поколений. Русские атаковали бы еще сегодня без артиллерии и танков, если бы они знали, кто прячется под нашими мундирами.
Орган внезапно замолк, и голос Мозека закричал с эмпоры на тягучем, приветливом диалекте рейнских земель: – Принесите мне немного шнапса, ребята!
Они принесли ему шнапс, а также и другому, который давил на мехи. Они зажгли ему сигарету и воткнули ее ему между губ. Они были прекрасными товарищами, так как это был шнапс из их шнапса, и это была сигарета из их сигарет. Они сидели там и подпевали, и если он играл что-то веселое, их лица светлели, и они улыбались друг другу и хлопали себя по бедрам. Мозек играл «Анну Марианну», и внезапно Клаус Тимм громко закричал: – Сыграй что-то лихое, не это старье! Но один из других солдат тут же потребовал: – Играй дальше! Это моя любимая песня! Цадо снова пил. Он замечал, как джин медленно вставлял ему в голову. Вот проклятое пойло, подумал он. Завтра у меня будет голова раскалываться. Лучше бы я попросил у пьяницы бутылку «болса».
Он заметил, что шнапс поднял его настроение, и сказал Паничеку, ухмыляясь: – Если он заиграет теперь «Германия, Германия превыше всего», что они сделают тогда? Встанут и поднимут руку или станут на колени и прижмут руку к груди?
Богатырь добродушно рассмеялся и чокнулся своей бутылкой с бутылкой Цадо. При этом он пробурчал: – Вот таким ты мне нравишься, Цадо!
Цадо точно больше не знал, сколько песен сыграл Мозек, когда дверь ризницы открылась, и один из солдат вышел с требником в руке. В другой руке он держал второй «светильник Гинденбурга».
– Никакого вина больше нет, – сообщил он другим, – господин священник забрал его с собой. Он оставил нам только Библию. Он присел на корточки к другим и листал книгу. И орган продолжал звучать, и звезды мерцали там, где крыша была пробита.
– Эта Библия, – сказал солдат, подняв указательный палец, – в ней что-то есть! Он раздавил свою сигарету на дорожке и начал читать.
– Теперь он еще прочтет нам мессу…, – проворчал Цадо. Он выпил много джина и привык к церкви и к органу, к аромату ладана и фигуре Христа.
– Это – книга рода человеческого, – читал солдат с поднятым пальцем, – ибо когда Бог создал человека, он сделал его по образу и подобию Бога. И он создал их, мужчину и женщину, и благословил их, и назвал его именем человека, в то время, когда они были созданы. И Адаму было сто тридцать лет, и он родил сына, подобного себе, и назвал его Сифом. И прожил после этого еще восемьсот лет и породил сыновей и дочерей. И было ему девятьсот тридцать лет, когда он умер. Сифу было сто пять лет, и он породил Еноха…
Один из мужчин рассмеялся громко, и читающий прервался.
– Сто пять лет и породил Еноха, – рокотал Тимм, – представьте себе, что он делал, когда ему было тридцать лет. Или двадцать пять! Вот это были времена!
– Там у них всех было по семь жен…, – произнес другой, – я где-то об этом читал. У всех евреев было по семь жен. И тогда кроме евреев не было других людей на свете. Это вы могли бы себе представить?
– Эта библия хороша, – сказал читавший, – я заберу ее с собой. Она почти так же интересна, как роман за тридцать пфеннигов Он снова углубился в книгу, а другие начали приглушенно беседовать о борделе в Амстердаме, о котором они все еще помнили, потому что там была комната с киноустановкой. С восемью кроватями и киноустановкой и экраном в торце помещения.
– Послушай-ка, – обратился Паничек к Цадо, – хочешь заработать себе бутылку шнапса?
Цадо посмотрел свысока и ответил: – У меня есть еще в моем багаже шнапс лучше, чем у тебя.
– Но все же, – настаивал другой, – шнапс никогда не бывает лишним. Так ты хочешь?
– И что?
– Ты должен написать для меня кое-что и получишь бутылку шнапса. Хорошего немецкого шнапса.
Паничек иногда обращался к кому-то из других солдат, если ему нужно было что-то написать. Просьбу об отпуске, донесение, или тогда, когда Цадо помог ему, указание домой, что какой-то Янек Стрелецкий должен освободить комнату Паничека от мебели, продать все и послать ему деньги. Паничек не умел писать, он этому никогда не учился.
– И что я должен тебе написать? – спросил Цадо. – Прошение об отпуске?
– Нет. Не прошение об отпуске. Кое-что другое.
– И что именно?
– Пошли со мной. Или ты хочешь еще послушать музыку.
– Я уже с четверть часа не слышу больше никакой музыки, – сказал Цадо и поднялся, – мои уши до краев полны шнапсом.
Они прошли вдоль центрального прохода, на этот раз не ударяясь, так как их глаза уже привыкли к темноте.
Но они все равно шли медленно, и Мозек начал играть «Лилли Марлен», и они слышали рокочущий голос Клауса Тимма: – … я буду стоять под фонарем. Потом дверь за ними захлопнулась, и их окружила холодная ночь. Они спускались по ступенькам вниз, и музыка тонко звучала за ними.
С фронта катился гром далеких пушек. Деревня лежала в темноте. Шаги хрустели по замерзшей земле. Паничек поднял воротник камуфляжной куртки и сказал. – Тебе не нужно писать много. Совсем чуть-чуть. Одно маленькое письмо. Незнакомой девушке…
– Эх, – произнес Цадо, – ты и незнакомая девушка. Где ты ее подцепил?
Паничек по-дружески положил ему руку на плечо. Он дохнул ему в лицо паром от шнапса и чистосердечно сказал: – Красивая девушка. Слишком красивая для незнакомой. Они принесли мне сегодня посылку от нее. Красивая девушка…
– У тебя есть ее фотография?
– Целых пять штук. Большие фотографии.
– Я с ума сойду, – заметил Цадо. – В самом конце эта война превратится еще и в сватовство.
Паничек показал ему маленькую посылку, когда они пришли в дом, где квартировали. Цадо подтолкнул ящик шнапса пьяного обер-ефрейтора поближе к печи, поставил керосиновую лампу и принес лист чистой бумагу из своего рюкзака. Он уселся на полу и начал писать. У него был хороший почерк, и он умел писать письма. Паничек показал ему все, что было в посылке, и дал прочитать, что написала ему девушка. Он принес бутылку шнапса, потом еще одну, полупустую, и уселся рядом с Цадо. Он положил ему пачку сигарет и снял шапку, как будто это был праздник.








