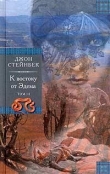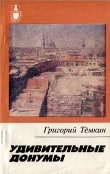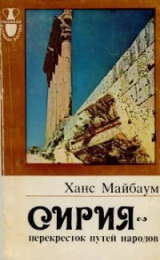
Текст книги "Сирия - перекресток путей народов"
Автор книги: Ханс Майбаум
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Она произносит это так, словно она – сама Зенобия, показывающая гостям столицу своего царства. Я сразу же сдаюсь – не хочется спорить после всего, что я слышал о воинствующей царице, и осведомляюсь о следующем пункте нашего «наступления».
Ахмед предлагает объехать территорию на машине: все-таки это как-никак, а километров шесть. Я чувствую на себе критический взгляд Лейлы и решительно протестую против предложения Ахмеда. Он пристрастен к комфорту. Я за то, чтобы идти пешком.
По пути к руинам Лейла рассказывает историю города. Абсолютно точно известно, что уже в III тысячелетии до н. э. Пальмиру населяли семитские племена. Место это упоминается в ассирийской табличке начала IT тысячелетия до н. э., а также в табличке, найденной на территории Мари. Тогда оно называлось так же, как строящееся сейчас поселение неподалеку от древнего города, – Тадмор. Более тысячи лет отсутствовали какие-либо упоминания об этом городе, затем он снова всплывает во времена ранних ассирийских завоевателей. Тогда здесь жили арамеи. Они вместе с арабами и пришедшими сюда через тысячу лет римлянами образовали ядро населения.
Антоний, которому нужны были деньги для его супруги Клеопатры, а также для борьбы с Октавианом (Августом), вскоре после 40 года до н. э. разграбил город. Хотя в качестве буфера между Римом и парфянами город в последующие годы оставался формально самостоятельным (он не был включен в римскую провинцию Сирия), при Тиберии, преемнике Августа, он должен был платить подать и получил название Пальмира – город пальм.
И в этот период продолжало возрастать его значение как торгового центра. С использованием верблюдов в качестве транспортного средства ожили прежние караванные пути через пустыню – самую короткую линию связи со Средиземным морем, – и Пальмира стала важным местом отдыха на полпути между Евфратом и Средиземным морем. Здесь останавливались караваны из Аравии и Персии, из Индии и даже из Китая.
Бродя по развалинам, мы дошли до храма Баала. Это самое большое сооружение относится к I и II столетиям.
Посередине почти квадратного, окруженного колоннадами дворца, длина боковых сторон которого – 225 метров, на наращенном фундаменте возвышается здание храма.
Наряду с элементами греко-римского архитектурного стиля здесь значительно больше, чем в Баальбеке, ощущается влияние восточных традиций. Например, балки перекрытий венчают острые треугольные зубцы, известные в Вавилоне. К сожалению, бронзовые капители колонн исчезли: храм, по-видимому, грабили мародеры-солдаты. Позднее арабы использовали храм в качестве крепости в борьбе с крестоносцами, и здание сильно пострадало.
Мы входим в храм через огромный портал, украшенный удивительными «транспарантами», выбитыми из камня. Монолитные плиты над Нишами демонстрируют великолепную работу каменотесов. На барельефе изображена жертвенная процессия. Женщины, закрытые покрывалами, шествуют за верблюдами. Эта деталь особенно примечательна, потому что манера декоративного расположения складок удивительно напоминает современную моду, а также и потому, что это изображение доказывает, что женщины носили чадру еще в доисламский период.
Мы покидаем святилище Баала и отправляемся на главную улицу к триумфальной арке, символу Пальмиры. По дороге Лейла рассказывает о двух женщинах из ее родного города Эмессы (Хомса), вошедших в историю. Примерно в 200 году н. э. Юлия Домна, дочь жреца из Эмессы, стала супругой римского императора Септимия Севера. Он освободил Пальмиру – возможно, из любви к своей жене – от поземельного налога. Сестре его жены, Юлии Мэсе, с помощью нескольких придворных интриг удалось посадить на римский троп своего внука Гелиогабала, тоже жреца из Хомса; после того как его убили, императором стал сириец Александр Север. Северы способствовали – под влиянием своих сирийских жен или по причине собственного сирийского происхождения – развитию Сирии и приложили много усилий для дальнейшего расцвета Пальмиры.
Мы подошли к триумфальной арке, построенной около 200 года. Здесь начинается главная улица протяженностью 1100 метров, очень хорошо сохранившаяся. Она состояла из проезжей части шириной 11 метров, обрамленной во всю длину колоннами, и двух крытых тротуаров шириной 6 метров. Колонны, включая фундамент и капители, достигают высоты почти 10 метров. Между ними проходил транспорт. По обеим сторонам тротуара находились лавки ремесленников, которые, поскольку тогда еще не было разделения между производством и торговлей, сами выставляли свой товар для продажи. На половине высоты каждой колонны была консоль – выступ, где стоял бюст высокопоставленного лица этого города. По всей вероятности, бюсты были изготовлены из бронзы, так как ни одного из них не сохранилось. Лейла говорит, что их тоже украли римские захватчики.
Мы проходим мимо театра, построенного в первой половине II века. Он не такой большой, как другие известные нам театры античного времени, которые из-за больших размеров строились обычно за городом. Этот расположен в центре. Ширина сцены – 48 метров, глубина – более 10 метров. Театр был окружен полукольцом колонн и гармонически сливался с архитектурным обликом города.
Сразу же за театром в соответствии с греко-римскими традициями находится окруженная колоннами площадь собраний.
Здесь с особой трибуны ораторы обращались к своим слушателям, сообщали о последних событиях и оглашали указы городской администрации, а позднее и правителей. Отсюда представители сената, правившего Пальмирой до начала 11 века, оповещали население о своих решениях.
Неподалеку от площади собраний была найдена стела длиной почти 5 метров, относящаяся к 137 году н. э. и представляющая особую ценность; сейчас она хранится в Ленинградском Эрмитаже. Стела содержит написанные на греческом и пальмирском, очень похожем на арамейский, языках решения сената о налогах и тарифах, которыми облагался город, например за пользование водой из источника.
Как и во многих других городах того времени, перекресток главной улицы с наиболее важными боковыми улицами в Пальмире был также украшен особой конструкцией колонн – тетрапилоном (четырехсторонней аркой). На каждом из четырех углов перекрестка возвышались установленные на высоких цоколях колонны из розового гранита, привезенные в Пальмиру, вероятно, из Египта. Колонны иес1ги на себе богато украшенные балки перекрытия. Поблизости от тетрапилона стоят, возвышаясь над другими, несколько колонн. На двух из них находились когда-то бюсты великого правителя Одената и его супруги, прекрасной, мудрой и храброй Зенобии.
Мы садимся на цоколь тетрапилона. Солпце почти в зените. Лейла рассказывает о последнем периоде пальмирского царства. Значение его возрастало в процессе борьбы между Римом и преемниками парфян – Сасанидами. Пальмирские стрелки в римской армии составляли привилегированный отряд. После того как император Валерий, потерпев полное поражение в битве с Сасанидами, вместе с 70 тысячами своих воинов был взят в плен, судьба Рима на Востоке стала полностью зависеть от Пальмиры. В то время здесь господствовал род, имя которого свидетельствует об арабском происхождении. Самый значительный представитель этого рода, упомянутый выше Оденат, стал почти независимым от Рима: он отважился напасть на победоносных Сасанидов, и ему удалось их разбить и осадить их столицу Ктесифон (около современного Багдада). Благодарность за это не заставила себя ждать: Рим назначил его императором, «восстановителем всего Востока».
Хотя Оденат прекрасно сознавал свою роль спасителя Рима и в соответствии с этим вел себя уверенно, тем не менее он был достаточно умен, чтобы не перегнуть палку. Его стремление продемонстрировать свое превосходство перед другими правителями постоянно граничило с осмотрительностью, как бы не спровоцировать Рим. Поэтому он назвал себя не императором, а согласно вавилонской (или иранской) традиции «царем царей». Оденат властвовал в Сирии почти неограниченно до 267 года, когда он был убит в Эмессе. If тут началось великое время для Зенобии, его жены, которую арабы называли Зубайдат, что означает «женщина с прекрасными, густыми и длинными волосами». Современники прославляли ее совершенную красоту, храбрость, мудрость и энергию. Она взяла регентство над своим малолетним сыном, и при ней город пережил последний период расцвета. Особенно плодотворной была деятельность сирийского ученого Лонгина, которого Зенобия сделала своим первым советником. Лонгин стремился оживить идеалы античной Греции. В комментариях к некоторым трудам по греческой философии он старался обосновать существование духовного мира человека независимо от бога. Он создал также произведения по языковому и ораторскому искусству.
Однако римский император Галлиен отказался передать титул Одената его сыну. Зенобия, установившая к тому времени господство почти над всем римским Востоком, за исключением Малой Азии и Египта, не вынесла такого оскорбления. Она ответила ударом и отвергла претензии Рима на территории, завоеванные ее покойным мужем в борьбе против Сасанидов, и когда император попытался добиться своего силой, войска Зенобии разбили его. Мало того, Зенобия, воспользовавшись нападением на Рим готов, послала своего полководца Забду завоевать территории Востока, находившиеся еще под римским контролем, – Египет и Малую Азию. Забда разбил войска противника, занял обе провинции и тем самым усилил власть Зенобии, ставшей отныне самой могущественной властительницей на Востоке.
Но у Зенобии отсутствовало чувство меры. Когда она официально провозгласила независимость от Рима, наделила себя титулом «Августы», а сына своего нарекла Августом, титулом, который по праву принадлежал только римской императорской чете, то натянула тетиву до предела. Но когда она решила чеканить собственные монеты со своим изображением и изображением своего сына, тетива лопнула. Преемник Клавдия, Аврелиан, прекратил переговоры с ее посланцами и предпринял в 271 году грандиозный поход. Один из его полководцев отвоевал снова Египет, а сам он высадился в Малой Азии, разбил под Антиохией пальмирскую армию и преследовал ее до Эмессы. Здесь Зенобия, находившаяся при своем войске, потерпела полное поражение. Она бежала (по дороге, на которую нам сегодня понадобилось два часа езды на машине) в столицу, а Аврелиан продолжал ее преследовать и осадил город. Предложение капитулировать Зенобия отклонила и спешно принялась за усиление оборонительных сооружений. Римские войска почти окружили город; арабские племена бедуинов, готовые прийти Зенобии на помощь, были отбиты. И все же Зенобия не сдавалась. Она попыталась пробраться на верблюде к заклятым врагам римлян – Сасанидам, чтобы просить у них помощи. Ее план чуть было не удался. В сопровождении лишь нескольких верных людей она после трудного пути через пустыню верхом на верблюде добралась до Евфрата. Тут Зенобию настиг отряд Аврелиана, ее узнали, схватили и доставили в лагерь императора. Пальмира капитулировала. Зенобию – согласно хроникам – заковали в цепи (разумеется, в золотые), и она должна была следовать за триумфальной коляской императора при его торжественном вступлении в Рим. Конец жизни гордой царицы овеян многочисленными легендами. Полагают, будто Аврелиан даровал ей жизнь и виллу неподалеку от Рима, в Тиволи, где она провела остаток лет.
Пальмира не была разрушена. Но когда после ухода римского императора здесь вспыхнуло восстание, во время которого был перебит римский гарнизон, Аврелиан вынужден был возвратиться. Теперь он отдал вновь занятый им город на разграбление. Великолепные здания Пальмиры были разрушены, и постепенно песок пустыни ложился на еще уцелевшие остатки былого величия города.
Мы возвращаемся в гостиницу. В конце дня хочется посмотреть несколько наиболее известных гробниц. Когда Ахмед снова предлагает поехать к некрополям, расположенным довольно далеко друг от друга, на машине, никто не возражает. Лейла везет нас сначала к нескольким родовым гробницам, семейным склепам, похожим на небольшие квартиры. Рельефные бюсты покойников, иногда в окружении своих скорбящих родственников, очень трогательны и естественны. Хорошо видна каждая деталь: черты лица, прически, украшения, складки одежды.
В заключение осматриваем одну могилу, обнаруженную при прокладке трубы. По ступеням узкой лестницы спускаемся в глубину. Поперек лаза над нашими головами проходит труба нефтепровода около метра в диаметре: встреча прошлого с настоящим – более оригинальное сочетание вряд ли можно придумать. Дверь представляет собой монолит весом в Несколько центнеров, но достаточно нажать на нее пальцем – и она легко открывается, так чисто сработаны шарниры.
Мы благоговейно стоим в склепе с тремя Т-образно расположенными проходами. У стен шесть рядов могильных горизонтальных ниш. Каждая закрыта плитой с рельефным бюстом умершего.
Громкое хихиканье разрезает тишину. В одном из проходов появляется молодая женщина, с наигранной боязливостью прижимающаяся к мужу. Я уже встречал их. Это супружеская пара, владельцы машины с посольским номером, которую я видел перед отелем. На женщине кричаще-красного цвета шорты и прозрачная блузка. Конечно, ей холодно здесь, внизу. Она еще теснее жмется к мужу и со страхом рассматривает могилы. Я слышу, как она говорит:
– There is nothing better, than a good file-sistem (Лучше этого склада ничего не придумаешь).
Теперь я знаю, что каждый человек воспринимает окружающий мир с помощью той шкалы понятий, которая ему доступна.
Когда я пытаюсь сосчитать все захоронения, Лейла прерывает меня:
– Здесь их триста девяносто, – подсказывает она.
– Большая семья, – говорю я, но Лейла рассказывает о коммерческой жилке пальмирцев. Хотя гробница построена для одной семьи, она одновременно была нечто вроде объекта капиталовложения. Не использованные в склепе помещения продавались другим семьям, иногда через посредников, которые потом, при последующей перепродаже, запрашивали значительно более высокие цены. Поистине деловой народ! С маклерами по продаже земли и домов я сталкивался ужо много раз. С маклерами nd продаже могил мпе еще но приходилось встречаться и, к счастью, в лом нет необходимости.
– Наряду с подземными могилами, – рассказывает нам Лейла, – все чаще стали строить башенные могилы: почва была очень каменистой, строить склепы в земле было слишком трудоемким делом, и тогда у пальмирцев возникла идея возводить их, как башни, в высоту. Эта идея быстро распространилась по всему Востоку.
Мы едем назад в направлении Хомса и еще раз выходим из машины в «Долине мертвых». Лейла ведет нас к башне высотой в пять этажей: стены каждого этажа выложены квадратными каменными плитами, позади которых скрываются отверстия, ведущие в склепы. Мы взбираемся по довольно сносно сохранившейся лестнице до верхней площадки. Это как раз подходящее место для прощания с Пальмирой. Солнечные лучи косо падают на руины. Башни и колонны отбрасывают длинные тонн. Вдали видны зеленые сады. Позади отеля начинается новый Тадмор, выросший с тех нор, когда в 1928 году управление по охране древностей переселило туда несколько арабских крестьянских семей, чьи предки десятилетия, а может быть, и столетия назад нашли себе приют в развалинах храма Баала.
Лейла рассказывает, что тогда, в 1928 году, началось развитие молодого города, который сам стал производить электрический ток, создал сеть канализации и водоснабжения, построил асфальтированные улицы, музеи и прочие атрибуты современной жизни. На окраине города в пустыне был построен аэродром. Постоянно расширяется обводненная площадь пахотных земель.
Пышно растут оливковые и гранатовые деревья, финиковые пальмы. Возделываются зерновые культуры, даже хлопок хорошо растет; крестьяне увеличивают стада овец и крупного рогатого скота. Город стал центром торговли с бедуинами. Построено много школ, в том числе средняя. Славное прошлое вдохновляет город, которым когда-то правила Зенобия; почитатели славят не только ее красоту, храбрость и энергию, но и мудрость. Последнее свойство, правда, вызывает сомнение: Зенобия потерпела крах из-за неумеренности своих планов. С этим соглашается и Лейла.
– Тщеславие сегодняшних жителей, – с улыбкой говорит она, – приняло другие размеры, соответствующие реальности. Оно направлено на то, чтобы превратить свой Тадмор в столицу некой особой сирийской провинции в пустыне. Жители города считают, что Хомс, становясь промышленным центром, недостаточно заботится об интересах сирийской части населения, проживающей в близлежащих к пустыне областях.
Театр на 15 тысяч мест
«Было много камней и мало хлеба…» – эти строки из стихотворения немецкого поэта и литературоведа Уланда о Ближнем Востоке периода крестовых походов всплывают у меня в памяти, когда я еду по направлению к Буере, чтобы посмотреть «театр пятнадцати тысяч».
Потом мы хотим поехать в Петру – красный город на скале, расположенный между столицей Иордании и Красным морем. Там состоялась самая значительная схватка между римлянами и арабами.
Едем по очень оживленной главной магистрали Дамаск – Амман. Беспрестанно приходится обгонять тяжелогруженый транспорт, движущийся в направлении иорданской столицы, так как снабжение Аммана и практически всей страны осуществляется главным образом по этому шоссе, ведущему также и в бейрутский порт.
За Дамаском миновали несколько деревень, где развалины времен Римской империи разбросаны вокруг, как кирпичи на строительной площадке.
Местность производит мрачное впечатление. Кажется, будто здесь прошел дождь из базальтовых камней. Мы находимся в области вулканической деятельности. С большим трудом осваиваются небольшие участки земли. Обычно для строительства используется тот материал, который имеется в данном районе, поэтому здесь дома построены из серого базальтового камня, что усиливает впечатление угрюмости и печали. Эта область некогда была житницей Римской империи, где процветали города, такие, как Буера, Канават (Каната), Филиппополь, Аварн, Гераса, Суада.
Проехав около 80 километров, мы оставляем главную трассу, идущую на восток, к Друзским горам, и подъезжаем к воротам местечка Шехба, в котором родился человек, возвысившийся по странному стечению обстоятельств до положения римского императора. Его звали Филипп, он правил с 244 по 249 год н. э. и получил прозвище Араб (или Аравитянин). Тогда было возведено много прекрасных строений, развалины которых сохранились до сих пор.
Наша машина легко мчится по дороге, построенной во времена римского господства. Она выложена из больших, тщательно пригнанных друг к другу базальтовых плит. Мы ненадолго останавливаемся у бань – они встречаются в каждом римском поселении. Здесь их выстроили с особенно широким размахом: в помещении для переодевания уместилось бы несколько современных арабских домов. Далее по мостовой, которой 1800 лет, минуем главную площадь городка и останавливаемся перед храмом из черного базальта. Филипп посвятил его своему отцу, которого он возвел в ранг божества из чувства благодарности, а может быть, из расчета: и сыну бога потом перепадет немного от его сияния. Но гордостью городка является его театр. Эта небольшая постройка диаметром 40 метров, предназначенная для двора и знати, изящно и легко вписывается в городской пейзаж и окрестности.
Прыжок от камерного театра в городе, где родился Филипп, к грандиозному театральному сооружению римской античности измеряется всего часом езды на машине. Но какая разница! Огромное здание начала II столетия в Буере имеет зрительный зал диаметром 100 метров. Тридцать пять рядов, разделенных двумя широкими проходами, концентрически сбегающими к полукругу орхестры, тремя ярусами поднимаются кверху. Две лучеобразно расположенные лестницы делят зрительный зал на три сектора. В проходах имеется множество дверей, ведущих в коридоры и на лестницы и обеспечивающих зрителям быстрый вход и выход. Длина сцены – 45 метров, она отделена кулисой, образованной двумя рядами колонн, расположенных друг над другом: нижний ряд с коринфскими, верхний – с дорическими капителями.
Рекламные проспекты утверждают, что в театре 15 тысяч мест. У меня не было времени пересчитать, но отчего-то подумалось, что стольким зрителям пришлось бы сидеть, тесно прижавшись друг к другу! Даже если цифра несколько преувеличена и мест всего 12 или 10 тысяч, факт остается фактом: здесь существовало культурное учреждение исключительных размеров. Так как число мест в театре 1800 лет назад находилось в разумном соотношении с возможным числом зрителей, то напрашивается вывод относительно величины и значения античной Буеры. В последнем столетии перед наступлением новой эры она была покорена арабами-набатеями, столица которых Петра – цель нашего путешествия. И только когда в начале II века н. э. при императоре Траяне царство набатеев было присоединено к Риму, начался расцвет Буеры. Это поселение стало столицей римской провинции Аравия, центром пересечения торговых путей со всех концов света. Путь с севера на юг, к Красному морю, проходивший через Дамаск, пересекался здесь с дорогой, связывающей южную часть Средиземного моря с Персидским заливом. Так же как и Пальмира на севере пустыни, этот город на юге достиг полного расцвета во время правления императоров сирийской династии. Филипп Араб сделал его столицей. В момент наивысшего расцвета Буера насчитывала 80 тысяч жителей.
Отличное состояние театра вызывает сегодня недоумение каждого, кто туда приходит. Ахмед открывает мне тайну. В XIII веке, когда арабы нашли наконец время, чтобы выбросить вторгшиеся банды европейских рыцарей, называвших себя крестоносцами, огромное сооружение было превращено в крепость, причем зрительный зал просто засыпали землей. Укрепили наружные каменные стены, и бастион был готов. Сирийское управление по охране древностей начало в 1947 году с того, что очистило огромный зрительный зал и сцену от земли. Вот так это сооружение сохранилось для потомков. Оно является объектом исследования многих искусствоведов и историков.
Сегодня в театре тоже много людей. Вместе с ними я поднимаюсь по лестнице зрительного зала до самого верха театра, который замыкает колоннада. Отсюда открывается великолепный вид на все сооружение и на селение Бусру. Ахмед, разумеется, остался внизу, но совсем не потому, что ему не хочется считать семьдесят ступенек, так по крайней мере он уверял меня, а потому якобы, что он хочет продемонстрировать мне отличную акустику. Нормальным голосом он начинает считать по-арабски: сифр, вахид, иснан (ноль, один, два). Затем он произносит все тише: слас, арба, хаме, ситт (три, четыре, пять, шесть), под конец шепчет: саб, саманин, тис, ашар (семь, восемь, девять, десять). Я без труда улавливаю каждый звук.
Неожиданно рядом с Ахмедом остановился седой пожилой мужчина. Широким движением он набрасывает шаль на шею, протягивает вперед руку и начинает громко декламировать. Четко и понятно доносится до нас его голос, и я слышу слова Катулла:
Nulla potest mulier tantum se dicere amatam vero,
quanta in amore tuo ex Parte reperta mea est…
Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться
не может преданной дружбой, как я, Лесбия,
была тебе другом.
Крепче, чем узы любви, что когда-то двоих
нас связали,
Не было в мире еще крепких и вяжущих уз.
(Пер. А. Пиотровского)
Рим встречается с арабами
Визу в Иорданию мне оформил тогдашний иорданский посол в Дамаске, симпатичный пожилой человек; я познакомился с ним на концерте немецкого квартета Эрбена в Дамаске, и он в очень трогательной форме – он прекрасно говорит по-немецки – благодарил меня, хотя, к великому моему сожалению, я не мог приписать себе ни малейшей заслуги в этом чудесном вечере. Я ему и сказал об этом, но ему было достаточно, что я приехал из страны, в которой создают такую музыку.
Позднее я узнал, что посол еще во время первой мировой войны изучал в Берлине медицину. Несколько десятков лет назад он, будучи врачом, поселился в Дамаске, и когда-то, имея очень хорошие связи с видными иорданскими деятелями, а также пользуясь большим уважением у себя в стране, был назначен иорданским послом в Сирии. Но во время моего пребывания на Ближнем Востоке отношения между Сирией и Иорданией были часто натянутыми, главным образом из-за враждебной позиции иорданского правительства по отношению к Палестинскому движению сопротивления, и дипломатические отношения нередко прерывались. Тогда пожилой господин убирал флаг на своей вилле, расположенной на главной улице современного городского квартала, и продолжал жить как частное лицо; когда отношения восстанавливались, он снова занимал свою должность посла. Эго повторялось несколько раз, и мне показалось, что пожилой господин не обращал внимания на эти инциденты.
– Дорогой юный друг, – сказал он мне при последней встрече, и я заподозрил, что он так обращается ко всем своим знакомым, которым меньше сорока, – если вы поедете в Иорданию, непременно посмотрите развалины Петры.
Этой рекомендации мы сейчас и следуем: кто знает, как долго еще будет открыта граница.
В нескольких километрах позади границы трассу пересекает дорога, проходящая через пустыню в Багдад. Она в отличном состоянии – признак того, что Иордания проявляет интерес к туризму. Скоро мы проезжаем Джераш, античную Герасу, также основанную Селевкидамн. Времени у нас в обрез, но мы решили осмотреть очень красивую триумфальную арку, воздвигнутую в честь императора Адриана, посетившего Герасу в 129 году. Хотя в нашу честь и не воздвигли арки, зато сразу же подбегает мальчик, у которого как раз для нас осталась еще одна настоящая (с гарантией) римская масляная лампа за тысячу иорданских динаров – примерно десять марок. Ахмед утверждает, что лампа не старше мальчика, но я покупаю ее за 500 динаров; правда, от его предложения сопровождать нас по местности мы вынуждены отказаться, хотя здесь есть что посмотреть: храм, театр, бани, тетрапилон – все это характерно для римского города. Бросаем взгляд на форум: колоннада вокруг огромной, в виде эллипса территории, выложенной большими каменными плитами, почти полностью сохранилась и свидетельствует о величии и значении Герасы в античном мире.
Добрых 50 километров отделяют от Джераша Амман, столицу Иордании. Она раскинулась на нескольких холмах, и кто захочет, может насчитать их семь – аналогия с Римом, на которой слишком часто акцентируют внимание проспекты для туристов.
Амман, как и многие места на Востоке, город без средневековья. Раскопки после второй мировой войны подтверждают, что уже во II тысячелетии на этом месте были поселения. В XIII веке до н. э. здесь образовалось государство аммонитов, которое потом, на рубеже тысячелетий, было завоевано напавшими на них израильскими племенами под предводительством Давида. Здесь согласно библейской легенде, он поистине по-царски избавился от своего военачальника Урии: увидев с крыши дворца его жену Вирсавию (Бат-Шеву), он велел привести ее к себе и соблазнил, а своему полководцу Иоаву приказал: «Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Вирсавия же родила Давиду сына, который победил в борьбе за власть многочисленных братьев – сыновей других жен, – и вошел в историю как царь Соломон.
Оказавшись позднее на территории южной части царства Диадохов, подвластной династии Птолемеев, город получил название Филадельфия в честь царя Птолемея II Филадельфа (примерно в 250 году до н. э.). При римлянах он превратился в важный транзитный пункт караванных путей. В нем, особенно в III столетии н. э., было построено много прекрасных зданий. Примерно в X столетии н. э. город еще упоминается в арабских источниках, но тогда он, очевидно, уже был оставлен жителями. Многие столетия о нем, казалось, забыли. В стороне от жизни спал он сном спящей красавицы. Но поцелуй, пробудивший город к жизни, был получен не от прекрасного рыцаря. Уинстон Черчилль, занимавший с 1921 по 1922 год пост министра колоний Великобритании, в рамках империалистической политики разделения сфер влияния подыскивал тогда для вновь созданной страны Трансиордании столицу. Вспомнили о какой-то Филадельфии-Аммане, которая в те времена была вряд ли больше селения в пустыне.
Прогулка по городу показала, что скачок от деревни до положения столицы страны был удачным не во всех отношениях, хотя на одном из семи холмов города протянулись великолепные дворцы помпезной резиденции короля Хусейна, тщательно отгороженные от постороннего взгляда. Некоторые кварталы с роскошными виллами говорят о том, что богатым сирийцам, особенно за прошедшие 25 лет, омраченных все же несколькими войнами, удалось сколотить весьма значительное состояние. Однако остальные городские районы явно показывают, что большинства населения этот успех не коснулся.
Но мы приехали сюда не для того, чтобы собирать материал для изучения иорданской действительности. Сегодня мы транзитники на пути в Петру, столицу царства набатеев. Разумеется, это совсем не значит, что мы способны проехать, не остановившись, мимо римского театра на четыре тысячи мест – впечатляющего здания с встроенным в горную стену полукругом рядов для зрителей.
Поскольку нам еще сегодня надо осмотреть хотя бы часть территории Петры, мы снова отправляемся в путь. Главная магистраль идет дальше на юг по направлению к Акабе, где Иордании достался небольшой уголок Красного моря. Но я уже по горло сыт великолепными автострадами, обходящими все живописные арабские места, и поэтому мы оставляем главную магистраль и снова ползем черепашьим шагом через крошечные деревушки в сопровождении ватаг веселых ребятишек, с восторгом приветствующих пас. Громко сигналя, с трудом прокладываем путь сквозь стада овец, едем мимо кур, бродячих собак и упрямых ослов. Неподалеку от Мадаба, небольшого городка с православным населением, мы проезжаем знаменитую гору Небо, на которой, согласно Библии, умер Моисей после того, как вывел из Египта еврейские племена.
По дороге Ахмед еще раз воскрешает в моей памяти некоторые факты, касающиеся арабского царства набатеев. Их существование засвидетельствовано, во всяком случае, не позднее IV века до н. э., а может быть, и значительно раньше. Племена номадов при соприкосновении с окружающим их эллинистическо-римским миром, с которым они находились в конфронтации, проявили исключительные способности к восприятию и переработке их культурных достижений. От арамейцев они перепили письменность, приспособив ее к своей фонетической системе, и на ее основе создали письмо, которое считается прототипом современного арабского письма. В северной части «дороги благовоний», и окруженной отвесными скалами труднодоступной котловине набатеи основали свою столицу и оттуда постепенно расширяли сферу влияния. В последнем столетии до пашей эры им Удалось покорить даже Дамаск и присоединить его к своему царству. Римляне, пытавшиеся присоединить царство набатеев к провинции Сирия, вначале потерпели крах. Но скоро набатеи поняли, что для них целесообразно пойти на союз с римлянами, хотя при этом возникали некоторые трудности, поскольку издалека было нелегко сориентироваться в быстрой смене политического соотношения сил в Риме. Они, например, поддержали отрядами Юлия Цезаря при осаде Александрии, зато после его смерти помогали убийцам в борьбе против Второго триумвирата. Наконец они вновь примкнули к господствующей партии, уничтожив в Красном море флот Антония и Клеопатры и тем самым воспрепятствовав их намерению бежать в Индию. В I веке н. э. их царство представляло собой некую разновидность протектората, а затем при Траяне оно было полностью завоевано римлянами и превращено в римскую провинцию Аравию со столицей в Буере.