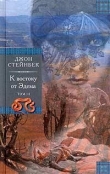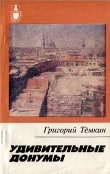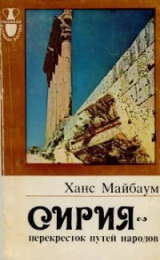
Текст книги "Сирия - перекресток путей народов"
Автор книги: Ханс Майбаум
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 21 страниц)
Приглашает царь
И снова прошли тысячелетия. Вероятно, в VII тысячелетии люди научились использовать металл, выплавлять из руды медь и обрабатывать ее. Почти в то же время возникло искусство обработки глины – керамика; обожженные глиняные сосуды вытеснили каменные, деревянные и кожаные.
С ростом эффективности труда человек мог уже производить больше, чем ему было необходимо для личного потребления. Возникло разделение труда, и появилась возможность жить за счет эксплуатации рабочей силы других. В результате этой эволюции в VI тысячелетии существовавший ранее общественный порядок, основывавшийся на правилах совместной жизни равноправных членов племени, постепенно сменился другим – образовались классы. Все более прогрессирующее общественное разделение труда привело к развитию самостоятельных ремесел. На месте первых станов возникли поселения, потом города, распространившие свое влияние на большие территории. Особенно успешно этот процесс проходил в долинах крупных рек, таких, например, как Евфрат, Тигр и Нил, где уже в VI тысячелетии плодородие земель было значительно повышено с помощью хитроумной системы каналов. Такие значительные строительные мероприятия требовали строгой системы организации труда, которую можно было осуществить только посредством сильной центральной власти.
В конце IV тысячелетия развитие классового общества завершилось образованием государства. Слава шумерских городов-государств, таких, как Урук, Ур, Лагаш в Южной Месопотамии, ставших носителями самой передовой культуры своего времени, дошла до наших дней. Шумеры создали одно из величайших достижений человеческого гения: на рубеже IV и III тысячелетий им удалось передать человеческую речь с помощью знаков и, таким образом, создать систему письма. Но и оно не было результатом внезапного вдохновения. Развитию письма предшествовал длительный процесс, начавшийся с изображения предметов и затем через этап развития письма, при котором вместо рисунков предметов конкретные понятия выражались посредством ряда знаков-символов этих предметов, приведший наконец к определенной ступени, когда знак уже больше не был связан с конкретными предметами и тем самым мог применяться и для обозначения абстрактных понятий.
Наряду с шумерскими культурами на юге Двуречья в III тысячелетии на севере развились города-государства аккадцев, говоривших на восточносемитском языке. В Ниневии, Ашшуре и Мари возникли цветущие государства, занимавшие во второй половине III тысячелетия обширные территории. К этому времени (примерно 2300 год до н. э.) появились первые значительные личности, имена которых донесла до нас история. Одному аккадскому военачальнику низкого происхождения (по легенде его еще грудным младенцем мать положила в корзину и пустила по реке, а нашел его некий водонос и воспитал) удалось с помощью войска захватить власть и создать первое по-настоящему великое царство Востока. Он взял себе имя Шаррумкен, что означает ни мало ни много как «истинный царь» (это имя, которое впоследствии носили также два ассирийских царя, нам лучше всего известно в его древнееврейской передаче в Библии как Саргон) Шаррумкен подчинил шумеров и продвинулся, как говорится в сообщениях того времени, «до кедрового леса и серебряных гор» – определение, под которым нетрудно угадать Ливанские горы и горы Тавра. При Шаррумкене Аккад был заново отстроен как царский город. Вскоре его царство простиралось от Верхнего моря (Средиземного) до Нижнего (Персидского залива). Во всех больших городах царства возникали грандиозные строения из кирпича, который сначала сушили на солнце, а потом обжигали в печах. Вся центральная часть страны между Евфратом и Тигром была усеяна многоэтажными ступенчатыми башнями – зиккуратами, по которым боги должны были спускаться к верующим.
Западносемитским кочевым племенам, на которых распространяется общее понятие «амориты», примерно в 2000 году до н. э. удалось наконец распространить свою власть на большую часть территории Сирии и Ирака. Хаммурапи правил в 1792–1750 годах огромным государством из Вавилона. Он нападал на своих союзников, которые помогали ему сломить сопротивление аккадцев и шумеров, и уничтожал их, среди них были и цари государства Мари. Однако ему не удалось распространить свое господство на побережье Средиземного моря, в то время уже контролируемое фараонами. Но наибольшую славу принесла ему кодификация существующего права. Хотя уже до него другие цари составляли своды законов, его труд является самым всеобъемлющим в древнюю эпоху, и он был первым, кто облек это мероприятие в такую выразительную форму. Он приказал высечь на большом обелиске 282 параграфа. В конце текста он призывает свой народ: «Пусть он заставит прочесть мной написанный памятник, и пусть он услышит мои драгоценные слова, а мой памятник пусть покажет ему его дело. Пусть он увидит свое решение, пусть успокоит свое сердце пусть сильно скажет: Хаммурапи, владыка, который для людей как родной отец… справедливо управлял страной!
Зиккурат Ура
К наиболее важным поселениям этого раннего периода человеческой истории относятся Библ на ливанском и Угарит – на сирийском побережье Средиземного мор а также Мари в сирийской части Евфрата. Так как оба средиземноморских города играют в истории Финикии очень большую роль, мы перенесем посещение этих мест в следующую главу, а сейчас обратимся к Мари.
Этот город долго оставался вне поля зрения археологов. Раскопки шумерских и аккадских городов вызвал широкий интерес, а в обнаруженных там материалах снова и снова упоминались царство Мари и его роскошная столица. Во время раскопок в Вавилоне была найдена даже статуя Пузур-Иштар, царя Мари. (Голова этой статуи находится в настоящее время в Переднеазиатском музее Берлина.) Обнаруженные в Ниппуре глиняные таблички характеризуют Мари как важный экономический и политический центр. Заметки, относящиеся к более позднему времени, указывают, что в конце III тысячелетия Мари достигло небывалого расцвета. Во многих местах были найдены восторженные сообщения путешественников, посетивших Мари и прославлявших красоту города, жизнерадостность его жителей и образцовый порядок в стране. Так, царь Угарита послал своего сына в Мари, и он тоже подтвердил, что даже самые красочные описания бледнеют перед действительностью. Понятно, что такого рода сообщения лишили археологов сна; им было известно только, что город должен находиться где-то на половине пути между Вавилонией и Средиземным морем. Первые попытки обнаружить город окончились неудачей. И тут помог случай – отец многих открытий, Шел 1933 год. В это время Сирия была подмандатной территорией Франции. В Абу-Кемале, небольшом местечке на границе Сирии с Ираком, изнывал от скуки начальник французского военного поста лейтенант Кабанэ. Он проклинал судьбу, забросившую его в это забытое богом место на краю Сирийской пустыни. Население оседлое, и ему трудно в песках найти и защищать то, что его правительство именует «французскими интересами и привилегиями». Внезапно с деревенской улицы до него донесся шум, вырвавший его из раздумий. Лейтенант Кабанэ быстро пристегивает ремень. Взволнованно жестикулируя, и комендатуру проталкиваются арабы. Все говорят одновременно, но он не понимает ни слова. Тогда те начинают кричать в надежде, что так их лучше поймут. Наконец лейтенант разобрал: это жители соседней деревни Телль-Харир, которые хотят ему сказать, что они похоронили одного деревенского жителя… К черту, думает лейтенант, У меня с живыми достаточно неприятностей, какое мне дело до мертвых! Нет, месье лейтенант опять неправильно понял. Не о мертвом речь. Дело в том, что при захоронении мертвого нашли другого мертвеца – из камня!
Лейтенант Кабанэ насторожился. Ему, как и многим европейцам, пришлось долгое время жить на Востоке. Естественно, он не ушел от чар, исходящих от древней истории, следы которой встречаешь буквально на каждом шагу. Он открыл в себе любовь к археологии. Эта привязанность вынудила его оставить мысли о неблагодарности судьбы, схватиться за фуражку и идти с арабами к могиле. Там, в 11 километрах от Абу-Кемаля, он убеждается: во время похорон арабы натолкнулись на древнюю статую из камня. Она представляет собой человека, одетого в длинную юбку, украшенную богатой, равномерно расположенной, тонко сбегающей вниз бахромой. Лейтенант приказал аккуратно откопать фигуру, сам счистил с нее землю – поступок, воспринятый стоящими вокруг жителями деревин с большой неприязнью, так как он казался им не подобающим для лейтенанта, – и унес к себе. Там Кабанэ ставит фигуру на стол и под ее внимательным, смущающим взглядом пишет длинный, подробный рапорт начальству по службе обо всем случившемся.
И теперь происходит… Нет, сначала решительно ничего не происходит! Нетерпеливый лейтенант, преисполненный надежды, что каменная фигура избавит его от повседневной скуки, чувствует себя разочарованным. Проходят месяцы, жизнь продолжается, как будто бы ничего и не было. Он снова пишет рапорты, такие же, как и прежде: о размолвках среди деревенских жителей; о встречах с представителями английской администрации, которым поручена «защита британских интересов и привилегий» в соседнем Ираке, по другую сторону границы; о бедуинах, которые, как и тысячи лет назад, кочуют от одного пастбища к другому, нимало не заботясь о решениях конференции в Сан-Ремо, определившей границы подмандатной территории; о подозрительных лицах, появляющихся ночью и натравливающих население против Франции, а затем снова исчезающих, прежде чем их можно схватить, и доставляющих лейтенанту одни неприятности.
И вдруг, когда лейтенант почти уже забыл о летнем открытии и его надежды давно превратились в прах, он получает бумагу, скрепленную печатью, и с волнением читает, что на пути в Абу-Кемаль находится экспедиция известных ученых, чтобы начать раскопки в Телль-Харире. Он едва осознает это. Возглавляет группу профессор Андрэ Парро, один из известнейших археологов и ориенталистов. И причиной всему его рапорт!
Уже в декабре прибывает исследовательская группа. Ей не терпится осмотреть холм, и лейтенант Кабанэ горд, что может их сопровождать. У профессора Парро прямо камень с души свалился: место почти нетронуто. Нетерпеливому любителю-археологу Кабанэ поставили в заслугу, что он устоял перед искушением копать на свой страх и риск; по незнанию он мог причинить много вреда.
Археологи взялись за работу. Но вместо того чтобы копать, чертят, рисуют и фотографируют, высчитывают и вымеривают. И только 23 января 1934 года профессор Парро в первый раз вонзает лопату в грунт.
Это был звездный час археологической науки.
История археологии знает немало предприятий, проводившихся в исключительно трудных климатических и прочих условиях, когда успех приходил много позднее, а иногда и вовсе не приходил, когда приходилось преодолевать болезни и попадать в опасные для жизни ситуации. Она имеет своих героев, отдавших ей жизнь или принесших ей жертву, чтобы открыть человечеству путь в его прошлое. Едва ли существует какое-либо другое археологическое предприятие, которое привело бы к такому успеху, да еще так быстро, как раскопки Мари.
Несколько лопат, воткнутых, разумеется, не случайно, после тщательных расчетов (в археологии больше, чем где-либо, имеет значение выражение «известно где!»), – и исследовательская группа наталкивается на еще одну каменную фигуру. Длиннобородый мужчина, на нем одежда из косматой шкуры, оставляющая правое плечо открытым, представляется сам. Его визитная карточка нацарапана на открытом плече клинописью. И, затаив дыхание, профессор Парро расшифровывает: «Ламги-Мари я… царь Мари… Великий жрец-правитель бога Энлиля, который посвящает свою статую Иштар».
Ламги-Мари, давно известный по древним текстам властитель, соглашается лично открыть онемевшим от удивления ученым дорогу в свое царство почти через четыре тысячи лет. Великолепие, которое он им покажет, превзойдет все ожидания.
За несколько периодов раскопок – летом они прерывались из-за убийственной жары, потом их приостановила вторая мировая война – исследовательская группа осваивает холм площадью в 80 гектаров. Один только царский дворец, гордость династии, занимает 2,5 гектара. В ходе работ откопано более 300 помещений и дворов: покои властителя и его чиновников, храмовые дворы, рабочие помещения для писцов и ремесленников. Все здания города были построены из глиняного кирпича. Здесь тоже в центре города возвышается зиккурат, который, как уже упоминалось, призван склонить богов спуститься с неба и принести жителям счастье, здоровье и богатство. Были откопаны даже школьные помещения.
Профессор Парро сообщает о своих впечатлениях: «Оборудование кухонных и купальных помещений может использоваться и сейчас, четыре тысячи лет спустя после гибели города, не требуя ремонта».
Самое важное для ученых богатство таят огромные архивные и библиотечные помещения. Уже во время первого периода раскопок археологи обнаружили 1600 табличек с клинописным текстом – число, возросшее в процессе последующих раскопок до 23 600. Понадобились колонны грузовиков, чтобы вывезти находки. Таблички рассказывают о жизни и деятельности при дворе и в жилых кварталах столицы. Одни содержат литургические правила, другие – указания царя чиновникам, третьи – отчеты о строительстве каналов, списки около двух тысяч ремесленников, указания надсмотрщикам, поручения архитекторам, расчеты с торговцами. Был найден весь архив государственного аппарата. Работа, которой хватит До конца жизни многим ученым, способным разгадать тайну табличек, перенесена в Париж. Их расшифровка откроет нам мир прошлого.
Государство Мари создали западносемитские племена. Известно, что примерно к 3000 году до н. э. город был уже населен и вырос в значительный центр. Он вел оживленную торговлю с многими странами; его богатство вызывало зависть и восторг других государств. Город много раз разрушался, между прочим и царем Шаррумкеном, и отстраивался заново. На рубеже III и II тысячелетий, когда в начале правления династии аморитов город окончательно смог освободиться от господства шумеров, он достиг расцвета. Затем, на 33-м году правления Хаммурапи, он был завоеван и после восстания горожан в ответ на жестокости отряда вавилонских захватчиков так сильно разрушен, что вообще исчез из истории.
При раскопках наряду с глиняными табличками было обнаружено много статуй. На основе соглашения с сирийскими властями их поделили: половина была отправлена в Лувр, половина осталась в стране, сначала в Алеппо (Халеб), позднее в Дамаске. За статуей Ламги-Мари, почитавшего Иштар, последовали бюсты других властителей, облаченных также в лохматые шкуры. Вскоре появилась и собственной персоной сама богиня. Она пришла к нам из 1800 года до н. э. и сегодня является главным объектом внимания современного, хорошо оборудованного и богато оснащенного музея в Алеппо: Иштар, богиня плодородия. Ее статуя почти в человеческий рост – 1,42 метра – вырублена из белого известняка. В руках она держит слегка наклоненную вперед вазу, из которой с помощью очень хитрого механизма, вмонтированного внутри статуи, ключом била вода. Сильно облегающее платье оставляет открытыми ее босые ноги. На обнаженных руках – браслеты. Шею украшает тяжелое, в шесть рядов, жемчужное ожерелье. Украшение из рога на голове статуи свидетельствует о том, что это – божество. Богиня улыбается. Первоначально она была выкрашена в яркие тона, что, по-видимому, усиливало ее привлекательность. В волосах остались следы красной краски.
От этой скульптуры, так же как и от других найденных в Мари скульптур, исходит своеобразная прелесть. Они сильно отличаются от шумерских, в облике которых, как известно, проглядывает строгость.
Среди особенно ценных находок, помещенных в музее Алеппо, есть большой бронзовый лев. Бронза в странах Двуречья была уже известна примерно в 4000 году до н. э., то есть приблизительно на 2500 лет раньше, чем в Центральной Европе. Этот лев – интересный пример использования бронзы в древнем изобразительном искусстве.
Помимо статуй ученые извлекли на поверхность фрески, краска которых удивительно хорошо сохранилась, а также раскрашенные терракотовые сосуды, изделия из перламутра и золота, ожерелья, браслеты, драгоценные камни, печати и много сосудов из глины, некоторые из них 1,5 метра высотой. Были найдены даже две модели жилых домов, выполненные из глины, – вероятно, эскизные проекты архитекторов для их заказчиков: восемь комнат равномерно размещены вокруг четырехугольного внутреннего двора, окруженного стеной.
Прежде чем расстаться с Мари и его сокровищами, следует упомянуть еще об одной небольшой скульптурной группе. Она, как мне кажется, совсем несправедливо стоит на заднем плане одной из витрин Алеппского музея. Правда, у обеих изображенных здесь фигурок отсутствуют головы. Наверное, какой-нибудь солдат из войска Хаммурапи отбил их. Может быть, он увидел в статуэтке что-то предосудительное, так как, несомненно, она изображает любовную пару – мужчину и женщину, сидящих, тесно прижавшись друг к другу. Он обнимает свою подругу, как бы защищая ее, она протягивает ему, видимо с некоторой нерешительностью, руку. Эта скульптура свидетельствует о том, что и четыре тысячи лег назад людям были свойственны те же чувства радости и боли, что испытываем мы сейчас.
По предметам изобразительного искусства, по содержанию глиняных табличек можно судить о том, что труд крестьян, ремесленников и торговцев, а также труд певцов и музыкантов пользовался огромным уважением. Должно быть, очень жизнерадостный народ жил в этом высокоорганизованном государстве в период его расцвета. Ни один художник не счел необходимым изваять статую воина, и клинописные знаки ничего не сообщают о завоевательных походах против других народов. Но нередко говорится о том, что жители Мари стремились предотвратить нападения грабителей, среди которых часто упоминаются бени йамин (веньямин). Это открытие вызывает большой интерес, так как название этого народа встречается в Ветхом завете в связи с Авраамом, родоначальником еврейского народа. Многие расценивают упоминание бениаминитов писцами Мари как доказательство того, что приблизительно в это время племена евреев появились в Северной Месопотамии и через государство Мари двинулись на юг, где мы их еще встретим.
Тот, кто познакомился с историей открытия Мари, прочел сообщения профессора Парро, будет с бьющимся сердцем ждать встречи с этим древним городом-государством.
Дорога от Дамаска до Мари по суше долгая: нужно проехать 800 километров по петляющему, переполненному транспортом шоссе. Друзья советуют мне лететь самолетом сирийской пассажирской авиакомпании до Дейр-эз-Зора, и я следую их совету. Дряхлый, дребезжащий ДС-3 поднимается в воздух с дамасского аэродрома. Я сижу с пятью другими пассажирами на деревянной скамье, установленной вдоль фюзеляжа. Нас несколько раз крепко швырнуло. Сквозь небольшие окошки самолета я вижу не слишком много и, раздосадованный, иду в носовую часть. По-видимому, я внушаю пилоту, единственному члену экипажа, доверие, так как, поняв мой интерес, он любезно освобождает мне пустое кресло помощника пилота. Теперь я могу от души фотографировать. Когда я среди песков увидел каменные степы и, сравнив по карте, удостоверился, что это арабский замок Эль-Гарби в пустыне Каср-аль-Хейр, пилот из симпатии ко мне опустил ДС-3 на несколько сот метров. Над Пальмирой (современный Тадмор), легендарным городом царицы Зенобии, он даже сделал круг.
Полет над пустыней длится еще добрых полчаса, прежде чем мы прибываем в Дейр-эз-Зор. Пилот приземляется на скромном аэродроме города. Я хотел взять такси до Мари, но мне не сразу удалось это: водитель, к которому я обратился, отмахнулся, как только я назвал место, куда нужно ехать. Поехав в Мари, я наверняка разочаруюсь, говорит он. Там нечего смотреть. 130 километров туда, 130 – обратно, да еще по такой жаре. Его брат – владелец хорошего рыбного ресторана, не лучше ли мне… Но я не хочу в ресторан, я хочу в Мари. Водитель пожимает плечами и запрашивает цену, во много раз превышающую положенную, и наконец садится за баранку. Машина везет нас по очень хорошему шоссе по направлению к Багдаду. По обеим сторонам дороги раскинулась широкая равнина.
Скучный, однообразный ландшафт. Наконец, оставив позади 130 километров, мы увидели табличку: «В Мари». Через несколько сот метров после поворота подъезжаем к крестьянскому дому, откуда выходит мужчина и машет мне блокнотом. Теперь не остается никаких сомнений: я прибыл в нужное место. Служащий администрации музея получает деньги за вход. Преисполненный надежд, я выхожу из машины. Всякий раз испытываешь волнение, когда приближаешься к месту, в котором люди тысячи лет назад жили, работали, создавая культурные ценности. Через несколько шагов экскурсовод останавливает меня и сообщает, что я стою на зиккурате. Я не вижу даже следа ступенек. Песчаный холм – и ничего больше. Только зал с его внушительной двадцатишестиметровой длиной да множество проходов, дворов, стена, достигающая в некоторых местах 5 метров высоты. Можно увидеть огромные, почти в человеческий рост, и очень широкие в диаметре глиняные кувшины, которые служили, вероятно, для хранения запасов продовольствия. Вся территория усеяна черепками, я мог бы загрузить весь багажник «настоящими глиняными черепками из Мари». Остальное разрушено эрозией.
То, что пережило под защитой масс земли четыре тысячи лет, не выдержало и тридцати лет после окончания раскопок. Все столбы, опорные балки, колонны, статуи давно вывезены и вызывают удивление и восторги в больших, оснащенных кондиционерами залах музеев. А что осталось, развеет ветер.
БЛЕСК ФИНИКИИ
На пути в Бейрут
В архиве Мари находился также архив царского ведомства внешней торговли. Многочисленные отчеты о ввозе и вывозе свидетельствуют о тесных торговых отношениях с некоторыми царствами на восточном побережье Средиземного моря, объединенными сегодня под названием, которым пользовались греки, – Финикия, хотя ни в какой период истории они не составляли единого государства. Эти «государства», границы которых чаще всего совпадали с городскими стенами столицы, были в свое время центрами мировой торговли. Сюда сходились караванные пути многих направлений. Самыми важными были маршруты, проходившие от Персидского залива, конечного пункта морского пути из Индии, через Вавилон, Пальмиру и Дамаск к Средиземному морю, и дорога благовоний, по которой кроме прочих ценностей переправлялись всевозможные пряности с юга Аравийского полуострова за две тысячи километров. Предметы производства большинства известных в то время стран сбывались в финикийских городах-государствах: золото из Нубии, серебро с гор Тавра, медь с Синая, пряности и слоновая кость из Индии, глазированные вазы с Крита, стекло и керамика, парча и полотно из Дамаска. Здесь можно было купить мази, притирания и масла, а также красящие и косметические вещества для нужд придворных дам. Особенно большим спросом пользовалась синяя ляпис-лазурь, так как голубые веки тогда – четыре тысячи лет назад – были в большой моде.
Но финикийские государства были не только важными торговыми центрами, но и центрами высокоразвитых ремесел. Финикийцы славились искусством обработки дерева и техникой судостроения, что сделало их достойными партнерами в торговле. Кедровый лес Ливанских гор был желанным товаром для многих стран. Финикийские столяры принимали участие в строительстве храмов в Вавилоне, Фивах и Иерусалиме; суда, построенные на финикийских верфях, очень охотно покупали фараоны. А когда хетты научились получать железо и сталь и наступил новый век, финикийцы были первыми, кто освоил метод плавки и закалки.
Но ни один из дошедших до наших дней продуктов производства не пользовался такой славой, как красящее вещество пурпур. Его добывали из особой разновидности моллюсков, обитавших на дне Средиземного моря. Сначала извлекали их из раковин, а затем толкли в бочках. Кашицеобразную массу поливали водой и нагревали. Подлежащую окраске ткань опускали в горячий раствор и сушили на солнце. Во время сушки на ткани появлялась краска. Еще и сейчас на месте античных красилен возвышаются метровые холмы из ракушек моллюсков. Сложный процесс производства сделал пурпурные ткани очень дорогими, приобретать их могли лишь состоятельные люди, и пурпур в течение тысячелетий оставался символом высокого общественного положения.
Исторические источники не очень подробно сообщают о происхождении финикийцев, но известно, что около 3000 года ханаанские племена (часть волны западносемитских кочевых племен, вышедших, вероятно, из центральной части Аравийского полуострова) распространились по сирийской земле и осели на побережье Средиземного моря, смешавшись с уже живущими там народами, а позднее приняв и новых пришельцев. С возникновением классового общества они объединились в несколько городов-государств, расположившихся вдоль побережья. В обстановке постоянной угрозы вторжения со стороны Египта, алчущих наживы племен амореев, хеттов, хурритов, ассирийцев, арамейцев и, наконец, персов, они смогли все же обеспечить себе безбедное существование благодаря развитому сельскому и лесному хозяйству, а также ремеслам и торговле. Одновременно они создали культуру, которая, обогатившись культурными достижениями многих народов, пересекших это пространство, распространилась далеко по всему Ближнему Востоку и оставила человечеству непреходящие ценности.
Руины древних финикийских городов-государств расположены на современном сирийско-ливанском побережье так близко друг от друга, как нанизанные на шнурок жемчужины. Важнейшие из них с севера на юг – Угарит, Арвад, Амрит, Библ, Сидон и Тир. Исходным пунктом нашего путешествия по Финикии будет Бейрут, столица Ливанской Республики.
Магистраль Дамаск – Бейрут проходит по необычайно красивым местам, контрастно отличающимся друг от друга – зеленым долинам, каменистым пустыням, глубоким ущельям, плодородным плоскогорьям, высокогорным перевалам, покрытым в течение двух месяцев снегом. Завершается она крутым спуском к залитому солнцем берегу Средиземного моря.
Я еду на маршрутном такси, наиболее распространенном транспорте страны, где нет развитой железнодорожной сети. Цена за проезд сравнительно скромная, и водитель ждет, громко выкрикивая место назначения, пока не наберется достаточно пассажиров.
Апрель, солнце теплое, по среднеевропейским понятиям – великолепная летняя погода. Мне не приходится долго ждать. Через несколько минут в машину протискиваются со своими мужьями две укутанные в покрывала женщины, которых я бы сдержанно назвал статными. По местным масштабам машина теперь занята до пределов допустимого. Но следом втискивается молодой человек, очевидно студент, и, наконец, женщинам передают ребенка. Теперь, кажется, мы можем ехать, по водитель не торопится нажать на стартер. Он еще раз выходит из машины и исчезает в конторе по найму такси.
– Разве машина не полностью загружена? – глубоко обеспокоенный, спрашиваю я студента. Несколько недель назад я был свидетелем того, как к водителю такого же переполненного автомобиля подошел полицейский. По невежеству я думал, что он хочет сделать внушение по поводу перегруженности машины. Ничего подобного! Он протиснулся в машину – между водителем и левой передней дверью! Студент успокаивает меня. Такси заполнено достаточно, по дорога еще не свободна. Ночью в горах снова выпал снег, и поэтому перевалы через горы Антиливан и Ливан закрыты.
Нам ничего не остается делать, как набраться терпения. Я уже слышал, что связь между Дамаском и Бейрутом с декабря по апрель прерывалась иногда на несколько дней, а иногда и недель.
Однажды мой коллега выехал январским утром в Бейрут, чтобы купить кое-какие необходимые вещи для собравшейся рожать жены. Между тем новые снегопады накрыли перевалы, а сильные штормы сделали непроезжей ведущую на север береговую трассу, по которой можно обогнуть оба перевала. Когда через две недели оп наконец вернулся в Дамаск, то был уже отцом десятидневного мальчика.
Проходит час, второй. Вдруг в конторе зазвонил телефон: «La rue est libre!» («Дорога расчищена»). Можно отправляться.
Сначала путь лежит вдоль Барады. По берегам – зеленые деревья и кустарники. Приветливые рестораны так и манят остановиться. Яркое солнце гонит мысли о зиме и снеге. Машина пересекает предместья, которые, чем дальше мы удаляемся от Дамаска, тем больше приобретают деревенский вид. Табличка на обочине дороги подтверждает: «Bue libre» («Расчищенная дорога»). Водитель набирает скорость. Поразительно, что он способен выжать из дряхлого, дребезжащего форда.
Вскоре мы оставляем дорогу вдоль Барады, и сразу же растительность скудеет, а потом и вовсе исчезает. Начинается пустынная равнина – «Сахара-эд-Димас». Дорога, поднимаясь все выше, становится более извилистой. Время от времени навстречу нам попадаются большие стада коз и овец. Меня удивляет, как в этой, казалось бы, лишенной всякой растительности местности животные отыскивают себе какой-то корм. Часто по обеим сторонам дороги замечаю остатки древних караван-сараев, которые можно было бы назвать предшественниками современных кемпингов. За поворотом – покрытая снегом вершина Джебель-эш-Шейх, самой высокой горы в южной части Антиливана, достигающей 2814 метров над уровнем Средиземного моря и 3200 метров над уровнем Иорданской впадины. Издревле эту гору считают священной. Ханаанеи почитали ее как обитель всевышнего. Она неоднократно упоминается в Ветхом завете под названием Баал Хермон (Ермон). Римляне возводили на ее отрогах многочисленные культовые сооружения.
Все круче становятся скалы по сторонам шоссе. Вдруг – трудно поверить глазам своим – появляется первый снег, и сразу же нас окружает зимний ландшафт.
Через 40 километров подъезжаем к сирийскому пограничному пункту: длинная цепь автомобилей свидетельствует об интенсивном движении через границу. Бросается в глаза большое число грузовиков, многие ярко раскрашены и иллюминированы цветными лампочками. Старая астматическая узкоколейка, проложенная через горные цепи Антиливана и Ливана, абсолютно не приспособлена для транспортировки грузов, поэтому наиболее важные из них доставляются из Бейрутского порта в Дамаск машинами. Даже снабжение Иордании и ее столицы Аммана осуществляется таким же способом, так как в небольшую гавань Акаба, расположенную в самой северной точке Красного моря, из Европы можно попасть только кружным путем – через Суэцкий канал.