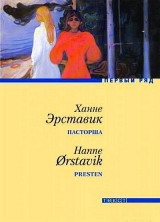
Текст книги "Пасторша"
Автор книги: Ханне Эрставик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Потом подали чай, кофе и нарезанные бисквиты, их принесла на блюде невысокая, полная, кривоногая женщина, она немного напоминала мать той девушки, я вспомнила их кухню с лампой дневного света на потолке, блики на стекле обращенного к фьорду окна, как она затеяла печь пироги. Эти бисквиты отчего-то смахивали на ее стряпню.
Атмосфера стала полегче, за столом говорили о футболе. Тюри устала и рано легла, она сказала, что беременна, но это пока не было заметно.
Я сперва встала у камина, вытянула к огню руки и смотрела, как он горит, языки вырывались как будто изнутри поленьев. А потом выскользнула в коридор, надела куртку, шапку, повязала шарф и шагнула в темноту, прошла вдоль ряда фонарей в снегу и очутилась здесь.
Над стойкой висел телевизор. Вдруг у меня перед глазами возник саамский кафтан, снятый крупным планом, потом синяя лопарская шапка, круглое лицо и подвижный бублик губ, казалось, человек поет йойки, но звука не было. А потом стали показывать процессию, которую я видела днем у реки. Картинка с того места, где заняла позицию женщина с камерой, и вправду получилась отменная, на экране все выглядело уж совсем пустынно. Это клип музыкальный, догадалась я. А я почему-то всегда считала, что их снимают месяцами. Оказывается, нет. Только днем я наблюдала съемку, и вот уже крутят, готово. Правда, клип казался не совсем профессиональным, никаких вычурных ракурсов, в основном оператор снимал с одного места прямо перед процессией, но, видимо, так и было задумано.
Я допила и заказала еще порцию, у девушки-барменши были светлые, почти белые волосы и такие же глаза.
– Возьмите, – сказала она и поставила передо мной стакан.
Я отпила приличный глоток и показала пальцем на экран у нее за спиной. Там как раз крупным планом снова был тот мужчина в лопарской шапке, он что-то говорил, он казался рассерженным, но слов не было слышно, все вокруг забивала громкая электронная музыка.
Я нагнулась к девушке и спросила, что это за коллектив показывают – не отсюда ли они и насколько хороши. Она смерила меня взглядом и покачала головой.
– Вы думаете, мы тут в саамскую самобытность играем? – спросила она.
– Извините, не поняла, – удивилась я.
– Это местные новости, – сказала она, взяла пульт, лежавший рядом с мойкой дальше у стены, и выключила телевизор. Экран погас. – Это репортаж о демонстрации. Но вам это, я вижу, ни к чему.
– Какой демонстрации? – спросила я.
– Против нового закона, – ответила она.
Я хоть и знала, о чем речь, но помалкивала, только слушала и кивала.
– Сейчас разрабатывается новый местный закон, и если он будет принят в предложенной редакции, то всё: рыба, морошка, вода, земля – станет всеобщим, у нас, несмотря на нашу историю, традиции и особенности региона, больше не будет преимущественного права на все это.
Ее речь звучала как заученный текст, как выдержки из заявления политической партии.
– Это станет окончательной колонизацией, полнейшим уничтожением нас. Мы ничем уже не будем отличаться, – сказала она.
Повернулась ко мне спиной и стала нервными движениями собирать стаканы. Она говорила с тем саамским акцентом, когда слова звучат предельно четко, обособленно, словно это не частицы норвежского языка, а стайка малых детей, которых надо водить за руку, или россыпь камушков, по которым можно выйти вон, наружу.
Я отвернулась от стойки со стаканом в руке, там оставалось всего на донышке, я задрала голову и втянула в себя все до капли.
Мы с ней были чуть не вдвоем в зале, эдакие космонавты в корабле, который вот сейчас оторвется от земли, повисит немного над взгорком, уйдет винтом в небо и исчезнет в космосе навсегда. Темный след на горке к утру занесет снегом, и никто никогда не узнает, что были такие люди, такое кафе, никто не хватится нас, не заметит отсутствия.
Возвращаясь в общежитие, я услышала позвякивание колокольчиков. Я шла, выпустив шарф поверх воротника куртки, чтоб укутать шею полностью, потому что дуло страшно. Овцы спускаются с гор, подумала я, их гонят домой. И колокольчики тяжело болтаются на шеях и глухо, в такт, звякают, заглушаемые снегом и ветром. Звук приблизился. И какой-то оранжевый отсвет. Я оглянулась. Это шла снегоуборочная машина с цепями на колесах. Когда она проезжала мимо, звук оглушил.
Потом я залезла в кровать, лежала и ловила голоса, шелестевшие в голове, хотя, может, это ветер выл. Потом я как будто ехала, мелькнула одна береза, вторая, третья, тонкие прямые стволы в липком мокром снегу, бело-сером, грязном. Полотно дороги затягивалось под колеса. Я клевала носом, но вдруг поняла, что улыбаюсь. Было такое чувство, словно я въехала в тайну, в сокровенное место. Как будто перевалила вершину и впереди на сколько хватает глаз раскинулась долина, широкая, ничем не стесненная, открытая, пожалуйста, спускайся и езжай себе дальше. Что это со мной? – спросила я себя. Непонятно. Не было ни причины, ни объяснения моему состоянию, но теплое чувство в груди не исчезало, сгусток счастья и радости теплился где-то внутри меня.
Я осторожно поднималась против течения, оплывая крону высокого дерева, раскинувшегося под водой. Огромного дерева, такого, как в Германии, я там и была, в Германии, и как раз пробивалась наверх, к свету и воздуху, когда разлепила глаза и увидела комнату, жидкий утренний свет из окна и услышала трель мобильного телефона, он и разбудил меня своим звонком.
Я включила ночник, нашарила в сумке телефон, я забыла его выключить, вообще напрочь о нем забыла. «Алло», – сказала я. Звонила Нанна.
– Майя, – сказала она, потом еще раз: – Майя. – Потом она замолчала, и я услышала, как она втягивает воздух, так глубоко, как будто ей совсем нечем дышать, а весь воздух вышел из нее со словом «Майя».
– Мне приехать? – спросила я.
– Да, – пролепетала Нанна. – Приезжай, если сможешь. Майя порезала себя. Тут всё в крови. Дочка моя.
– Дома? – спросила я.
– В поселке, – ответила Нанна. – Вертолет уже выслали.
– Я еду, – сказала я. – Уже выезжаю. Мобильный со мной, если что, звони. Пожалуйста, звони.
– Да, – сказала Нанна.
– А руки у нее такие маленькие и ледяные, я перебинтовала их, а кровь все равно течет, – говорила Нанна. – Я не могу остановить кровь.
Мне было слышно, как она хватает ртом воздух, как ее трясет будто от холода, и у нее клацают зубы.
– Я не могу остановить кровь, – снова сказала она. – Не могу. Не останавливается.
Я ходила по комнате, собирая вещи и запихивая их в рюкзак, трубку я прижимала плечом к уху.
– Да, – вставляла я изредка, – да.
– Прилетели, – сказала Нанна.
Наверно, увидела вертолет, подумала я и тут же услышала его сама и представила темноту, домик у воды, круг света, очерченный вокруг вертолета, свет прожектора, упавший на волны, всплуженный снег, треск, хлопки, кто-то выпрыгивает из кабины и бежит, пригнувшись, к дому с носилками в руках, я увидела это в одну секунду.
Разговор прервался. Нанна отключила телефон.
Оставив ключ в двери, я с рюкзаком спустилась к машине, был четвертый час утра. До города езды пять часов и еще час до поселка. Я бросила рюкзак на заднее сиденье. Как я ни торопилась, все шло еле-еле, не давалось мне, выскальзывало из рук; я судорожно сжала ключи от машины – еще упадут в сугроб, открыла дверь, уселась, включила печку, сдала назад, оглянулась на парковку: машины завалены снегом, безмолвно горит фонарь – и можно подумать, что никого нет, что я уезжаю самая последняя.
Я выбралась на дорогу, совершенно пустую, миновала церковь и поехала между стоящими вдоль дороги домами, в каждом горела лампа у входной двери, к которой вела короткая лестница. Перед домами стояли машины, скутеры, тракторы.
Я выехала из деревни на пригорок, позади меня осталась пунктирная линия света, выстроенная фонарями, в зеркале она казалась волнистой лентой, впереди было видно узкую полосу дальнего света, и я смотрела перед собой и давила на газ, печку я включила на максимум.
Я пыталась разобраться в своих мыслях. Но не могла навести их на резкость. Мне представлялась Майя, лежащая в крови, комната была совершенно белая, точно стерильная дезинфекционная в режущем ярком свете, зато на полу и стенах красная кровь. Но увидеть Майю не получалось, только Кристиану, только тело в тумане, как оно лежит на боку на прелых листьях, лежит в неестественно неудобной позе, я не видела этого своими глазами, слышала от дочери, но картина стояла перед глазами ясно и отчетливо. Вот маленькая сильная рука приставляет пистолет к виску и нажимает на курок.
И эта белая дорога, она словно бы пыталась мне что-то рассказать, но так быстро, что я не успевала понять. Все исчезало под колесами. Казалось, заснеженное полотно тянется ко мне, объясняет, кричит, а я не слышу.
Зачем ей столько флейт? Так спросил кто-то в машине в моем сне, он мне снился, когда позвонила Нанна, и он был продолжением ненастья за окном. Мы ехали в этой же моей машине тем же маршрутом, и кто-то из нас выглянул в окно и увидел на другой стороне, под горой, россыпь маленьких блестящих флейт. И спросил: зачем ей было столько? И я сразу поняла, что флейты Кристианины, хотя видела у нее только одну. Почему они лежали там, что делали?
Можно было подумать, у меня на плечах не голова, а тонкая плоская пластинка, в нее ничего нельзя вместить, и мысли похожи на бороздки на виниловом диске, на картинки на экране, и каждый раз, как я моргаю, изображение на экране меняется.
По обеим сторонам дороги белый простор, я заглянула в него с вершины горы, когда дальний свет высветлил все далеко вперед. Теперь я еду и всматриваюсь в белизну, и мне чудится, будто фары – это прожекторы, проливающие свет на историю, на то, что прошло, вмерзло в снег и тихо лежит, никем не тревожимое. Вот бы все это разморозить, и оживить, и свести в одном времени Кристиану, и Майю, и бунт.
Чтобы все это было теперь.
И они ехали бы сюда по снегу на санях, с факелами. Или они двигались в темноте, в полной тишине, только наст скрипел под полозьями? А может, на впряженных в сани животных гремели колокольчики? Люди пели, перекрикивались, делали привалы, наверно. Были ли с ними дети? И каково это – быть одним из тех бунтарей?
А быть здесь и сейчас – это каково, спросила я себя. Я не знала. А того, кому я задала вопрос, нигде не было, но это не страшило, а принималось как данность. Как тихая пустота. Безлюдная, но не обезлюдевшая. Как и эта поездка через снег и тьму к Майе, вокруг которой все эти трубки, маски, приборы, люди, свет, шум.
И между тобой и другим всегда остается зазор, провал. Вот я веду машину, гоню изо всех сил. Но этим ничему не поможешь. Майя. Домик этот у моря, куда она забралась, ветер за стенами дома, море, водоросли. Нанна с телефонной трубкой на одном конце, а я со своей – на другом, мы не пробились друг к другу, не осилили последний отрезок, пустота встала между нами. Точно мы изо всех сил бежали навстречу друг дружке в этой темноте, но опоздали к сроку. И все равно нам остается только бежать дальше, бежать и бежать. Ехать дальше, вписываться в повороты, переключать передачи, дышать. Искаженное лицо кричащей на меня Кристианы. Нет, она так никогда себя не вела. Это я орала. А она была спокойна. Улыбалась уголком рта, сначала даже смеялась, а потом стояла спокойно, кажется отвернувшись вполоборота, лицо безо всякого выражения, будто ей скучно, как будто все, что я говорю, она пропускает мимо ушей. Наверно, я поэтому сорвалась на крик? От отчаяния, что я ничего для нее не значу. И вообще все ей безразличны, все. Я так и сказала, кажется.
Дорога пошла вверх перед спуском к мосту через реку, я останавливалась там попить кофе по дороге туда. Я съехала с дороги в расчищенный карман, выключила мотор, посмотрела на часы – семь утра. Вылезла из машины. Ноги затекли и дрожали. До устья реки были еще десятки километров, все время вверх-вниз, я видела это с того места, где стояла. Начинало светать, у воды наметилась розовая полоска, река, размашистая долина, горы – все как будто сошлось воедино в заветной точке.
Я поприседала, подняла руки над головой, опустила, потрясла ими. Нанна больше не звонила. Позвонить самой? Да, мне хочется поговорить с ней, решила я и нагнулась в машину, достать с пассажирского сиденья телефон. Морозило, холод пробирал, но я стояла рядом с машиной и набирала номер. Нанна не отвечала, включила автоответчик.
И вдруг все расползлось. Связи разорвались, связность исчезла. Как будто я ехала в город на ощупь, вдоль натянутой веревки, и вдруг она провисла и кончилась. Как березка в горах на болоте, ты хватаешься за нее в поисках опоры, а оказывается, что опереться о нее нельзя, причем она не ломается, но гнется, стелется. Или наст под ногами вдруг оказывается талым, и проваливаешься глубоко.
Заветная точка впереди, та, в которой все сошлось, растворилась в свете, залившем постепенно все, и потерялась.
Я снова села за руль и поехала вниз, к мосту, на площадке перед кафе никого не было, я двинулась дальше, выехала на мост и поехала на бетонный столб на той стороне, он надвигался на меня огромный, непробиваемый, прямо по курсу. Наконец я свернула направо. Поднялась по серпантину, потом еще немного вверх, и вот появился длинный прямой спуск и ровная дорога, она шла дальше, в Финляндию, а я свернула в сторону от реки, налево и вверх мимо невысоких коричневых летних домиков. Здесь тоже не было ни души, только рыскал пес. Я смотрела вперед, осталось уже недолго – через гору, а там уже фьорд видно, значит, почти доехала, считай.
Я ехала вдоль фьорда – в глубь бухты, потом назад к мысу – и чувствовала каждую эту петлю, зигзаг дороги – от водорослей на берегу до травы, проглядывающей из-под снега у края асфальта, – как череду взлетов и падений, чувствовала физически, телесно, как вес, напряжение, притяжение. Как будто повороты накручивались внутри меня, вкручивались в нутро.
Сначала показалась церковь на мысе. Потом и серый дом тоже. Я проехала мимо.
Кристиана улыбнулась мне:
– Везет тебе.
Мы сидели на матрасах в стеклянной веранде, поздно вечером, пили вино. Она только что отыграла спектакль, пришло много зрителей, милая вещица, но слишком, подумалось мне, легковесная. Нет, красивая, интеллигентная, зрелищная, но неглубокая. Как будто бы избегающая говорить о трудном, о важном, обходящая все острые углы, поверхностная в общем, но в тот момент я этого еще не поняла, хотя меня мучило это ощущение и я не знала, как сказать ей об этом. Она, должно быть, почувствовала, что я что-то недоговариваю.
– Везет тебе, Лив.
Я опешила от таких слов. Плохого в них ничего не было, наоборот, но прозвучали они недобро. Я так поняла их, как слова с недобрым намеком, хотя не знаю почему. К тому же они были неправдой, как она могла сказать, что мне везет? Я же ей все про себя выложила – свои мучения, сомнения, и с учебой, с диссертацией, все, чем я жила, да всю себя я ей открыла, а она вдруг списала все это со счетов тремя словами – что мне везет. И все, что творится у меня в душе, оказалось несущественным. Ерундой, которую не стоит принимать во внимание.
Я смотрела на нее, на ее улыбку и не могла понять, почему она так брезгует мной. Отталкивает от себя. Я же останусь совершенно одна.
Разве что-нибудь само шло мне в руки? Везучая?! Значит, мне надо еще и благодарить кого-то. За что?
Но даже теперь, год спустя, я не понимаю, отчего меня так больно задел именно этот упрек, что мне везет. Кристиана наступила мне на больную мозоль, но на какую?
Я припарковала машину перед пасторским домом. Он казался чужим. Я не вылезала из машины, сидела, по улице уже шли люди, ученики спешили в школу по соседству. Меня знобило, несмотря на тепло в машине, и я не знала, куда податься: войти в дом или поехать в поселок, или в больницу, или в церковь. Я опять набрала номер Нанны, но попала снова на автоответчик.
Я взглянула на дом, занавески в комнате Майи были задернуты, и, хотя на улице было светло, я различала красный круг за занавесками – в комнате горел свет.
Наверно, лучше ехать в больницу, подумала я, но отчего-то пошла к дому. Дуло так, как будто ветер нарочно обдувал подъем к дому. Перед дверью лед, видно, снег подтаял, и его снова прихватило морозом.
Дверь не была заперта, я вошла и только стала подниматься к себе, как открылась дверь у Нанны. Выглянула Лиллен. Она стояла в ночной рубашке, светлые волосенки падали на лицо, а на макушке топорщились колтуном.
– Привет, – сказала я.
О Лиллен я не подумала. Она молчала.
– Мама дома? – спросила я.
Девочка покачала головой.
– А ты с кем? – спросила я.
Она не ответила. Мы помолчали, я подумала, что она замерзнет, на лестнице холодно, она босая.
– Ты одна? – спросила я.
Она кивнула осторожно.
– Меня впустишь? – спросила я.
Она открыла дверь пошире, я вошла и захлопнула ее за собой. В квартире было тепло, по крайней мере.
Она повела меня на кухню. Здесь было как обычно, опрятно и прибрано. Я спросила, давно ли она проснулась. Лиллен помотала головой, забралась с коленками на стул у окна и стала смотреть на улицу, опершись на локти.
– А мама где? – спросила она.
– Наверно, кому-то срочно нужно было помочь, она и уехала, – ответила я.
Я включила лампу над плитой и столом.
– Какао будешь? – спросила я.
– Буду, – обрадовалась Лиллен.
Она вдруг засмеялась чему-то за окном, я подошла посмотреть. Там ветер играл с золотцем от шоколадки, рисовал ею в воздухе причудливые кривули, гонял то вверх, то вбок. И снова вспомнилась Кристиана, кружение золотца за окном что-то напоминало, предупреждало о чем-то. О чем?
Я вернулась к столу, достала из шкафа кастрюльку, молоко, сахар и какао.
– Чур я мешаю, – попросила Лиллен.
Я приставила стул к плите, она стояла на коленках и помешивала венчиком, и мы обе наблюдали, как коричневое смешивается с белым и делается одного цвета, я чувствовала ее детский запах совсем рядом, видела матовый блеск ее волос.
Мы ели хлеб с салями, я зажгла свечку – день был серый, и почти не разговаривали, просто сидели напротив друг дружки за столом, на котором горела свеча, стояла корзинка с хлебом и кувшин с какао, мы жевали, прихлебывали из своих кружек, а в голове крутилось кино, картинки проплывали и сменялись следующими, не превратившись в мысли, а я только наблюдала за этим.
Нанна позвонила, когда Лиллен одевалась. Я нашла ее вчерашнюю одежду на стуле в детской аккуратно сложенной. Я решила сперва отвести ее в садик, а потом идти в больницу.
Услышав в трубке мой голос, Нанна разрыдалась.
– Ты с ней, – причитала она. – Ой, спасибо! Я вообще забыла про Лиллен, представляешь, совсем забыла про девочку.
– Не волнуйся, – сказала я. – У нас все хорошо.
– Что же хорошего, – сказала Нанна. – Я ни с чем не справляюсь, видишь, мне нельзя доверять собственных детей, они пропадают, со мной все пропадает, до чего я ни докоснусь, и там, и тут, всё и везде, я не могу, у меня сил нет, я больше не выдержу.
– Я тебе звонила, – сказала я. – Что там?
Нанна пискнула в ответ, тонкий невнятный звук. И ничего не сказала. Я видела ее перед собой, плотная невысокая фигура уже не казалась крепко сбитой, голос свистел как дырявый.
– Я провожу Лиллен в детский сад и приду, – сказала я. – Ты в больнице, да?
– Да, – тихо ответила она.
– Я быстро, – сказала я.
Может, доедем до сада, предложила Лиллен. Давай, согласилась я. Ты сегодня «нет» не говоришь, сказала Лиллен. Да, ответила я, и мы улыбнулись друг другу.
Какие тяжелые в больнице двери. Я подошла к справочному окошку. Спросила про Майю. Женщина в белом халате стала искать в компьютере. Я чувствовала, что у меня потеют подмышки, в очередной раз за эту ночь. По-настоящему мне хотелось одного – лечь ничком на пол и лежать, просто лежать.
Она наконец нашла и ткнула пальцем в экран. Майя в реанимации на пятом этаже, лифт там, сказала она. Я вызвала лифт и стала ждать, менялись цифры на табло, кабина остановилась на третьем, там кто-то загремел тележкой, на стальной окантовке дверей лифта темнели сальные отпечатки пальцев.
Кто догадался загнать реанимацию на пятый этаж?! Как потом ждать лифта все эти секунды, нет, минуты даже? Глупость несусветная. Еще немножко, и я стала бы колотить в дверь шахты, голосить, чтоб они наконец уже вошли или вышли и освободили кабину, сколько можно, но я не устроила скандала, огляделась, увидела указатель «лестница» и припустила вверх, перескакивая через ступеньку, через белые, серые, красные камешки, вделанные в бетон и так застывшие навек. Навстречу шли люди, я прижималась к стене и неслась дальше.
Как будто бы счет шел на секунды. Как будто имело значение, примчусь я секундой позже или раньше. Словно именно это могло спасти Майю, словно все зависит от меня, и если я буду бежать достаточно быстро, то и время припустит вспять со мною вместе, назад в тот день, в тот лес, где расползается туман среди деревьев, и я успею выбить пистолет у нее из рук и прижать ее к груди.
На штативе у Майиной кровати висел пакет с донорской кровью, к руке тянулась трубка. Нанна стояла спиной ко мне, она смотрела в окно.
Я помедлила на пороге. В палате была полная тишина.
Веснушки у Майи на лице потускнели, лицо было словно посыпано ими, собери их, и Майя освободится, подумалось мне, что ты такое несешь, одернула я себя мысленно. Она выглядела бледной и маленькой, точно съежилась, стала меньше. Она казалась спящей.
Обернулась Нанна. Вот у кого мертвенный вид. Перепаханное, исказившееся лицо. И ледяные глаза, без злости или враждебности, но словно глядящие оттуда, где вечный холод. Замораживающий взгляд.
Я подошла к ней, встала прямо перед ней, посмотрела в лицо.
Она взмахнула руками и сложила их перед собой как чашу. И так она стояла передо мной и держала эту чашу на вытянутых руках, из глаз снова потекло, и эта влага казалась почему-то тоже холодной и колючей.
– Вот, – сказала она. – Вот так мне хочется ее взять. Подсунуть под нее руки, поднять, и так держать, и не отпускать.
Но она не удержала чашу, пальцы разошлись и растопырились как когти, а между ними образовались большущие щели. Руки тряслись. Я смотрела то на них, то на нее. А потом руки вывернулись и вытянулись ладонями вниз. Они были пусты.
Нанна вышла, я стояла у Майиной кровати. Ее руки лежали вдоль тела, поверх одеяла, они были перебинтованы почти от подмышек и до самого низа, включая пальцы. Воздух в палате сухой и теплый. Майя подключена к нескольким аппаратам, и какой-то датчик вычерчивает кривую на мониторе, да еще через капельницу вводится какое-то темное вещество.
Трубки, шланги и веревки, тянущиеся к потолку, были и за кулисами сцены у Кристианы, которая репетировала, двигалась под сенью этого всего в круге света, казалось, ей нравится, что я на нее смотрю. Я сперва стояла, потом опустилась на пол и села, прислонившись спиной к стене. Я представляла себе, что она устроила этот спектакль, в этом немаленьком зале, специально для меня. Хотя она была полностью поглощена своим лицедейством и получала видимое удовольствие от того, как послушно ей тело, она смаковала каждое свое движение и радовалась непонятной мне радостью, она была в закрытом для меня мире пластики тела. Сколько я ни силилась делать так, как говорила Кристиана: не думая, просто отдаваться движениям, ощущениям, у меня не получалось. Выходило нарочито, не по-настоящему. Зато сама Кристиана не мучилась проблемами мироздания, а только изгибалась, растягивалась, простирала руки, театрально дышала. Безответственностью, душевной леностью и нежеланием спросить с себя по гамбургскому счету, вот чем это было с ее стороны. Она стремилась лишь к тому, чтобы публика хорошо принимала ее.
Я так и сказала ей потом, после репетиции.
Тебя волнует только, чтобы все было хорошо и гладко, сказала я.
В ответ она смерила меня взглядом. Я помню движение, как она поворачивается ко мне с бутылкой вина в руке и смотрит на меня холодным, жестким взглядом. И чуть улыбается, приоткрывая зубы.
Да, ответила она, волнует. И замолчала. Она собиралась продолжить, но не стала.
И если получается хорошо, не так даже важно, насколько это по сути правда.
Так она сказала, отлично понимая, что задевает меня. Нарочно чтобы задеть и сказала, как мне показалось. Потому что речь ведь шла не об ее спектаклях или моей учебе, но обо всем вообще, о том, что мы делали, во что верили, о нас самих, наконец. Так что она знала, что делала. И безжалостно уложила меня на обе лопатки. А я барахталась, прижатая к полу, сучила лапками, трепыхалась, протестовала. Потому что для меня все устроено наоборот: то, в чем нет правды, не бывает хорошим.
А бывает каким? Я смотрела на Майю, на маску, прижатую к ее носу и рту, на аппарат, дышавший за нее. Как вывернулась наизнанку найденная ею правда, что в ней не осталось хорошего? Хотя она продолжала быть правдой, но такой мрачной и тяжелой, что придавила Майю, не давая ни вдохнуть, ни выдохнуть?
Девочка уехала в поселок, одна. Нанна об этом не знала. Наоборот, они договорились, что Майя вечером идет на репетицию, а оттуда домой, они пекут блины и смотрят передачу, которую обожает Лиллен, там две команды соревнуются в исполнении старых шлягеров. Они любят эту еженедельную программу, я однажды попала к ним, когда она шла, и Лиллен хохотала так, что все начали смеяться, и под конец мы все вчетвером катались от хохота.
Но к назначенному времени Майя не вернулась. Нанна с Лиллен посмотрели программу сами, потом Нанна уложила малышку. Майи все не было, и Нанна не находила себе места, взялась убираться в гостиной, поснимала со стен все картинки и фотографии.
Она иногда исчезает, рассказывала Нанна, я сама так делала в девятнадцать лет, это в порядке вещей, но она любит смотреть эту программу вместе с Лиллен, и мы говорили с утра об этом, условились.
В общем, я позвонила ее подружке по театру, и та сказала, что Нанны не было на репетиции. Тогда я созвонилась с ее начальником на работе, и выяснилось, что Майи не было сегодня и там.
Нанна говорила совершенно спокойно, словно вспоминала далекое прошлое или пересказывала историю, слышанную по радио или телевизору.
И вдруг ничего не стало, рассказывала Нанна.
Как будто я тону, а дна нет. Господи, как я испугалась, говорила она.
Не за себя, не за Майю, а просто. Было такое чувство, что, кроме страха, ничего нет, совсем ничего. И холод мертвенный пробрал. Я вылила воду, которой мыла пол, повесила на место фотографии и картинки, навела порядок. Села в машину и поехала. Я не думала про поселок, но куда ночью поедешь. Только туда.
Она помолчала, глядя в пол.
Вот, и я поехала в поселок. Еще издали было видно, что в доме кто-то есть, во всех окнах горел свет. Я подумала сперва, что в доме пожар. Машина, которую Майя иногда одалживает у товарища, стояла у дверей. Я вошла внутрь.
Я смотрела на Нанну, на распластанную Майю и думала о Лиллен, как она сейчас в детском садике сидит, наверно, за низеньким столом на маленьком стульчике, и болтает с другими детьми, и лепит что-нибудь из пластилина, и думала о той девушке, как она поднимается на стропила, и вспоминала ее маму, на кухне с противнем печения в руках, и ее папу, как он исчезает вдали с ружьем, перекинутым через плечо, и видела лежащую на боку собачку, белую на белом снегу, мертвую.
Кристиане не хватало глубины, но она сказала, что это я скольжу по поверхности. Что мне везет. Мне, у которой ничего нет. Где оно, мое везенье? Мы стояли с Кристианой в зале у нее в мастерской, и она выдувала слова как шарики, смотрела на них, показывала пальцем и смеялась.
– Лив, если одни не подходят, я беру другие, вот и всё, – так она сказала.
И тут я, надрываясь, упираясь, стала подтаскивать свои тяжелые как камни слова.
«А: Да, но Христос сказал, что пришел принести на землю не мир, но меч.
Я: Но Иисус говорил о духовном мече, то есть о Слове Божьем.
А: Петр поднял меч на врагов Иисуса.
Я: Но Иисус сказал, чтобы он возвратил меч в ножны, ибо все, взявшие меч, мечом и погибнут.
А: Потому что если б только один Петр взялся за меч, это ничему не помогло бы».
И тем вечером, видимо, словесный меч преобразился в настоящий, тяжелый, сияющий, разящий.
Он лег мне в руку, и я поразила им Кристиану. Я сделала выпад, продолжая писать, и вонзила меч в нее, я наносила удары, и в тумане, в том перелеске, кровь текла по прелым листьям, засыпанным гнилушками и сучьями, кровавый ручеек, булькавший среди больших деревьев.
О нет – это я лежала, поверженная, на спине на полу, а она нависла надо мной и замахнулась, она хотела размозжить мне голову бутылкой с вином, и тогда я заслонилась мечом, а она слишком близко придвинулась ко мне, с занесенной для удара рукой, и сама напоролась на меч.
– Ты не выносишь того, что больно, что ранит, – сказала я.
Это мои слова.
Ты не выносишь того, что больно, что ранит, тебе лишь бы все было распрекрасно. Но в мире полно вещей трудных, далеко не приятных. Их ты не желаешь касаться.
– Что ты имеешь в виду? – спросила она. – Чего я не желаю касаться?
– Ничего, – ответила я. – За что ни возьмись. Спектаклей, которые докапывались бы до сути, ты ставить не хочешь, это слишком болезненно. Если я прихожу к тебе с сомнениями, расстроенная, ты не хочешь слушать, затушевываешь их, и всё. Ты не выносишь тяжести ни в чем.
Она сидела и смотрела на меня. Почему она ничего не ответила на обвинения? А только молча смотрела, холодно и бесстрастно? Я ждала, что она возразит. Говоря такое, я хотела остановить ее нападки на меня и думала, что, объяснившись, мы сблизимся и дальше будем держаться вместе и никогда не расстанемся. Мне хотелось расшевелить ее, подтолкнуть, чтобы она сделала шаг мне навстречу. Что-то ты все представляешь в слишком романтическом свете, да? Может, ты просто хотела ударить побольнее того, кто первым начал?
В общем, она не ответила. Сидела как каменная и ела меня глазами.
– Что тебя не оказалось рядом с родной дочерью, когда ты была ей нужна, что ты предала ее – признать это выше твоих сил, поэтому теперь, – сказала я, – когда спустя двадцать лет она сама нашла тебя, потому что нуждается в тебе, ты обвиняешь ее во всех грехах.
Так я сказала Кристиане, вернее, проорала ей в лицо, потому что она не желала слушать. Сидела как глухая. Я падала вниз, она не подхватила меня.
Она встала, распахнула дверь. И кивнула на нее, не говоря ни слова.
Вон.
Raus.
И я поднялась с ее матраса и пошла прочь, пересекла всю огромную комнату, вышла в коридор, потом за дверь. И пока я в темноте под дождем шла домой, вверх в горку, потом за угол, я все поняла. Стоя у окна в своей комнате и глядя на город, я понимала уже, что я набросилась на Кристиану не из-за ее дочери, а из-за себя самой. Это я нуждалась в ней, я лично.








