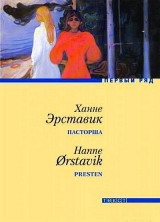
Текст книги "Пасторша"
Автор книги: Ханне Эрставик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Я сидела на каменном полу, уставившись перед собой, и чувствовала, как по моим щекам тоже текут слезы. Они текли и текли, и я не знала, что с ними делать. Я сидела рядом с Нанной и слышала, как она скулит глухим голосом, как будто ей надо было выплакаться, выпустить наружу то, для чего уже не было места внутри.
Я закрыла за собой ворота и услышала, как они заскрипели. Как много здесь надо бы сделать, в этом доме – что-то смазать, что-то покрасить, а что-то починить. Но мы всё откладывали до того дня, когда у нас будет время, и надеялись, что такой день придет, рано или поздно. И тогда пойти в гараж и принести ведро с краской не покажется бесконечно трудным делом.
Такой день должен настать, Лив, говорила я самой себе, пока брела к дому.
Слегка скользя по мокрому снегу, я подошла к двери. Внутри было тихо. Стереомагнитофон Майи молчал. Она, видимо, еще спала, она могла проспать хоть до обеда, когда ей не надо было на работу.
Я не подумала об этом тогда, в ризнице, но потом, когда они въехали, неизменно думала почти каждый день, а иногда даже по нескольку раз в день. Взмахнуть руками и сказать: «Добро пожаловать» – это одно. Но этот шум! И эта музыка! Если бы под эту музыку хотя бы можно было думать. Но она шла вразрез с мыслями, а не параллельно им, врезалась в голову как стальной трос, била по мозгам как штанга, и это надо было терпеть все время. Я прилагала уйму сил, чтобы освободиться от этой музыки. И когда я готовилась к проповеди, думала, что сопротивление, которое вызывала во мне эта музыка, и концентрация, которая требовалась для противодействия ей, все это отражается в проповеди, но наоборот, как безучастность.
– Увлечение этой музыкой – это что-то новое, – сказала Нанна. – Майя пристрастилась слушать такую музыку, так много и так громко, только в этом году. Волосы она красит лет с тринадцати. Она всегда была очень решительной молодой девицей, – говорила Нанна. – Зимой она сделала пирсинг – сначала на левой брови, потом на правой, а сейчас у нее блестящие кристаллики на подбородке, на носу и на губах.
Разговор о Майе зашел у нас незадолго до Рождества, когда мы сидели в кабинете и планировали, как отметить окончание занятий в школе, когда приглашать детей из детских садов, говорили о службе на Рождество и Новый год и распределяли обязанности.
Я предложила провести на Рождество ночное богослужение. Эту идею подала Майя: если все это для тебя что-то значит, Рождество, Иисус и заповедь о любви к ближнему, то нам следует в рождественскую ночь быть в церкви, а не копаться у себя дома в куче подарков. Я подумала, что, наверное, она права, попробовать стоило.
Я стояла перед письменным столом Нанны и вдруг, не знаю отчего, подумала о Майе и смерти ее отчима. Может, просто потому, что была ночь и тьма. Мне пришло в голову, что Нанна ни словом не обмолвилась о том, как Майя восприняла его смерть. Я спросила ее.
– Она не говорит о нем. Ни разу не всплакнула. Странно, – добавила Нанна, наклонив голову набок, что она обычно делала, когда думала, – ведь она как раз и проводила с ним времени больше всех. Часто они ходили в море вдвоем. Майя любила говорить о том, что когда-нибудь шхуна перейдет ей.
На узкой скамеечке у стены стояла их фотография, Нанна наклонилась, взяла ее и протянула мне. Они стояли в оранжевых комбинезонах на палубе этой небольшой рыбачьей шхуны. Майя, подняв одну руку, держалась другой за трос, она улыбалась и выглядела счастливой.
– Сейчас она до рыбы и дотронуться не хочет, – сказала Нанна и взглянула на экран компьютера. Она щелкнула пару раз мышью, а затем принялась набирать что-то. Я продолжала стоять, но мне стало ясно, что Нанна больше не хочет об этом говорить. Я положила фотографию и ушла к себе.
Однако сейчас все было тихо, и я могла слышать эту тишину. Казалось, что дом – это наконец заснувший зверь, и мне надо только похлопать его по спине и сказать, мол, спи дальше. Да-да, спи себе. Все в порядке. Синяя кукла – это всего лишь материя, игрушка. Как только она выпускает ее из рук, кукла исчезает.
Я сняла сапоги и пошла вверх по лестнице, вошла в гостиную моей квартиры на втором этаже. В центре стоял большой письменный стол; когда я въехала в дом, стол стоял в одной из комнат первого этажа. Я попросила помочь мне перенести его наверх, и сейчас он стоял перед окном.
В комнате было совсем немного мебели: слева, в углу у книжных полок – два кресла. У двери висела кукла Кристианы. Самым лучшим в этой комнате был вид из окна, свет. Как будто он обращался ко мне, говорил со мной, каждый раз, когда я сюда входила. Если я просыпалась ночью, я всегда шла сюда, подходила к окну и смотрела на огоньки вдали – на пологом склоне вниз к фьорду и на острове, край которого в том месте, где начинался мост, был виден из окна.
Я думала о том, что все огни, цвета этих огней, нити света, сети, все это взаимосвязано, каждый огонек светит сам по себе, но между ними есть связь. И я погружалась в это сплетение, стояла зимними ночами в комнате у окна и смотрела на огоньки, ползущие вниз. А там была вода и полная тьма.
Я подошла к письменному столу и увидела конверт с бумагами. Материалы к очередной встрече пасторов. Я уже прочитала их, когда получила. Конверт лежал поверх других бумаг, разбросанных по всему столу: листов диссертации, материалов, посвященных бунту саамов сто пятьдесят лет тому назад. В этом году встреча пройдет в том самом месте, где произошел этот бунт, – в поселке, расположенном в самом центре высокогорного плато. Семинар не имел никакого отношения к тому восстанию, которое я изучала уже много лет, и вот мне впервые предстояло оказаться на месте событий.
«Рано утром в понедельник 8 ноября толпа финнов ворвалась во двор дома, принадлежавшего хозяину лавки. Финны напали на лавочника и жившего в его доме ленсмана[4]4
Ленсман – государственный служащий в сельской местности Норвегии с полицейскими и административными полномочиями.
[Закрыть], кои оба находились во дворе. Финны убили и лавочника, и ленсмана, после чего сожгли дом лавочника, завладев частью домашнего скарба и товарной наличности. Жену лавочника и прислугу отвели в близлежащий пасторский дом, где заперли в гостиной вместе с семьей пастора и служанкой. Засим отстегали всех кнутом. Кроме них финны захватили в плен и других лиц – случайных приезжих, а также и окрестных жителей, не успевших сбежать из своих домов, – и заперли их в гостиной пасторского дома. Всех сех лиц также били кнутом. Сии происшествия продолжались до вечера оного дня»[5]5
Цитаты в романе из книги «Восстание в Каутокейно. Документы», 177 страниц архивных записей о процессе 1851–1867 годов над 48 саамами в Каутокейно.
[Закрыть].
Таково было описание событий, которым была посвящена моя диссертация. В этом восстании саамов многие ниточки конфликта между саамами и норвежцами сплелись в один узловой вопрос – и этим вопросом был язык христианства. Мы проходили этот бунт на первом курсе, по истории религии – он считается одним из многих примеров кровавых столкновений, имевших место на севере. Однако меня этот конфликт задел за живое, мне казалось, что здесь скрывается что-то, в чем я обязана разобраться. Как будто он касается меня лично.
«Среди финнов в последние годы возникло религиозное движение, вызванное осознанием того, что они жили не по-христиански. Однако сие движение не ограничивалось обращением отдельных людей в истинную веру и их исправлением путем спокойного и благоразумного погружения в моральные и религиозные размышления в одиночку или вместе с другими. Довольно скоро сие движение вызвало у некоторых из таким образом пробужденных надменность и спесь, и их ревностные стремления внушили им мысль о том, что они призваны способствовать пробуждению и обращению ближних своих, и они осуществляли сие призвание самым неистовым образом – проявляя излишнее усердие и угрожая, а порой еще хуже – убивая и поджигая. Упорствующие и те, кто не хотел тотчас же обращаться, избивались кнутом, пока они не признавались в своих грехах, ибо покаяние в грехах считалось первым шагом на пути к обращению, так же как порка кнутом или розгами – обычным наказанием за нераскаянние. Во время обращения надобно было, чтобы предмет оного взывал к Иисусу Христу о помощи. И сим вновь обращенным они говорили: „Бдите! Обращайтесь! Исправляйтесь!“»
Во время бунта были убиты лавочник и ленсман. После суда двум саамам отрубили голову, многих присудили к уплате штрафа и отправили на юг страны в тюрьмы, смирительные дома и на исправительные работы. Присланные в конверте материалы содержали переписку между пастором и епископом до той ноябрьской ночи, когда случился бунт, и после нее, а также записи, сделанные во время судебного разбирательства, допросов и всего судебного процесса.
Все это означало, что выслушали только одну сторону. Но была и иная версия, версия другой стороны, которая не была ни записана, ни подтверждена документами. Эта версия читалась между строк в переписке пастора и епископа, и у меня был единственный способ как-то до нее докопаться – попытаться прочесть то, чего там не было, понять нечто ускользнувшее из их строк. Я старалась читать эти документы как многослойное повествование: читала написанное пастором и сквозь строки угадывала то, что он не стал писать, выпустил. Я обращала внимание на то, как он писал, какие слова выбирал, какой смысл в них вкладывал и какое впечатление создавалось в результате. Я читала оба рассказа – написанный и другой, скрытый и в сказанном и в недосказанном.
Да, но что я имела в виду, говоря, что камнем преткновения стал язык, если высказалась лишь одна сторона – сторона, облеченная властью?
Библия была переведена на саамский язык, и саамы приобщились к всеобщему языку, где есть такие слова, как «грех» и «вина», «обращение», «прошение». «Средь арестованных есть такие, кто благодарил меня, ибо я дал им Новый Завет на их родном языке и возможность судить».
Саамы освоили те же слова, что и норвежцы, слова, обозначавшие вещи, нечеткие и неясные, все то в жизни, что так трудно поддается определению. Теперь саамы могли воззвать к справедливости и потребовать равноправия, ибо разве не написано в Библии, что они такие же люди? Если власть сама пришла к ним и дала им этот язык и эту веру, неужели она не захочет их выслушать?
Библия придавала вес их требованиям. А они решили использовать данный им в Библии язык и добиться того, чтобы все написанное в Библии и касающееся всех смогло осуществиться.
Но так не вышло.
Мне казалось, что я легко могу поставить себя на место пастора, норвежца, пришельца с юга, но также и саамов, особенно их. Мне ли не понять их бессилия и отчаяния, особенно глубоких, поскольку надежда и ожидание были так сильны.
Я явственно ощущала, как Книга изменила всю их жизнь, расширила их кругозор и дала им надежду. Надежду быть услышанными. Надежду быть понятыми. Есть ли что-то сильнее этого?
Изучать этот конфликт было все равно что касаться сгустка спрессованных идей. Пытаясь понять, что означал для них язык тогда, я размышляла над тем, что означает для нас язык сегодня. Для меня лично. В какой степени он способен нести, передавать, вмещать смысл. Что означают слова и что мы с ними делаем, когда разговариваем. Почему мы не понимаем друг друга?
В своей работе я поставила задачу более узко – изучить, как стороны использовали язык Библии: аргументы норвежцев и саамов и властных структур. Я хотела понять, что в языке оказывает на нас воздействие, не на конкретно семантическом уровне, а на другом, более общем, заданном текстом.
Итак, мы – тела в пространстве, тела, познающие и познавшие. Однако мы не представляем себе всю картину, мы видим так мало, мы действуем, говорим, делаем и существуем в плену тех значений, которых мы не замечаем и не понимаем.
Я вспомнила зеленые глаза Кристианы, когда мы поздним зимним днем ехали на машине домой из монастыря, как она разговаривала, какой была веселой, легкой и как у меня тоже стало легко на душе, потому что до этого я, как в глубоком снегу, брела и утопала в моих собственных мыслях. Я сама поставила перед собой эту задачу и должна была разобраться. Я словно стояла в снегу посреди равнины и вглядывалась в то, что случилось давным-давно и что я могла увидеть, истолковать, но не понять до конца.
Я знала Кристиану всего сорок дней.
Стопка бумаг в пластиковых папках, на которой скопилась пыль, желтый листочек с поручениями – кому что надо сделать в те три дня, пока я буду отсутствовать, на другом листке – список встреч, которые пришлось отложить или отменить.
Рядом – стакан с недопитым виски, исписанная ручка, несколько карандашей.
Я посмотрела вниз, на фьорд. Кто-то сказал мне однажды, что только здесь, на севере, можно что-то увидеть на небе. Местность-то здесь почти плоская, она просто лежит перед тобой, и все. А в небе что-то двигается, меняется освещение, облака проплывают мимо и исчезают.
Несколько раз я пыталась сказать самой себе: посмотри-ка на небо, там что-то происходит? Но нет, это не для меня. Небо существует само по себе, оно далеко, высоко. Я не имею к нему никакого отношения. Я больше люблю все то гладкое и плоское, что находится внизу. Землю, вереск, просторы. Большое открытое пространство. На которое можно долго смотреть. И оно нигде не будет кончаться. Море и вода, фьорд, полоски земли по другую сторону фьорда, такие же плоские, как здесь.
Я редко говорю с кем-нибудь об этом. Но иногда упоминаю в разговоре, что мне нравится плоская местность. Я так проверяю, не родственная ли передо мной душа. Иной раз мне отвечают заинтересованно, и по глазам ясно, что мы оба понимаем, о чем речь. Безграничное ровное пространство, которое существует для того, чтобы в нем быть. А иногда смотрят на меня так, как будто я сказала какую-то ерунду. И тогда я больше ничего не говорю. Жду, пока останусь наедине с собой.
Я стою у окна и слушаю тишину. Мимо дома проезжает машина. Где-то капает тающий снег. Но все равно тихо. Эти звуки лишний раз подчеркивают тишину.
Надевая маску, всегда стой спиной к публике. Когда ты вновь повернешься к людям, они увидят не тебя, а маску. Тогда ты – это маска, она – твое лицо, она определяет твое поведение.
Голос Кристианы, низкий и плотный, звучал на большой сцене. Стулья были убраны. Она показала мне разные белые гипсовые маски, надела их и разыграла несколько мимических сценок. Персонажи, в которые она превращалась, надевая маски, делали совсем простые вещи – один рвал яблоки с дерева, другой пек печенье, мял и раскатывал тесто, третий пытался приманить кошку, но был прогнан со двора.
Ее движения были точными и выверенными. Не раздавалось ни звука, только шаги ее босых ног. Все это было очень забавно, будь я в настроении. В сценках не было никакого тайного подтекста, самые простые сюжеты – персонажи рвали яблоки, делали из теста печенье, пытались схватить и удержать кошку. Но что-то в них все-таки было, нечто большее, глубокое.
Думая об этом сейчас, я ясно вижу зазоры, пропасть. Все слои в этой стилизованной игре. И что-то происходило на стыках, и оно рождалась из того только, что на нем не сосредотачивалось внимание. Это неуловимое нечто заполняло собой зазоры между видимым планом и жило там.
Что это было? Обратное движение? Некий противовес легкости? Может быть, она таким образом хотела выразить то, другое, глубокое содержание? Мне следовало увидеть это и понять. Обратить внимание на то, что она могла сказать мне только таким способом.
Но тогда я об этом не думала, а Кристиана смеялась и хихикала; меня ее веселье не заражало. Мне не терпелось поговорить с ней. Я только что на семинаре рассказала о своей работе – он был уже третьим по счету за довольно короткое время, – однако никто опять толком ничего не понял. Вернее, чисто умозрительно они понимали, но смысл моей работы до них не доходил. Мне же он был совершенно очевиден, ясен и очень важен. Мне казалось, что я в одиночестве тушу огромный пожар и горю в нем, а им все безразлично. Я поднялась по крутой горке к домику, где снимала комнату; я чувствовала огромную тяжесть и опустошенность, и тогда я позвонила Кристиане. Она ответила, что сидит в мастерской и работает и чтобы я заходила.
До этого момента мы какое-то время не виделись – она совершала небольшие гастроли, а потом ездила во Францию в гости к дочери. Однако мы переписывались по электронной почте и пару раз говорили по телефону, а накануне ее отъезда посидели несколько часов в кафе.
Я помню, как Кристиана смотрела на меня тогда в кафе, помню ее смех, мягкий и радостный взгляд ее зеленых глаз. В нем ощущались слои, сдвиги, сложные движения, которые плавно накатывались, переворачивались и отходили, как волны. Как свет над большим водным пространством, который все время меняется.
Она открыла мне дверь, ничего не сказала, улыбнулась и обняла меня. В одной руке она держала маленькую флейту и вдруг заиграла на ней, затем повернулась и, играя, пошла по коридору. Маленькая, хрупкая и сильная Кристиана шла впереди меня в своем черном трико, таком же облегающем, как у танцоров. Она открыла тяжелую стальную дверь, и мы оказались на большой сцене в пустом, совершенно темном помещении с прожектором посередине.
Она сделала мне знак сесть. Но мне не терпелось поговорить с ней, рассказать. Послушай, знаешь что… Мне не было дела до ее белиберды, дурацкой флейты, куколок и отстраненности от всего. Ее легкости и игры. Тогда она взяла меня за руку и повела в маленькое заднее помещение. Это было нечто вроде зимнего сада, сооруженного из старых окон. Здесь у нее были кипятильник, и чай, и большой матрас с кучей подушек. Мы сели. Она посмотрела на меня, склонив голову набок, улыбнулась, отвела взгляд, а потом снова посмотрела. Я не могла ничего понять. Она что, дразнит меня? И тут она спросила, в чем дело. Глубоко вдохнула и стала внезапно очень серьезной, так что я вдруг почувствовала себя скучной.
Все же я начала рассказывать, преодолевая присущую мне боязнь показаться навязчивой. Испытывать ее, пожалуй, так же противно, как случайно порезаться. Я рассказала ей все, до конца, я жаловалась и надеялась на утешение и поддержку. Но она лишь чуть пожала плечами и сказала, что так всегда бывает. Люди очень разные, не надо принимать все близко к сердцу.
– Мне всегда было наплевать на то, что скажут другие, – произнесла она, широко улыбаясь, отставила чашку и потянулась.
«Неужели это все?» – подумала я. Пока я шла к ней, то всю дорогу предвкушала, как сейчас все ей выложу, мечтала увидеть ее глаза, встретить ее понимающий взгляд. А она просто-напросто отшвырнула мою проблему в сторону, как легкий шарик, который можно гонять ударами пальцев. А у меня внутри был тяжелый камень, темный и тяжелый, и я не знала, вынесу ли я эту тяжесть.
Не так-то все просто. Мне показалось, что я падаю вниз, как будто она разжала руки и потянулась, и я полетела вниз. А там открылась расщелина, пропасть, и я падаю, падаю, но там, где должно что-то быть, ничего нет. Я задыхаюсь, не могу дышать. Но может быть, она была права, эти мысли надо просто гнать от себя, продолжать свое дело и не обращать внимания на то, что говорят другие.
– Здорово, что ты умеешь все так воспринимать, что ты так уверена в себе, – сказала я и улыбнулась.
– Конечно, здорово. – Она снова выпрямила спину, а затем слегка наклонилась, сперва в одну, а потом в другую сторону. – Я всегда такая была, – продолжала она, – я всегда знала, что мне надо идти своей дорогой, и гордилась тем, что для меня эта дорога правильная.
Все казалось так просто и ясно. Так легко.
– Да, но как это у тебя получается? – спросила я.
– Я думаю об этом, а потом говорю вслух.
Она посмотрела на меня.
– Вот сейчас я сказала об этом тебе.
– И действует? – спросила я.
– Да, – ответила она.
Я посмотрела на нее, я отчетливо помню, что смотрела на нее и не знала, что ответить. Я никогда не верила в то, что достаточно сказать слово и оно сбудется. Это просто чушь, ерунда какая-то. Требуется еще что-то, гораздо большее. Чтобы слова обрели смысл, они должны подкрепляться чем-то, они должны возникать из чего-то настоящего, живого, что дало бы им вес и смысл.
А Кристиана сидела и криво улыбалась, она была в своем черном трико и толстом теплом халате поверх него. То, что она говорила, звучало убедительно; казалось, ее слова действительно связаны с тем, другим, должным составлять их содержание. Я почувствовала твердый и острый край, он врезался в плоть, и было больно. Я никак не могла проникнуть в суть. Поэтому и пастором служила с таким трудом. Не могла просто произносить слова, не ощущая их подлинного содержания. Если верить Кристиане, то достаточно просто произнести слово «Бог», и он появится, или хоть что-то произойдет.
Я посмотрела на руки Кристианы, ее сильные руки, на которых начали проступать вены и сухожилия, на ее глаза, слегка печальные, даже когда она улыбалась и смеялась своим задорным смехом, обнажая кривые зубы. Я не знаю точно, что именно – серый свет с улицы, красные подушки или что-то игривое в ее глазах – настраивало меня на сопротивление. Хотелось идти вперед, а не отступать, и чтобы все неподъемное стало легким.
Я сидела рядом с Кристианой на толстом матрасе между подушками и думала, что именно сюда мне и надо было, в Германию, вниз по карте, к чему-то другому, к переломному пункту. К переменам. Видимо, пора решиться и изменить стратегию на противоположную. Действовать извне. Ну конечно же, так и надо, думала я. Или нет, я не думала, в этот момент я плыла по течению. Да, надо попробовать делать, как она. Испытать ее жизненную стратегию. Просто-напросто.
Я посмотрела на Кристиану, меня несло к ней течением, в глубину ее зеленых глаз, в которых отражался желтый свет стеариновых свечек, что-то острое и темное, а дальше – мягкий лес, темнота, как свод внутри глаз, как чаша.
На улице шел дождь, по окнам текли струйки, но Кристиана зажгла свечи. Она сидела рядом со мной, в руках у нее была маленькая блестящая флейта, ее темные волосы отражали свет, а подушки переливались мягкими красками: красной, пурпурной и желтой. Сидя так вместе с ней я ощущала, что наконец-то проникаю внутрь происходящего, в суть.
Я стояла у окна, смотрела вниз на фьорд и не знала, что делать. Все казалось одинаково важным и неважным. Я могла почитать книгу, приготовиться к проповеди, могла и дальше стоять вот так или выйти на улицу и прогуляться в этот мягкий весенний день, пойти на остров, могла просто забраться под одеяло или испечь кучу вафель и съесть их все сама. А то взять и поехать в рыбацкий поселок, к Нанне и Лиллен, и побыть с ними. Я представила, как сижу вместе с ними в их домике на самом конце фьорда, где начинается море.
Но что-то все равно мешало; я видела, как «оно» лежит на подушках между мной и Кристианой, на большом полосатом матрасе. Нет, мне не удалось одним прыжком преодолеть пропасть и начать жить по-иному. И я была в отчаянии. Ибо «оно» не исчезало, даже когда я пыталась смотреть на жизнь иначе, «оно» только проваливалось глубже и глубже. И лежало где-то там, так что его нельзя было достать, хотя я и не пыталась. Нет, я справлюсь, буду сильной и пойду дальше.
Я посмотрела вниз на фьорд. Вода, и больше ничего. Я стояла у письменного стола перед окном и смотрела на водную гладь – огромное, темное, молчаливое и пустое пространство.
Справлюсь ли я, стану ли настолько сильной, как хотела того Кристиана? Так, чтобы она позволила мне быть с ней ближе?
Дело было вовсе не в том, что кто-то оспаривал основные положения моей работы, не в профессиональных возражениях или критике. Вовсе нет. Наоборот, все, как могли, поддерживали меня, многие делали вполне конструктивные предложения. Но я чувствовала себя совершенно одинокой. С самым главным для меня я была один на один. Это и ввергало в отчаяние. Но именно этого Кристиана не хотела понимать.
Я пришла к ней, а она меня оттолкнула, не захотела разделить со мной мое отчаяние, но зато подарила мне свой образ мыслей. И теперь я пыталась овладеть им. Это было ее условием, чтобы быть вместе, и я приняла его как дар. Приняла и старалась как могла. Хотя чувствовала, что она обманула и меня, и нас обеих.
Так я думала в тот вечер. Потому что я ничего не поняла. Мне казалось, она владеет ситуацией, спокойна и ее корабль уверенно держит курс, и лишь потом я осознала, что это была только видимость, ее жалкое суденышко не в состоянии было спасти даже ее одну. А тут еще я в него забралась. Плюхнулась тяжело и неуклюже. От меня не было никакого толку. Наоборот. Я только тянула ее дальше вниз, тянула и цеплялась, а она барахталась и старалась выбраться на поверхность. И не смогла, а я ей не помогла. Вот как было на самом деле.
Не знаю, сколько времени я простояла так, как вдруг зазвонил телефон. Это был ленсман. Он говорил издалека, с мобильного телефона, и было плохо слышно. Молоденькая девушка повесилась на верхней балке каркаса, на котором сушили рыбу, на вешалах.
– Ты знаешь, где это? – спросил он.
– Да, – ответила я. Я шла за Кристианой по коридору. Она играла на флейте, но звука не было, я ничего не слышала. Только хлопок выстрела, хотя я не была в тот момент рядом и его наяву не слышала. Ленсман говорил, а у меня в ушах раздавались выстрелы. То был пистолет, из которого застрелилась Кристиана. Вот она упала на землю, ломая ветки, и лежала на гниющей листве, в тумане, и все стреляла и стреляла себе в голову, и головы уже не было, а она все не унималась.
– Ты приедешь?
Место находилось в трех милях[6]6
Одна норвежская миля – десять километров.
[Закрыть] отсюда, по дороге вдоль фьорда к морю. Я спросила, известили ли родственников, и он ответил, что в поселок послали гонца, он товарищ ее старшего брата.
– Они скоро приедут сюда, – сказал он, – ее родители. Перевозку тоже вызвали, она в пути.
– Я сейчас буду, – сказала я. – Сколько ей лет?
– Девятнадцать, – ответил он.
– Я еду, – сказала я и повесила трубку.
Вышла в коридор и тут только ощутила, как замерзла. А куртка осталась в церкви. Придется надеть другую – зеленую горную. Я начала натягивать ботинки и остановилась, нагнувшись, в одном полунадетом ботинке, держась рукой за стенку. Смотрела на полоски на полу, щели между выкрашенными в коричневый цвет досками. Было такое чувство, что забыла взять что-то нужное, но я не могла понять, что именно. Надела наконец ботинок и побежала вниз по лестнице.
Я выехала задним ходом из гаража и свернула на дорогу. Не стала возвращаться и запирать дверь в гараж. Вспомнила, что здесь на дороге часто играют дети, и сказала себе: осторожнее, Лив! Я притормозила, свернула на первую дорогу, которая шла к магистрали, вывернула налево на шоссе, здесь асфальт был совсем голый, и наконец-то я смогла прибавить газ и поехала, не поворачивая, по извилистой дороге.
Надо же, в такую хорошую погоду, подумала я. Как будто солнце могло чему-то помешать, выставить стальной щит. Дорога, по которой я ехала, была похожа на коридор, и казалось, что я все время слышу флейту, но без звука.
Я проехала поворот, затем съезд к маленькому местному аэропорту, откуда летали самолеты до большого аэропорта на другой стороне фьорда, с которого уже можно было улететь отсюда, далеко-далеко.
Повеситься вот так, средь бела дня. Я попробовала сосредоточиться, но было тяжело. О чем тут думать? Разве тут можно найти оправдание?
Я вспомнила, как ехала сюда на машине. Я заночевала в мотеле на северном побережье Германии, чтобы на следующий день попасть на паром. Я стояла у открытого окна и смотрела вниз на воду, темную и пустую воду, кроме нее, нигде ничего не было. Люди, проходившие мимо внизу, похожие на кукол, большой паром, стоявший у причала, – все это двигалось по тонкой корочке, почти пленке. Я могла бы кинуться в эту воду и больше не вынырнуть. Это казалось так легко. Ни краев, ни границ. Ничто не мешало, ничто не удерживало.
Девятнадцать лет. Как Майе. Я подумала о Майе и представила себе ее голубые глаза, блестящие серьги в ушах и пирсинг, как если бы Майя повесилась там. Я думала о мертвой девушке, а видела перед собой совсем близко Майю, лежащую на земле. И знала, что услышу плач Нанны, когда открою дверь машины. Нет, это не Майя, сказала я себе.
В голове всплыла еще одна картина – темный фьорд, морской отлив и большой каркас вешал. Торчащий треугольник, бревна и что-то висит на балке. Как кукла. Издалека оно похоже на кокон. Все так хорошо, мирно – солнце и голубое небо, что кажется, будто этот висящий кокон ждет момента, чтобы проснуться к жизни, родиться.
Если бы! Все как раз наоборот. Не бывает никакого наоборот, сказала я себе. Все есть как есть. Я проехала последний поворот и посмотрела направо на мыс. Полоска земли в виде дуги на воде и один-единственный ряд домов. У берега стояли большие вешала. Без рыбы. На улице ни души.
Я остановилась у самого дальнего дома. Там уже было несколько машин. Вдалеке у каркаса стояли люди. Я пошла к ним. На снегу были следы от сапог, и в них голая земля, которая заскрипела под моими шагами. Я посмотрела на фьорд. Другого берега не было видно.
Веревку перерезали, и положили девушку на ровные круглые камни на склоне. Кто-то подложил ей куртку под голову; на ней только рубашка и потертые джинсы. Было холодно смотреть. Рядом лежала нейлоновая веревка, свернутая в кольцо. Ее темные волосы убрали со лба. Если бы она села, они упали бы ей на лицо.
Рубашка была красная, в клеточку, под засученным рукавом виднелась татуировка, сердце со стрелой и вымпел. Рот был приоткрыт, между передними зубами обнажились щели. Глаза закрыты, но они слегка раскосые, лицо широкое с высокими скулами. Если бы мне не сказали, что это девушка, я приняла бы ее за юношу.
Я подошла к родителям. Ленсман и двое других отошли в сторону, а я осталась. Мы стояли молча. Они стояли в одинаковых позах, поддерживая друг друга. Отец сунул в рот сигарету, но она погасла. Я обратила внимание на то, что они ниже меня.
Я посмотрела наверх, на бревна. Там был виден остаток веревки, привязанный к бревну. Как же высоко она залезла.
Я не видела Кристиану после смерти. Гроб и вся церемония прощания не имели к ней никакого отношения. Я все время слышала ее смех, как будто она спряталась за скамейками или за алтарем, как будто она в любой момент могла выйти и посмотреть на нас, захихикать, прикрывая рот рукой. Или может, я так утешала себя. Сидела и смотрела на резьбу кафедры, средневековые скульптуры, лица маленьких чертей, карабкающихся наверх.
Я смотрела на круглые камни, спускавшиеся к воде. Дуга, которую образовывал мыс во фьорде, была из песка. Песок был красивый, тонкий и светлый, как на южном пляже.
На берегу тут и там между камнями валялись банки из-под пива. А еще несколько стеклянных бутылок с черными надписями на русском языке и пластиковые бутылки из-под колы и лимонада. Надувной матрас старого образца торчал из-под камней, коричневый в оранжевую клетку.








