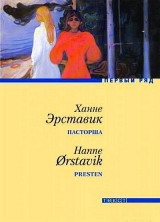
Текст книги "Пасторша"
Автор книги: Ханне Эрставик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Солнце отражалось в зеркальной воде, по которой шли мелкие волны, а ямки между волнами были похожи на чаши, какие получаются, когда складываешь ладони. И вдруг вся поверхность воды показалась мне чашами из протянутых рук, обращенных ко мне. А мне нечего было дать им.
Я снова посмотрела вниз на девушку. Тень от вешал падала полосками на нее и на нас. Мать тяжело дышала, и при вдохе ее большие груди поднимались, а потом снова опускались, я слышала шум вдыхаемого воздуха. Сигарета во рту отца задымилась, я и не заметила, как он закурил.
– Она не стала есть, – сказала мать. – Хотя я приготовила мясо так, как она любит. Я сказала ей, чтобы она взяла с собой поесть, когда она уходила. Завернула в фольгу, а потом положила в пакет и дала ей.
Вверху на дороге показалась машина, она съехала вниз и остановилась. Мы стояли, не оборачиваясь. Послышался звук захлопывающихся дверей, и громкий голос произнес что-то, а другой ответил, и мы услышали приближающиеся шаги. К нам подошли двое мужчин с носилками. Они обошли вокруг нас и зашли с другой стороны. Ветер немного стих, но по-прежнему несло холодом, и солнце не давало тепла. У меня замерзли руки, я могла засунуть их в карман, но не стала. Уши тоже замерзли.
Ленсман и еще двое подошли к нам. Все стояли и смотрели, как ее подняли на носилки, и один из мужчин застегнул молнию на мешке. Такую же длинную молнию, как на палатке.
Мужчины подняли носилки и двинулись к дороге. Мать повернулась ко мне и протянула что-то. Это был пакет с едой в алюминиевой фольге, он блестел на солнце. Должно быть, мать все время держала его в руках. Я взяла его и спросила, пойти ли мне с ними, но она покачала головой и двинулась прочь.
Я сказала, что загляну к ним, и осталась стоять.
Отец пошел следом за носилками. Мать подбежала и пошла рядом с носилками. Она шла по снегу, как если бы в мешке была дырка и из нее торчала рука, которую можно было держать.
Перевозка уехала, и стало совсем тихо. Родители – вслед за ней, ленсман со спутниками также уехали. Я стояла с пакетом; он был еще теплый в том месте, где его держала мать.
В пакете оказалась жареная отбивная котлета. Я снова завернула ее в фольгу. Надо выйти из машины, спуститься к воде и бросить ее в море. Но я не двигалась с места. Завела мотор и включила печку. В машине пахло котлетой. Сил не было совсем. Хотелось закрыть глаза и уснуть.
Ветки, сучки и деревья, а между ними туман. Маленькая синяя кукла, у которой были только голова и лицо, а остальное – кусочки материи. Тела не было, не за что схватиться. Черная пустая сцена с прожектором. Тишина перед началом представления. Все картины, возникавшие в голове, были наполнены этой тишиной и тем, что последовало после. Но звуки, сам ход событий исчезали, и я не могла удержать их.
Я дала задний ход и выехала на дорогу. Переключила скорость, обернулась и посмотрела на вешала. Мне пришлось долго всматриваться, пока я разглядела наверху конец веревки. Может быть, надо было отвязать ее и снять, подумала я. Но зачем? Она просто болталась там. Я посмотрела на бревна, камни, песок и воду.
И не спеша поехала обратно вдоль домов по ухабистой дороге. В ямах стояла замерзшая талая вода. Не похоже, чтоб здесь кто-то жил. Разве что только летом. Я представила себе, что на дворе тепло, поздний вечер и солнце стоит низко над фьордом. Вдруг дверь открывается, из нее выбегает ребенок и кричит что-то человеку, идущему за ним вниз по лестнице. Это девочка-подросток и мальчик, она бежит впереди него вниз по траве к берегу. У окна комнаты стоит бабушка и смотрит им вслед, на ней фартук в мелкий цветочек, ее седые волосы уложены в прическу.
У шоссе я остановилась. Можно было повернуть направо и поехать в рыбацкий поселок к Нанне. Сидеть рядом с Лиллен на диване и смотреть детскую передачу, играть в карты, читать ей сказки или библейские сказания. А потом погасить свет и сидеть у ее кровати на мансарде со скошенным потолком. Почему я этого не сделала? Но я уже поворачивала налево, обратно в город.
Дорога шла вдоль фьорда. Я смотрела на воду, отлив и траву, а потом на дорогу. Она была построена так, что снег на нее не ложился, а сдувался. С противоположной стороны дороги начиналась большая гора. На ней не было деревьев, только мелкий кустарник в низинах и ложбинках, а вокруг них камни и вереск.
«Что касается бития палкой и рукоприкладства, пусть мне будет дозволено заметить, что я не использовал оных со среды 22 октября, что бы ни говорили арестованные финны».
Я ехала медленно. Все вокруг было открыто, полный обзор Но все равно я не могла сосредоточиться и была где-то далеко отсюда. Не могла думать ни о дороге, ни о пейзаже, ни о руле, который держала в руках. Как будто все мысли кончились навсегда. Как будто я ехала по плоской спине большого зверя, который в любой момент мог подняться и стряхнуть меня. У меня не было в жизни ни зацепки, ни точки опоры.
Но это же не так, Лив, услышала я внутренний голос маленькой разумной Лив. Ты же пастор, ты сведуща в Писании, ты окрыляешь паству. Люди приходят к тебе со своей душевной болью, и для них это общение что-то значит. Да, да. Я хотела обернуться и посмотреть в глаза этому внутреннему голосу, показать ему всю пустоту его аргументов, чтобы он сам в этом убедился и замолчал.
Я хорошо знала, что меня вполне можно заменить. Кто-то другой надел бы облачение, сидел в церковной конторе и выполнял мои функции. Другие руки могли бы раздавать облатки из пресного теста, осенять крестом грудь и лоб младенцев.
Разве ты не этого хотела, Лив, не потому ли ты все-таки стала пастором? Чтобы вырваться из тесной оболочки, разжать эти тиски. Чтобы не было так, как во время работы над диссертацией, – когда сжимало виски и слова теряли реальность.
Ведь так оно и происходило, тогда в Германии, год тому назад. Все постепенно выхолащивалось, как будто я ехала сквозь туннель, который все время сужался и наконец совсем сошел на нет. Слова стали такими резкими, что потеряли смысл, они не могли выразить самое важное. Потому что это важное было круглым и подвижным и ускользало, а слова в моей диссертации – слишком узкими, угловатыми, и поэтому из них исчезло все, что имело значение и смысл.
А потом случилась беда с Кристианой. И я уехала сюда.
Я сделала последний поворот на пути в город. Издалека было видно, как он был спроектирован. Сначала разложили на столе большой лист бумаги и нарисовали на нем линии. А потом начали копать землю, линии стали улицами, а план – реальностью.
Язык – реальность. Так же, как и пастор, который бил людей палкой, рукой. Все это попытки пробиться к смыслу. Как маленькое сердечко на ее руке, стрелка с вымпелом. Оно было выжжено, но не помогло, не оживило и не согрело.
Я встала на обочине, потом въехала в гараж. Открыла дверцу машины, спустила на землю ногу и попала во что-то холодное, в воду. Видно, растаял снег, лежавший здесь всю зиму. Было холодно до боли. Я выхватила ключ из зажигания и вскочила на небольшой сугроб. Потом пошла к дому по протоптанной тропинке. Монотонно гремела музыка.
Окна в комнате Майи были занавешены. Я представила себе, как она лежит в постели в своей комнате с темно-красными гардинами, красными стенами и картинами в рамках золотистого или черного цвета, с изображениями богов самых различных религий.
Я вспомнила, как она в первый раз показывала мне свою комнату. Наверно, хотела меня испытать. Она смотрела на меня и крутила кольцо на большом пальце руки. А потом упала на кровать, уставилась в потолок и заявила, что красный цвет связывает всех людей и все веры, что это цвет крови и что именно поэтому она так окрасила стены.
Я представляла себе Майю в красной комнате, посреди громкой музыки, грохота и плавного потока, который не останавливался ни на секунду, чтобы перевести дух. Я видела, как она лежит на кровати, на лиловом лоскутном одеяле, которое сама шила всю зиму.
Сначала она разложила на полу в гостиной лоскуты материи – лиловые, сине-лиловые и красно-фиолетовые. И сказала, что специально разбросала их так, чтобы быть уверенной, что не получится никакой системы. Я не стала возражать, не сказала, что она сама себе противоречит, а просто нагнулась и потрогала блестящие лоскутки. Некоторые были из парчи, другие – с золотой нитью, третьи – матовые, четвертые – с серебром. У меня закружилась голова, когда я смотрела на них, как будто узор был особым миром, который затягивал меня, и я боялась туда упасть.
Упасть и снова попасть в Германию, в мастерскую Кристианы, уставленную ящиками и коробками с кусками ткани и масками. Куклы – большие и маленькие – лежали сверху на коробках, висели на стенах или свешивались с потолка. А еще реквизит, мебель, миниатюры, маленькие набивные стулья и столы, кровати, щетки для волос, игрушечная еда из пластмассы и фарфора. Здесь же она сшила и мою столу; должно быть, работала несколько дней или ночей, ведь она спала очень мало; она как-то упомянула это вскользь, но я невнимательно слушала и не помню, что именно она сказала. Средняя часть столы была так же сделана из лоскутов, как и одеяло Майи, только из светлых, почти белых, бледно-зеленых, голубых и лиловых.
Нет, не надо падать, подумала я, надо остаться здесь, потрогать одеяло, побродить по комнатам и поболтать о чем-нибудь.
– Мне это напоминает поморов, – сказала я тогда Майе, когда мы с ней были в гостиной вдвоем, – поморскую торговлю. Это было очень давно. Поморы привозили с собой такие ткани. – Я посмотрела на лоскут в своих руках – он был темно-синий. – Может, они были и у тебя в роду.
Мы взглянули друг на друга и улыбнулись. Нанна родила Майю в шестнадцать лет, ее отец был наполовину финном, наполовину русским, они собирались пожениться и родить двенадцать детей, но он взял и исчез, перед самым рождением Майи, и Нанна никогда больше о нем не слышала.
Я стояла на крыльце дома и держалась за дверную ручку, но не входила, а продолжала стоять, слушая грохочущую музыку и переминаясь с ноги на ногу в мокрых ботинках. Подошвы оставляли зигзагообразные следы, и я вдруг вспомнила ткачиху из книжки «Мио, мой Мио», которую я читала Лиллен. Как она вставила в пальто Мио, латая дырку, кусочек своей волшебной ткани. И когда он потом выворачивал пальто наизнанку, то становился невидимым. Так он выбрался из ловушки и вступил с рыцарем Като в поединок, ставший для Като последним. Эх, если бы я могла вшить волшебный лоскуток в одеяло Майи. Разве не это же пыталась сделать Кристиана, разве не хотела она вшить такой же кусочек в мою столу? Так, чтобы я сумела помочь ей в бою? Но в своем последнем бою она все равно обошлась без меня, меня там не было, и я не помогла ей.
Синяя кукла двигается в круге света в темной комнате. Девушка там, в рыбацком поселке, не была куклой. И Кристиана тоже не была. Я представила себе все зазоры, промежуточные слои – между людьми, между одетым в черное кукловодом, куклой и комнатой, в которой мы все сидели и смотрели.
А теперь вот Майя. Я видела, как она лежит на кровати, на спине, посреди громкой музыки. Казалось, что кровать начала вращаться, что я смотрю на нее сверху, а кровать крутится все быстрее, быстрее и становится все меньше и меньше и падает. Я с трудом удержалась, чтобы не рвануть дверь и не ворваться в комнату, чтобы не дать Майе исчезнуть.
Я подошла к двери и постучала два раза, пробиваясь сквозь музыку. Я слышала стук своего сердца.
– В чем дело? – раздался ее голос.
– Это я. С тобой все в порядке? – Ответа я не услышала. Только музыку. – Я только хотела спросить, все ли в порядке, Майя, – крикнула я еще раз.
Я посмотрела на свои ноги, кожа мокрого ботинка почернела, и на дорожке появилась вода, мокрое пятно. Я подумала, что из человека тоже вытекает жидкость, когда ослабевают мускулы.
– Все ли у меня в порядке? – крикнула она, и я не поняла, то ли она рассердилась, то ли в голосе прозвучала насмешка. Было, однако, ясно, что другого ответа не будет.
– Нанна и Лиллен в поселке, – крикнула я, – я буду наверху. Заходи, если хочешь.
Я постояла немного и подождала ответа, но его не последовало.
Я прошла мимо кухни Нанны. Все было прибрано, но выглядело пусто, как будто здесь и не жил никто. Я остановилась на пороге – большая кухня в пасторском доме, со шкафами из сосны и длинным столом у окна. Скамейки и стол пусты. С улицы проникал слабый свет, солнце скрылось, наверное, набежали облака, здесь все так быстро меняется.
Как на застекленной веранде тогда, год тому назад. Там было пыльно и неубрано, но свет был такой же матовый. Я стояла на застекленной веранде и слышала, как дочка Кристианы ходит по комнате. Свет проникал через окна и падал на подушки, матрас и на пол пятнами различной формы – дугами, длинными прямоугольниками и квадратами. Я помню, как я стояла и внимательно смотрела на них, на все кругом, как будто хотела сохранить в памяти узор.
Нанна не любила заниматься мелочами. Готовить она тоже не любила. Зато я любила, и поэтому часто готовила на большой кухне, и мы ели вместе. Однако это не вошло в систему, и я каждый раз осторожно спрашивала, не приготовить ли обед. Я стучала в ее кабинет в церкви, ждала, пока она откроет дверь, и спрашивала. И чаще всего она говорила: «Да, спасибо, это очень здорово», улыбалась, откидывалась назад, вытягивала свои короткие сильные руки и складывала их на затылке, прежде чем снова взяться за работу.
Но иногда она отвечала, что не надо, и тогда я говорила: в следующий раз. Я была ей благодарна за то, что она не объясняла, почему не надо. Ни вопрос, ни ответ не были нужны.
Я стояла на пороге и смотрела на кухню. В голове мелькали картинки – вот Лиллен входит в дом, вся в снегу после катания на санках в свете фонаря на дороге, а я приготовила на обед рыбу с овощами в котелке, а она ее терпеть не может., Она затопала ногами, так что с нее ссыпалась кучка снега, и закричала, что ненавидит рыбу. Начала плакать от злости, кричать, что мы ведь знали, что она не любит рыбу. И почему на обед никогда не дают то, что она любит? Она брыкалась, задевая Нанну, которая помогала ей снять комбинезон и сапоги. Мы сели за стол, прочитали молитву, и я разложила рыбу по тарелкам. Майя рассказывала что-то, и Лиллен все съела, она брала ложкой большие куски рыбы, а когда на тарелке остались только овощи, протянула ее вперед и сказала: «Хочу еще рыбы». И я положила ей еще, она взяла свою тарелку, посмотрела на нее и на меня и сказала, что очень вкусно. И как я не догадалась, что рыба в котелке – это так вкусно. Мы засмеялись, а довольная Лиллен не спрашивала, почему мы смеемся, а только ела рыбу.
Я вспомнила о вечерах, проведенных наедине с Лиллен, когда я варила какао, пекла булки и читала ей книги. Она любила слушать про Давида и Голиафа, Иакова и Исава, про небесную лестницу. Ей нравилось, что он положил голову на камень и что там была лестница, которая вела до самого неба. Как в сказке про стебли фасоли, говорила она, и мы читали эту сказку и другие сказки.
Она говорила мало и редко что-то рассказывала. Я могла спросить ее, с кем она играла в детском саду или что она думает об историях, которые мы читали, и тогда она коротко отвечала. И чаще всего говорила, что ничего не думает.
Однажды вечером, когда мы были вдвоем и ей было пора ложиться спать, я стала задергивать гардины, она попросила меня этого не делать.
– Тогда папа меня не увидит, – сказала она.
– Ты думаешь, что он стоит на улице и смотрит на тебя? – спросила я.
Она посмотрела на меня и не ответила.
– Я устала, – сказала она, натянула одеяло и повернулась к стене.
Я сидела и держала ее за руку, пока она не заснула. Она приклеила новый рисунок к изголовью кровати. При слабом свете я видела две прямые вертикальные черты и несколько поперечных. Я смотрела на рисунок и не сразу поняла, что это лестница. Зеленая лестница. Черточки были доведены до края бумаги, как будто она хотела показать, что они идут дальше, что лестница продолжается, что на рисунке изображена только середина лестницы, которая идет дальше, вверх и вниз.
Я повернулась и вышла из комнаты, затворила дверь в квартиру Нанны, поднялась наверх и пошла к себе. Снизу из комнаты Майи все гремела музыка. Я было забыла про нее на минуту, но теперь слышала только ее и не могла ни на чем сосредоточиться.
За окном торчали голые ветви деревьев, за ними был виден фьорд, снова прояснилось, и светило солнце, отражаясь в воде. Я подошла к письменному столу, села и посмотрела в окно. Вон там – фьорд, а здесь – я. Я здесь, и наступила весна. Я снова попыталась сосредоточиться. Но мысли куда-то ускользали.
Весна в маленьком городке на юге Германии. Через город протекала река. Она была серо-зеленого цвета и текла тихо и плавно под свешивающимися ветвями деревьев. Небольшой плоский островок, по которому можно было гулять, со скамейками вдоль дорожек, в тени. Все там было так тихо. Осень стояла теплая. Город с фахверковыми средневековыми домиками расположился вверху по склону. На самой вершине находился старый замок, или дворец, как его называли, в котором разместился теологический факультет. Из аудитории были видны зеленые холмы около Эстерберга и Ванне. Дымились высокие трубы предприятий, расположенных в промышленной зоне по другую сторону склона. Их, однако, не было видно ни из дворца, ни из моей комнаты, находившейся на другой горке. Изгибы, низины и ложбинки скрывали и защищали город, так что он как бы прятался у излучины реки.
Дорога домой шла через старинный заросший ботанический сад, мимо больницы, через перекресток, а затем вверх по крутой горке. Hohe Steige[7]7
Крутой подъем (нем.).
[Закрыть]. Наверху еще один поворот, вокруг Шиллерштрассе, затем опять налево, на Лессингвег. Достаю ключ, прохожу через темный сад, захожу в дом, поднимаюсь на второй этаж и вхожу в комнату. Подхожу к окну и гляжу на улицу. Передо мной сад с высокими зелеными деревьями, за которыми ничего не видно. Но потом листья опали, и зимой открылся красивый вид. Именно тогда я встретила Кристиану, в феврале.
А год тому назад, в конце марта, я стояла у окна в своей комнате. Я была точно такая же: то же тело, те же глаза. И Майя со своей музыкой тогда еще не сделала пирсинг. А та девушка там, на камнях, должно быть, оканчивала тогда училище и готовилась получить диплом сварщика. Ленсман обмолвился о том, что она недавно закончила учиться. В конце марта прошлого года она вставала по утрам, сидела на кухне и завтракала, одевалась и выходила из дому. Она тогда еще, наверно, жила с родителями. Надо будет позвонить им.
«В глубине души я был рад тому, что эти злые силы вырвались наружу. Это намного лучше, чем если бы они оставались необнаруженными и таились во мраке».
Так думал пастор, еще задолго до бунта.
Вот так всегда, мы думаем, что достигли ясности, а на самом деле далеки от этого.
Я посмотрела на свои разложенные по столу бумаги. Когда же на самом деле начался этот бунт? Ведь не утром же 8 ноября. Должно быть, он зародился раньше, намного раньше. Наверно, еще в XIV веке, во времена первых норвежских поселений, ранней колонизации. Передо мной была стопка старых коротких сообщений с провалами и сдвигами во времени. Если разложить их по порядку, получится примерно такое описание событий.
Утром 8 ноября 1852 года к церкви подъехала процессия на оленьих упряжках. Они ехали по льду и снегу по замерзшей реке из лагеря. По дороге заехали в другой поселок, чтобы собрать больше народу. Тех, кто сопротивлялся, увещевали, угрожали и даже били. Всего собралось тридцать пять взрослых и более двадцати детей не старше тринадцати лет. Решено было ехать освобождать церковь от греха. Они действовали во имя веры и хотели уничтожить зло. Считали себя посланцами Божьими и ехали со священной миссией во имя свободы, истины и обращения.
Они двинулись в путь на рассвете и приехали около восьми часов. Ворвались во двор дома лавочника, вооруженные дубинками и кольями. Во дворе уже убрали снег, и там находились лавочник и живший в его доме ленсман. В поселке не было особого дома для ленсмана, эту должность обычно занимал кто-то из местных саамов, но в этом году им впервые был норвежец.
Что те двое делали во дворе? Об этом ничего не известно. Может, принимали товар или рубили дрова. А может, просто стояли, курили и разговаривали.
Лавочника забили прямо во дворе дубинками и кольями. Ленсман скрылся в доме и заперся на чердаке. Говорили, что он уже был ранен. Они обнаружили его спустя несколько часов, разрубив дверь топором. Что он делал – лежал на кровати, истекая кровью, или стоял на коленях и молился?
Рассказывали, что двое держали его за руки, а третий вонзил в него нож, и нож был такой тупой, что его пришлось заколачивать в тело поленом.
Потом они забрали из дома и кладовых все, что могло пригодиться, а пленников собрались везти в свой лагерь. Взяли кофе, сахар, масло и муку. Обувь из оленьей шкуры и шерстяные вещи. Топоры, ножи и швейные иглы. Обчистили также склад и сложили товар в сани.
С ними были дети. Они находились там же, среди взрослых, сновавших туда-сюда и собиравших вещи, рядом с лежавшим на снегу трупом лавочника, он был весь в крови и с откусанным носом: кто-то откусил его во время схватки. Бунтовщики сказали, что оставили все ненужное, оно от дьявола и подлежало сожжению. Однако записано, что дети подбирали морошку, хлеб, сыр, молоко, инжир и репу.
Потом устроили грандиозную пьянку, разбили все окна и подожгли дом. Труп ленсмана сгорел в доме.
Женщин, детей и прислугу отвели на пасторский двор и заперли вместе с пастором в большой гостиной. Их раздели догола и стегали березовыми хворостинами и прутьями. Порка кнутом или розгами должна была побудить людей к осознанию своей вины и обращению. Среди пленников были женщины с маленькими детьми, даже с грудными, в колыбельках. Дети плакали. Все окна в пасторском доме разбили. А на дворе было минус тридцать.
К вечеру на помощь пленникам пришли люди из другого поселка, на расстоянии одной мили вниз по реке. В сумерках между ними и восставшими произошла схватка.
Пленников в пасторском доме освободили. Восставших связали и заперли в амбаре. И мужчин, и женщин. Некоторых держали там до 19 декабря, когда ушел последний транспорт с арестантами – они лежали связанные на санях, запряженных оленями.
Но когда же все это действительно началось? Когда?
Снизу раздавалась музыка Майи. Как они называют такую музыку – фанк, хаус, рэйв? Только сплошной и непрерывный грохот. Как «йойк», саамская песня, такая длинная и протяжная, как будто внутри музыки – пейзаж. Хотя может, я только воображаю высокогорные равнины, когда слышу «йойк», а потом приписываю это песне.
Наверное, все началось за год до этого, со скандала в церкви на острове, во время летнего выпаса, в июне. Тогда те же саамы устроили нечто, о чем пастор доложил как о беспорядках во время богослужения, мешавших его проведению. Один из саамов поднялся и обвинил пастора во лжи, назвал его нераскаявшимся грешником и дьяволом.
Тогда все ограничилось скандалом, и никто не погиб. Однако последствия были: сначала осудили шестерых саамов, а к концу зимы еще несколько человек приговорили к уплате штрафа и разным срокам тюремного заключения – от нескольких дней до нескольких недель на хлебе и воде.
В октябре, четыре месяца спустя после событий в церкви, пастор набросился с палкой на группу саамов. Это произошло в его доме, и, согласно хронике, он действовал в порядке самозащиты. Он написал епископу, что саамы окружили его. Должно быть, они ему угрожали, и он испугался. Но об этом он ничего не написал, только про самозащиту.
А затем в первое воскресенье адвента того же года случился новый скандал в церкви, на этот раз его учинила молодая женщина. Из хроники следовало, что она была свояченицей одного из зачинщиков бунта, которого впоследствии казнили за участие в нем.
Утром того дня до службы к пастору подошла группа саамов, желавших причаститься. Пастор должен был определить, подлинно ли они раскаиваются в своих грехах, достойны ли принять Святых тайн во оставление грехов. Он отказал им.
Когда он начал проповедь, уже во время службы, поднялась молодая женщина и крикнула, что он проповедует фальшивое и лживое учение. Не слушайте его. Как можешь ты, блуждающий в потемках, указывать нам путь к свету? Ей было двадцать четыре года, и она была на сносях. Раздались голоса за и против, и поднялся такой шум, что пастор долгое время не мог вставить ни слова.
Позднее женщину обвинили в нарушении благочестия в церкви и приговорили к тюремному заключению сроком больше года. Чтобы избежать заключения, она со всем семейством переселилась в горы. С ней были дети, муж и его братья и родители.
Через год, в ночь на 8 ноября 1852 года, вся семья возвратилась с гор. Они двинулись в путь на санях, в оленьих упряжках. Мечом и щитом им служила та справедливость, которую они обрели в Слове, в Библии. Разве не написано там, что вера сдвигает горы? Что последние становятся первыми? Разве не написано, что всякий просящий получает и стучащему отворяют двери? Разве не этого они хотели – чтобы перед ними раскрылись двери? Чтобы все, что написано, оказалось явью. И для них тоже. Ведь сказано же, что перед Богом все равны.
У меня замерзли руки. Я сидела, оглушенная музыкой, и смотрела на лежащие передо мной на столе бумаги, документы и мои записи. Мысли расплывались как медузы, казалось, что голова полна воды и они плавают там, передвигаясь, собираясь вместе и снова растекаясь.
Вот я сижу здесь, бросив в Германии аспирантуру по систематической теологии. Уехав прочь от всего.
Я никак не могу понять, когда же, собственно, началось это движение, кажется, вообще невозможно ясно определить какое-то начало, какой-то определенный момент. Все начиналось как-то смутно и неясно, словно расползалось в темном зале, в котором еще не зажгли свет, на большом снежном пространстве, посреди холода, зимней ночи на высокогорной равнине.
Из кипы бумаг торчит образ св. Изабеллы. Я вытаскиваю открытку и разглядываю ее. Святая Изабелла стоит, наклонившись. Изображено только ее лицо, карие глаза. Взгляд смиренный, как будто она смотрит на больного ребенка. Эта картина XVI века. Волосы не видны – на ней одежды монахини или медсестры, возможно, тогда это было одно и то же.
Я вспоминаю крестовый ход – обходную галерею в монастыре, – где эта открытка стояла на подставке в то воскресенье. Я увидела фотографию монастыря в институте, узнала часы посещения и приехала. На автобусе. Это было в конце февраля. Автобус остановился в маленьком поселке на равнине, дальше надо было идти пешком.
Монастырь стоял на фоне черной земли и голых деревьев и выглядел заброшенным. Внутри было холоднее, чем снаружи. Большая тяжелая дверь вела из церкви в переход к монастырю. Ее мне открыла монахиня, она впустила меня и ушла, оставив одну.
Крестовый ход был квадратным, с небольшим садиком в центре. Со всех сторон сад окружали стены со сводчатыми окнами. Здесь монахини ходили с крестами и четками, молились. Я медленно обошла сад несколько раз. Выглянуло солнце, слабое зимнее солнце осветило сад и окна, на каменных плитах появились светлые пятна. Стоять в этих солнечных пятнах казалось теплее. Было очень тихо.
Было так тихо, все во мне было так тихо тогда в Германии, всю осень, Рождество и весь длинный январь. Я была почти все время одна. Посещала некоторые лекции, которые имели отношение к диссертации, и общий теоретический семинар. Иногда пила пиво с ребятами из исследовательской группы, но почти ни с кем не разговаривала, кроме продавщицы в магазине, библиотекарши и билетерши в кино, куда ходила по вечерам и смотрела старые фильмы. Я жила, как бы отстранившись, спрятавшись в какую-то нишу.
Мне казалось, что я упала глубоко вниз, выпала из всех связей, как будто мои собственные мысли отдалились от меня, я бродила в каком-то туманном состоянии, совершенно непонятном, я не знала, хорошо это или плохо, никак не могла ни за что уцепиться, мне нечем было цепляться, я была ничем.
Это произошло в тот день, когда я стояла в промозглом крестовом ходе. Было очень тихо, я ощущала на своем лице слабые лучи солнца. В тот день я оказалась на пороге чего-то тонкого, светлого и ясного.
В церкви на столике с брошюрками я увидела открытку с изображением св. Изабеллы, на подставке. А когда я вышла из церкви с открыткой в руках, я встретила Кристиану. Именно в тот день. У нее улетела шляпа, и мы бегали за ней, а когда шляпа в конце концов оказалась у стены, мы рассмеялись и поехали вместе домой.
Нет, я уехала из Германии не потому, что хотела сбежать, я уехала к чему-то, куда-то. Но к чему, Лив?
К Богу? Да, если употребить это слово, то, пожалуй, я назвала бы это Богом. Но не чем-то духовным в смысле далекой от жизни эстетики, а определенной позицией, обязательством. Пространством, которое должно быть открытым для встречи с людьми, пространством между людьми, между нами всеми. Бог как обязательная и обязывающая любовь к ближнему. Если называть что-то Богом, то только это. Но я не называла это Богом, когда тихо думала про себя. И я приехала сюда, чтобы прийти к этому, уйти в него. К другим людям. К тому, что было и есть. Как слабый свет в крестовом ходе в монастыре в тот день. Чтобы быть причастной. Быть.
Я прошла практику, а затем продолжила занятия теорией, потому что не могла себе представить, как я встану перед паствой и начну проповедовать. Я не могла произносить слова, не чувствуя их значимости. Теперь я это делаю. Я говорю слова, которые красиво звучат, хотя я не уверена, что они не пустая риторика и действительно несут в себе нечто. Теперь я умею это делать и делаю. Или у меня просто нет выбора.
Я произношу слова, достаю их, обозначаю. На большее я не способна. То, другое, должно прийти само, если получится.
Нет, эта музыка не дает мне думать. И невозможно звонить родителям девушки в таком шуме. Я поднялась, взяла с собой несколько книг, бумаги и собралась идти в церковь.
– Лив, – раздался позади меня голос Майи. Я стояла в высоких резиновых сапогах у открытой наружной двери. Ботинки сушились в гостиной у обогревателя. Ее голос звучал слабо и тихо.
Я обернулась. Она стояла в дверях в одном из своих старых черных платьев, купленных на барахолке и перешитых, и в шерстяных носках. Она посмотрела на меня своими серыми глазами. Было что-то необычное в ее взгляде, глаза были как раны. Казалось, ей больно потому, что я смотрю на нее, казалось, она хочет, чтобы я отвернулась и в то же время, чтобы я на нее смотрела. И весь этот пирсинг на лице для того же – чтобы смотрели на него, а не на нее. Смотри на меня, не смотри на меня, смотри на меня сквозь пирсинг.








