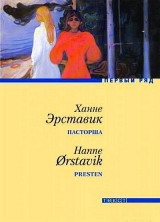
Текст книги "Пасторша"
Автор книги: Ханне Эрставик
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
– Так что я приехал несколько дней назад, с палаткой, спальным мешком и удочкой, – произнес он.
И тут же в моем воображении мы оказались в палатке, она была синего цвета, дул сильный ветер, натягивая палаточный брезент, а мы сидели рядышком в спальных мешках, и он обхватил руками колени. Нет, не так, он стоял рядом со мной на замерзшем снегу, на дороге, которая шла вдаль, и что-то говорил, а я смотрела на него.
– Возможность видеть и понимать одновременно, – сказал он, – вот что мне нравится в геологии.
Он посмотрел на меня, улыбнулся и в темноте обвел рукой фьорд и все вокруг.
– Видеть ландшафт: гребень, ложбину – и понимать, почему все выглядит так, как образовалось. Почву под ногами, буквально говоря.
Его голос заполнял собой всю мою голову и звучал во всем моем теле, голос был бодрый, низкий и теплый, от взгляда на его рот у меня начинало щекотать в горле. Он рисовал в воздухе, водя рукой вверх и вниз, создавая для меня пейзаж, накладывая ухабистые завитушки на серую плоскую поверхность, которая была там, на другой стороне фьорда, ее было видно днем.
Слой ложится на слой, и получаются горы, говорил он, а потом они приходят в движение, происходят изменения, сдвиги, уплотнения. Чрезвычайно медленно, год за годом.
Мы пошли дальше. Он рассказал, где получил квартиру – в одном из служебных зданий губернской коммуны, на окраине города.
– Здесь же нет никакого перехода, – произнес он, – между городом и равниной.
Я поняла, что он имел в виду, на окраине склон у фьорда был более пологим, чем здесь.
– Так я никогда не жил раньше, – продолжал он, – это совершенно невероятно. Дома вдруг заканчиваются, и все. Никакой другой границы, ни деревьев, ничего. Холм просто продолжается дальше, а дома стоят как маленькие кубики, словно в «Монопольке».
Мы прошли мимо ворот пасторского дома. В окнах было темно. Мы пошли дальше. Здесь я живу, могла бы я сказать, но не сказала. Почему?
Мы прошли мимо, и я ничего не сказала. Как будто бы уже тогда я сделала выбор. Я шла рядом с ним, смотрела, как он выбрасывает вперед свои длинные ноги, ставит рядом с моими. Казалось, однако, что я уже вижу, как он исчезает. Он скользил вперед и исчезал из виду, как маленькая точка.
Но выбора не было. Я не хотела этого, совсем не хотела. Однако так случилось.
Казалось, и он тоже что-то почувствовал. Что вдруг исчезло то, что было между нами, мы что-то несли вместе, и вдруг оно пропало. Он замолчал, мы шли, не произнося ни слова. Можно ли было повернуть и пойти назад, прокрутить пленку вспять и найти утерянное в снегу у ворот пасторского дома? И почему оно исчезло именно там?
Что такое со мной, почему я не могу просто сдаться на волю волн, что заставляет меня останавливаться и цепенеть?
«Я не суровая», – хотелось сказать, хотелось взять его за руку и сказать ему это, закричать, в темноте над фьордом, я хотела кричать об этом повсюду, чтобы все услышали, вся паства, весь мир: я вовсе не строгая, не твердая и не трудная. Вы слышите? Я хорошая и добрая. Слышишь? Я хорошая и добрая.
Я хочу врачевать раны.
Вот что надо было сказать ему, когда он спросил, почему я стала медсестрой. Он спросил об этом там, на концерте.
Или я могла бы сказать это, когда мы пришли к ряду низких, одноквартирных домов, где он жил, к длинной белой стене домов постройки пятидесятых, с отдельными входами и балконами с зелеными перилами.
Я представила себе, как он, когда станет теплее, выходит на балкон, стоит и смотрит на фьорд.
Я живу чуть поодаль.
И сижу там теперь в своей комнате у окна, за письменным столом с бумагами и документами, Библиями, на древнееврейском и греческом языках и в норвежском переводе. Библия, которую я привезла из Германии и часто читаю, лежит открытой.
Надо было привести его сюда. Он встал бы тут у стола, увидел бы книги и все понял.
– Ты совсем не медсестра, – сказал бы он.
– Конечно, нет, – ответила бы я. – Я пастор.
Я представила себе все это, как все было бы, если бы я тогда остановилась у ворот и пригласила бы его зайти. И он бы оказался здесь, в моей комнате.
– Я много думала об этом, пока училась, – сказала бы я, – что я хочу именно этого. – Я поворачиваюсь и мысленно смотрю на него. Врачевать раны. Но может, лучше мне все-таки было бы стать медсестрой. Лучше и для меня, и для остальных, я принесла бы больше пользы. С помощью пластыря, бинтов и уколов морфия.
Я смотрела на книги и не могла их различить, прочитать названия, я видела только линии и очертания, цвет обложек, зеленый кожаный переплет, красный, серый.
Мы стояли бы молча. Смотрели бы на наше отражение в оконном стекле.
– А вместо этого я теперь орудую словами, – сказала бы я.
– Да, – ответил бы он.
– Я думала, что смогу чего-то достичь.
– Да, – опять сказал бы он. Очень тихо.
– Иногда получается, – продолжила бы я. – Но все-таки со словом связано гораздо меньше, нежели я думала. Порой я роюсь, роюсь в словах и понятиях, и все равно не могу ухватить значение и объяснить его другим.
Он стоял бы рядом со мной, я смотрела бы на его руки, они лежали бы на какой-то книге, смотрела бы на пальцы, ногти. За окном уличный фонарь освещает дорогу, а дальше – тьма, фьорд, ночь.
– А ведь я хотела врачевать раны, – сказала бы я. – И вот не получается.
Он стоит рядом со мной у окна, но потом вдруг исчезает, пропадает, я смотрю сквозь стекло на улицу и вижу только уличный фонарь, фьорд и темноту. И вот я снова возвращаюсь и смотрю на эту плоскую поверхность, но никого не вижу рядом с собой, в оконном стекле – только мое отражение.
Я поднялась, вошла в спальню и разделась, опираясь о край кровати. Плюхнулась в постель и натянула пижамные штаны. В голове звучали какие-то слова, какая-то дурацкая считалочка. Я никак не могла от нее избавиться. Так тебе и надо, Лив, сказала я самой себе, не можешь идти, вот получи! Я натянула рубашку, застегнула пуговицу и ощутила прикосновение материи к соскам. Подумала о том, что вообще-то я их не чувствую. И никогда о них не думаю. Расстегнула пуговицу и посмотрела на них. Такие, как всегда. Мне было все равно, большие они или маленькие, красивые или нет. Ведь и для него это роли не играло бы. Нет, он просто был бы со мной. Совсем близко, я это чувствовала, видела его глаза, он был совсем рядом.
Мы стоим обнаженные, у окна в гостиной. Я так хочу. Хочу видеть нас так, наше отражение в стекле, в темном фьорде, посреди ночи и мерцающих огней.
– Видишь, – говорю я и беру его за руку, – вон мы.
– Да, – отвечает он, – мы.
Мы стоим так некоторое время, а потом он обнимает меня и притягивает к себе, он такой теплый и худой, высокий и сухопарый. Он валит меня на пол, и свет настольной лампы освещает его лицо и его карие глаза, которые смотрят на меня, смотрят, как я залезаю на него, и мы соединяемся, так что нас нельзя оторвать друг от друга.
Я не стала чистить зубы, я слишком устала, я раскинулась в большой кровати, мне одолжил ее один из прихожан. Я лежала с открытыми глазами, в комнате было светло, ведь у меня в, спальне не было занавесей. Когда я сюда приехала, ночи были темные, а потом наступило лето, и стало светло все время, но я не стала занавешивать окна. Зачем же закрывать дорогу свету, когда он наконец-то появился, настоящего тепла ведь тоже не было – я так ни разу и не надела летнего платья и не вышла без колготок, один только свет и говорил о том, что наступило лето. И как-то вдруг снова пришла осень, стало темнеть, а потом уже темно было все время, всю зиму.
Я лежала и смотрела в потолок, на темные полоски в проникающем слабом свете и представляла, что опять стою под каркасом, вешалами и лезу по бревнам вверх, одно бревно, следующее и еще одно.
Как будто можно было вскарабкаться наверх, на перекладину. Но ведь она так сделала. А оттуда она просто соскользнула вниз. Ее ничего не удержало, не подняло и не остановило. Она повисла и потом упала до самой земли, сквозь все перегибы и линии.
А они, эти линии и нити, шли от каркаса в мою голову, они никуда не вели, не было никакой системы. А сзади был фьорд, большой и открытый, а с другой стороны – горы и плоская равнина.
Я никак не могла заснуть. Осторожно откинула одеяло и села. Опрокинуть, что ли, стакан виски, чтобы мысли заскользили по линиям, ни на чем не задерживаясь? Я вышла в гостиную, заскрипели половицы. Я завернулась в шерстяное одеяло, уселась за письменный стол и включила настольную лампу.
Он спросил, почему я сюда приехала. Это было уже потом, после перерыва, когда я, пройдя через всю комнату, между столиками, подошла к нему и села.
Тогда это не пришло мне в голову. Я только что-то заметила, какое-то дуновение воздуха. Теперь же я четко это видела, видела расстояние между нами, оно было уже там, за столом, заставленным стаканами. Как будто все ускользало. Стакан не стоял на столе, мое тело не касалось стула, а ноги – пола. Это так трудно объяснить, в сущности, почти невозможно, тем не менее я ощущала это совершенно отчетливо и ясно. Но никак не могла осознать и объяснить.
Я открыла рот и хотела что-то сказать, но в этот момент он отвернулся. На секунду отвел взгляд и посмотрел, как подошла и села наша соседка по столу. И я не стала ничего говорить. Как будто, чтобы разобраться в том, о чем он спросил, мне нужна была помощь. И она заключалась в его взгляде. Пока он смотрел на меня, я пыталась нащупать ответ. Такое у меня было чувство. И вдруг он отвел глаза, всего на секунду. Но этого оказалось достаточно, чтобы я снова растеряла все мысли. Я закрыла рот, улыбнулась, подняла бокал и посмотрела на него.
На ум вдруг пришел Петр, который также захотел идти по воде и шел, пока смотрел на Иисуса. А когда посмотрел вниз, начал тонуть.
Я смотрела на глаза в оконном стекле. Может, поговорить с ними? Но что сказать? Знаю ли я, зачем сюда приехала?
Свет факела в ночной тьме, на снегу, сто пятьдесят лет тому назад, в тридцати милях отсюда. Из-за этого я приехала? Чужое дыхание у самого уха, низкие возбужденные голоса на непонятном языке. Утром они приезжают и убивают, врываются в дом, бьют окна и хлещут березовой хворостиной. Хлыст свистит в воздухе и попадает в цель.
Было так тихо, я взглянула на бумаги и записи, разложенные на столе. А потом вновь на лицо, отражавшееся в стекле.
Вспомнила то, что написала в заявке на стипендию: восстание вскрывает многоплановость конфликта и язык – его сердцевина. Язык Библии стал вместилищем различных культур и языковых традиций, отразил меняющееся отношение к власти.
На первый взгляд речь шла о конфликте в обществе и о власти. Но разве потому я им заинтересовалась? Я ведь чувствовала, что эти события касаются и меня, что это и мой конфликт, причем я не примыкаю ни к одной из сторон, а стою посередине. Почему? Неужели только из-за культурных традиций?
Очевидно, на самом деле речь шла о чем-то другом, связанном с языком. Вернее, не с языком как таковым, а с чем-то внутри него, о самом главном. Том, вокруг чего строится весь текст Библии.
Невиновных не было. Они убивали ножом и топором и подожгли дом. Не было безгрешных. Ни одна из сторон не была святой и невинной. Не было правых. А то, что должно было быть открытым и общим достоянием, было замарано и искажено.
Но было и еще кое-что. Что-то в самом восстании, дикое и неуправляемое, упертость людей, нутром чувствовавших, что где-то должна быть истина. Это чувство не давало им покоя. Они должны были добраться до нее, вырезать и взять в руки, как они это делали, когда забивали северных оленей, распарывали брюхо и доставали живое, блестящее и липкое сердце.
Они хотели добиться чего-то истинного, верного, без обмана.
И получить признание от пастора, ленсмана и лавочника, хотели подняться на вершину горы и окинуть взглядом то, что было с другой стороны, землю обетованную, посмотреть, какова она.
Убедиться в том, что им рассказывали: что на той стороне озеро и наискосок протекает ручей, растет вереск и кустарник, а налево – болото.
Что все так и есть. И так и будет постоянно и неизменно.
Однако нож прорвал рубашку и кожу и вонзился в плоть.
Плоть – это только плоть.
Пролилась кровь, а кровь есть кровь.
Адом, который они подожгли, сгорел дотла.
И зачем тогда нужен язык? Какой толк от слов? Помощи ждать неоткуда. Нет ни стен, ни границы, ничего незыблемого.
Я услышала глухой стук на лестнице, звук открывающейся и закрывающейся двери. Машинально посмотрела на часы. Был четвертый час. Через пять часов Майе на работу. У меня свободный день, так как накануне была обедня. Может быть, у Майи появился парень и она ночевала у него.
Несколько дней тому назад я была на острове. Все дома там расположились во внутренней части, которая смотрит на город. Дул ветер, я прошла между домами, заборов нигде не было, только местами снег и мерзлая земля, сухая трава и вереск. Я вышла на равнину за домами, обращенную к морю.
Ветер был такой сильный, что охватывал меня целиком, как бы держа в руке. Такое же чувство, когда крестишь маленького новорожденного ребеночка. Я обхватываю его всего рукой и чувствую, какая она большая и сильная – рука. Головка целиком помещается на ладони. И вот так же меня держал ветер, большой сильной рукой, в которой я умещалась целиком.
Я подошла к самому краю обрыва, внизу были острые камни, скалы, пена и черная вода, я стояла и чувствовала, как чья-то рука держит меня.
Я могла бы прислониться к ней и не упала бы.
Но вдруг я подумала: а что, если ветер одним рывком переменится, тогда меня сдует вниз, я не устою. Не за что будет ухватиться. Та же самая рука, которая прижимает меня к берегу, может скинуть меня вниз на скалы.
Я повернулась и побежала назад.
Всего несколько минут я продержалась на ветру, не думая ни о чем, просто стояла и отдыхала.
Потом спустилась обратно к домам, вернулась в город, показались рыбная фабрика и церковь вдалеке.
Я заснула, сидя за письменным столом, и проспала несколько часов. Когда проснулась, над фьордом появилась слабая полоска света, над линией горизонта по другую сторону фьорда. Я вышла на кухню, вставила фильтр в кофеварку и обнаружила, что кофе кончился.
Я спустилась на первый этаж, чтобы одолжить кофе у Нанны. Постучала в дверь. Ответа не было. Дверь была не заперта, я вошла в темный коридор и оттуда на кухню.
Там сидела Майя. Совсем тихо, у окна. Сидела и смотрела на улицу.
– Привет, – крикнула я.
Она не обернулась.
– Я только возьму немного кофе, – сказала я и открыла буфет. Взяла чашку, насыпала немного кофе и повернулась, чтобы выйти.
Взглянула на нее: она казалась застывшей. Может, позвать ее ко мне завтракать? Но, честно, мне именно сейчас не хотелось ни с кем разговаривать, хотелось только тихо посидеть и выпить горячего кофе, а потом залезть обратно в кровать и еще немного поспать. Хотя я знала, что не получится, даже не стоит и пытаться. Но разговаривать ни с кем не хотелось, это уж точно. Я сделала шаг к двери. Майя точно оцепенела, совсем как Кристиана тогда в церкви.
– Майя, – сказала я, – с тобой все в порядке?
Она не отвечала. Я не знала, что делать – просто уйти или же подойти к ней и сесть рядом.
– Я пойду наверх, – сказала я, – ведь ты идешь на работу, не так ли?
Она повернула голову. Совсем медленно, как будто была где-то далеко. Ничего не сказала. Казалось, будто она смотрела, но ничего не видела, во взгляде не было ни вопроса, ни ответа. Он был совсем плоский.
Я подождала немного и вышла.
Неужели она всю ночь так просидела – подумала я, поднимаясь по лестнице, ступеньки скрипели, и скрип отдавался в моей голове. Нет, у меня не было сейчас сил ни с кем разговаривать. Наверное, она как вернулась, так и сидела за столом. В коридоре было холодно. Я открыла дверь в свою маленькую кухню, там было так тепло, я закрыла дверь и как следует прижала ее, чтобы она не открылась. Подошла к кофеварке, включила ее и смолола кофе.
Я стояла у окна, держа в руке чашку кофе, и смотрела на улицу. Кое-кто уже спешил на работу. Видимо, был очень сильный ветер, было видно, как люди скрючивались, как будто старались обвиться вокруг себя, как бы складывались.
Я вспомнила свои пробежки по утрам в лесу за городом. Я выходила обычно рано, пока было тихо, и бежала от Лессингвег по Вальдхойзерштрассе. Навстречу уже шли люди по дороге на работу, в город. Я бежала по асфальтовым прогулочным дорожкам под большими развесистыми лиственными деревьями. До Риттвег и потом вверх по горке.
Вспомнила тот раз, когда мы бежали вместе с Кристианой. Я не стремилась к этому, я любила бегать одна, но она попросила, и я согласилась. Она зашла за мной утром в субботу в своем черном костюме, в розовых гетрах и маленьком розовом шарфике в белый горошек. «Ты что, и впрямь так побежишь?» Кристиана закружилась передо мной, плюхнулась на попу, я смеюсь, мы обе смеемся и бежим, совсем по другой дороге, чем обычно, гораздо дальше.
Именно в тот раз она привела меня к Хэртлесбергу, через Хойберг и Хагельлох. Светило солнце, мы бежали, потом шли и разговаривали. И смеялись, Кристиана выделывала такие фортели, что я не могла удержаться от смеха, мы передразнивали людей, обсуждали то, что она пыталась передать своими движениями, так смешно, пластично, точно и ясно.
Она водила меня к Хэртлесбергу только в тот раз, один-единственный. Солнце освещало небольшую долину и дорогу вниз между голыми деревьями. Может, она была для нее сценой, а ветви – перегородками? Или она не планировала ничего заранее, а просто привела меня в лес, куда обычно ходила? Может, и так, ибо она все здесь хорошо знала и вела меня не по главной прогулочной дороге, а по маленьким боковым тропинкам.
А может, она привела меня туда, чтобы я была своего рода свидетелем того, что должно было там произойти, что она предвидела, но еще не знала наверняка? Или знала? Тогда почему же ничего не сказала? Почему она никогда не говорила о том, что с ней происходит? Ничего я о ней не знала, как выясняется. Она казалась такой сильной, такой веселой. Возможно, чувственной, но и очень сильной. А ее удивительный смех, в котором я ничего не понимала, был таким легким и внезапным. Когда она смеялась, я теряла уверенность в себе, и у меня кружилась голова. А может, это она теряла уверенность, и у нее кружилась голова, а я ничего не понимала.
О, если бы я только знала, я бы смотрела за ней как за маленьким щеночком, ухаживала за ней и была бы с ней вместе круглые сутки, так чтобы она не оставалась одна, гладила бы ее и кормила.
И это ты, Лив, с твоими-то способностями заботиться о ком-то?
Как тогда, в Гефсиманском саду, когда Иисус попросил апостолов не спать и бодрствовать, а сам пошел молиться. Он начал скорбеть и тосковать, написано в Писании, и сказал им: «Душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною»[9]9
Евангелие от Матфея, 26, 38.
[Закрыть]. А когда Он вернулся, нашел их спящими, и Он сказал Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?»[10]10
Евангелие от Матфея, 26, 40.
[Закрыть]
О, я бы наверняка смогла. Я бы сделала все, что угодно, ведь что-то я могла бы сделать, хотя бы попытаться. Если бы я только знала, понимала, видела.
И это я, которая собиралась врачевать раны.
Я поставила чашку в мойку, убрала со стола. Подумала, что хотела сказать об этом ему, о том, чтобы врачевать. Я ведь вовсе не сразу начала заниматься теологией. Вначале я изучала политэкономию. Я старалась понять крупные системы, логику их функционирования, все взаимосвязи. Какие модели лежали в основе этой идеологии, которую уже больше так не называли, давая ей другие названия – так, капитализм получил с виду нейтральное название «рынок».
Так же и с саамским восстанием. Об этом много написано, о его экономических причинах, материальной стороне, как государство направило чиновников, чтобы завладеть территорией, назвать ее норвежской и взимать с саамов налоги. И вот саамы, которые уже на протяжении многих столетий платили дань нескольким странам, двойные и тройные налоги, вдруг обнаружили, что эти чиновники живут в их селеньях, причем за их счет, и смотрят на них свысока.
А в воскресенье надо было преклонять колени перед пастором, этим выходцем с юга, поскольку он, кроме всего прочего, ведал и Богом. И спасением, и прощением, и милостью Божьей. Вот так церковь встала на сторону власти и одобрила подчиненное положение саамов.
«Что касается бития палкой и рукоприкладства, пусть мне будет дозволено отметить, что я не использовал оных средств кроме среды, 22 октября, что бы ни говорили арестованные финны. И как они не боятся высказывать такую явную неправду, когда тому есть множество доказательств. Когда они стали оскорблять меня в моей комнате, их никто не бил – ни я, ни лавочник, ни ленсман, несмотря на их сопротивление. Я еще раз говорю, что я признаю, что мое поведение было неосторожным и даже неподобающим, но все же, господин епископ, я не раскаиваюсь в том, что я сделал в ту среду, однако мне было бы жаль, если бы подобное повторилось».
За год до событий той ноябрьской ночи священник взял в руки палку и пустил ее в ход, в первый и единственный раз, согласно его собственному признанию, он отбивался, когда они окружили его в доме, приписанном к церкви.
И пастор написал епископу, что это никогда не повторится, но что он не раскаивается в том, что сделал. Видимо, он затаил что-то в душе с того единственного раза.
Может быть, что-то вырвалось наружу уже тогда, когда пастор нанес те удары. Может быть, была виновата все-таки сторона власти, пробившая брешь в их взаимоотношениях, так что все накопившееся потекло наружу? Все неуправляемое – отчаяние, злоба и тоска? Была ли связь между его ударами и их «криками и прыжками», о которых пастор писал в своем письме епископу?
«Не успели мы, однако, тронуться в путь, как эти необузданные бабы и мужики с громкими криками и руганью встали на дороге и загородили нам путь, пытаясь оттеснить меня от моих спутников».
Я изучала политэкономию несколько месяцев, а потом перешла на теологию. В политэкономии были слишком большие бреши. Как будто находишься в гигантском цеху, а кругом снуют переменные величины в экономических моделях – такие большие автопогрузчики, которые перевозят ящики и поддоны, в которых все запрятано. И я никак не могла увидеть, что же там, внутри них. Только непрерывное движение. Я очень злилась на себя, что неправильно выбрала специальность. Может, бросить это и взяться за социологию или что-нибудь более мягкое и женственное? Не пытаться уразуметь эти системы, а взяться за что-то более «духовное» и «относительное»? Нет, нет и нет. Ни за что на свете. Никогда. И я вставала по утрам, приходила в аудиторию и сидела там с блокнотом.
Но как-то раз в ноябре, когда я вышла на открытую площадку между красными кирпичными зданиями, начался дождь. Я шла на лекцию в другое здание. Большие тяжелые капли дождя начали падать мне на голову, на лоб, стекали по ресницам на щеки, капали с носа на рот, подбородок. Дождь был сильный и холодный, мой блокнот промок. Я остановилась, положила его на землю, запрокинула голову назад. Я стояла под дождем, чувствовала, как он хлещет меня и как я все больше замерзаю и промокаю.
Я не планировала ничего заранее, не принимала никаких решений. Струи дождя падали на красные кирпичные здания и на меня. Я оставила свой мокрый блокнот на улице, вошла в здание факультета теологии, открыла дверь лекционного зала, нашла место и села. Лицо, волосы и одежда были мокрые, с меня капала вода. Я села в задний ряд и начала слушать.
Я никогда раньше не помышляла о теологии и не собиралась ее изучать.
Сейчас я могла бы найти объяснение своему поступку. Оглядываясь назад, можно сказать, что я сделала это, чтобы не погибнуть, чтобы не впасть в депрессию и не попасть в психушку. Что каждый должен заниматься тем, к чему чувствует призвание. И так далее. Но все это неправда. У меня были способности к политэкономии, и я могла бы стать хорошей медсестрой или социологом. Я не могу назвать одну конкретную причину своего поступка. Просто передо мной возникла картина: я стою в большом зале, это огромный склад, смотрю на автопогрузчики и вдруг проваливаюсь. Как будто почва уходит у меня из-под ног.
Я составила накопившиеся за последние дни тарелки в мойку, налила воды и моющего средства. В стакане стояли чайные ложки с остатками яйца, я положила стакан в мойку.
Могла ли теология стать такой надежной почвой под ногами? Вряд ли. Но я стояла там под дождем и чувствовала, что падаю, что больше не могу. Не могу бороться.
С чем?
Я не знала.
Я начала мыть посуду, запахло моющим средством, потом прополоскала чашки и тарелки и поставила их в сушку. Вытащила затычку, осмотрелась – вроде бы на кухне порядок, вытерла стол тряпкой и еще раз посмотрела вокруг.
Я спускалась к центру города, на дороге лежал мокрый снег, но до конца он не таял, не было настоящего тепла. Как здорово, если бы время летело быстро, как в фильме, чтобы сразу наступила весна и на моих глазах распустилась листва. Чтобы повсюду были слышны бодрые и радостные голоса, чтобы люди двигались, энергично, бодро вскакивали, если споткнутся и упадут.
Я спустилась к торговому центру, услышала крик чаек, видимо, у причала стояло рыбацкое судно, прошла мимо кондитерской. За столиками у окон сидели люди и курили. Я видела белые кофейные чашки, надпись желтыми витиеватыми буквами на окне. Вошла, остановилась у большого прилавка и посмотрела на булочки с марципаном, шоколадные пирожные, покрытые разноцветными крошками, школьные булочки, рождественские пирожные, пшеничные булки.
– А вам что? – спросила девушка за прилавком.
Она выглядела приветливо – с блеклыми кудряшками, в очках в коричневой оправе и красном фартуке. Я взглянула на булочки и пирожные на прилавке. Я вовсе не собиралась ничего покупать, вошла сюда машинально.
Девушка улыбнулась кому-то за моей спиной, кто сидел за одним из столиков.
– Пожалуйста, кусочек торта и чашечку кофе, – произнесла я.
Она кивнула, взяла небольшое блюдечко, достала лопаточкой маленький темный четырехугольник с миндальной начинкой, с желтым кремом посередине и тонким слоем шоколада наверху. Она отнесла блюдце к кассе, я заплатила, налила себе чашку кофе и села за один из столиков.
За соседним столом сидели две пожилые дамы из моей общины, и я кивнула им. Клиентов было немного, девушка вышла из-за прилавка, прошла и села за столик у окна, где сидело двое мужчин. Мимо проехала машина.
Я отломила вилкой кусочек торта. Было видно, как продавщица подняла пачку сигарет со стола, потрясла ее и спросила, можно ли взять. Один из сидевших кивнул, она вытащила сигарету, взяла со стола зажигалку, закурила, глубоко затянулась и выдохнула.
Сквозь сигаретный дым я увидела, что по улице идет Майя. Она шла вниз, к центру города, в шерстяной куртке и синих брюках от униформы. Она выглядела как-то странно, не смотрела ни вперед, ни по сторонам, шла, уставившись в землю.
Часы над прилавком показывали половину десятого. Наверное, она сегодня начинает позднее и работает до вечера. Наверное, устала после вчерашнего.
Надо было позвать ее к себе завтракать или, по крайней мере, еще раз заглянуть к ней. Ведь я не слышала, как она ушла, но я и не прислушивалась, вообще забыла о ней.
Мне захотелось выбежать и позвать ее, угостить пирожным и какао. Погладить по голове. Увидеть, как она улыбается, радуется, как сияют ее глаза. Согреть ее руки. Я взяла кофейную чашку и сделала глоток. И вдруг услышала разговор за столиком позади.
– Она же спит со своими братьями.
– Мало ли кто что говорит.
– Правда, правда, она даже аборт делала, и виноват был один из них. Все это знают.
– А я не знаю.
– Да ты даже заголовки в газетах не читаешь.
– Что верно, то верно.
Они рассмеялись.
Я поднялась, надела куртку и обернулась. Разговаривали две молодые девчонки, им, наверное, и двадцати-то лет не было, одна держала на руках ребеночка, совсем младенца, и качала его, раскачиваясь из стороны в сторону. Ребенок спал.
Когда я подошла к церкви, подул сильный ветер. Я отперла дверь и вошла. Погода так быстро менялась. Час назад казалось, что пришла весна, а сейчас дует почти январский ветер, и конца ему нет.
Все подшучивали надо мной по этому поводу, когда я приехала. Так, мол, бывает со всеми, кто приезжает с юга, они от долгой зимы с ума сходят. Вот увидишь, ты сама скажешь однажды: «Да когда же, наконец, весна?» И тут вдруг раз – и весна. Здесь, мол, все так. Все меняется в одночасье.
Я еще не произнесла этой фразы, но перед глазами все время был снег, казалось, что он выпал в день моего приезда и лежит с тех пор. Хотя я приехала в апреле и тогдашние пятна снега были с прошлой зимы. Видимо, здешний год – это снежный ком, а в нем маленькое отверстие, для лета. Но проходит неделя за неделей, теплей не становится, и отверстие все уменьшается. Может, в этом году лета совсем не будет и снежный круг замкнется.
Лив, сейчас только конец марта, сказала я себе и стряхнула снег с сапог, повесила куртку на крючок. Было еще рано. У меня сегодня свободный день, но должны прийти родители девушки – надо поговорить с ними о похоронах, ведь завтра я уезжаю на семинар.
Я стою в дверях кабинета и смотрю на каменную фигурку – голову тюленя.
А ведь я тоже могла бы родить ребенка, я представила себе геолога с младенцем на руках, а через пару лет еще с одним. И наконец-то я попала бы в зависимость. Кто-то постоянно нуждался бы во мне. Какое облегчение!
Да, да, я могла бы иметь ребенка, я могла бы дать ему то же, что и себе, – хлеб насущный и все остальное, мы могли бы разговаривать о простых повседневных вещах. Жить обычной жизнью и делать то, что требуется. Разве не так все живут – следуя привычке, делая бутерброды и мечтая о мире и спокойствии? Не шуметь и не ссориться, а вечером посмотреть фильм по телевизору. Налепить пластырь, почитать ребенку перед сном книгу, сидя на кровати, потушить свет, погладить его по голове и пожелать: «Спокойной ночи». Разве не так живут Нанна, Майя и Лиллен, да и я тоже?
Я включила кофеварку, нашла кружку, навела порядок на письменном столе. Выглянула в окно и посмотрела на толстый и тяжелый снег, из которого кое-где торчали сухие травинки и клонились от ветра.
Кристиана уехала от своего ребенка – бросила дочку на отца, когда той не было и года.
– Я была уверена в том, что с ним девочке будет лучше, я была такая вздорная, молодая, мне только исполнился двадцать один год. И я столько всего хотела успеть.
– Ich war nicht stabil[11]11
Мне было не по себе (нем.).
[Закрыть].
Я представила себе грузовик с огромными колесами, тяжелый, не сдвинуть. У Кристианы такая худая спина, что под футболкой видны позвонки – их можно было пересчитать. Мы стояли на веранде за сценой, она повернулась спиной ко мне и что-то делала.








