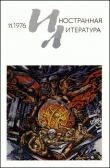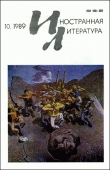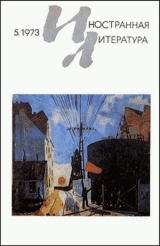
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
– Я и сейчас не люблю пива, потому что моя мать говорила: кто пьет пиво, может и человека убить, – говорит Ирена со своего наблюдательного пункта и с отвращением думает о бесчисленных гектолитрах, выпитых Паулем в ее присутствии.
– При виде мундира я всегда вспоминаю своего отца, который для воспитания военных в истинно немецком духе рекомендовал ввести школы палачей, – кричит Краутвурст в надежде затеять спор с Либшером, чтобы наконец сказать ему давно заготовленную фразу: «Удачливыми чаще всего называют людей, которые умеют заставить других работать на себя».
Но Либшер не слушает воспоминаний детства, выплеснутых вином и коньяком, он слушает только Тео, пытающегося объяснить господину Бирту, что он, как любой специалист в технической, экономической и всякой иной области, обязан контролировать качество и противиться указаниям, приводящим к снижению качества.
– А на снижение дисциплины тебе наплевать?
– Для профессора спокойствие – первая гражданская обязанность, – говорит Краутвурст.
– Вы разговариваете друг с другом, как враги, – примирительно говорит Бирт. – А ведь хотите вы все одного и того же.
– Как известно, большинство убийств происходит внутри семьи, – восклицает Краутвурст.
– Для ребенка отец, – говорит Тео, – это господь бог, учитель Шульце – это вообще Учитель, и все реки называются Шпрее, и все главы государств – Ульбрихтом, и всякий лес – сосновый. Но когда ты становишься старше, и твой отец уже не всезнающ, и ты уже повидал буковый лес, и слыхал о Волге и Миссисипи, тогда тебе порой хочется и самому что-то решать, у тебя появляется такая штука, как совесть, достоинство, уважение к себе, ответственность, самолюбие или какими там старомодными или нестаромодными словами это ни назвать. И тогда ты чувствуешь себя обязанным исправлять ошибки, если они допущены, и если награждают премиями плохие книги – говорить, что они плохие, во всеуслышание.
– Лучше бы ты, пожалуй, сказал это невропатологу, – говорит Либшер.
– А почему же вы этого не сказали? – спрашивает фрейлейн Гессе.
– А почему, собственно, книга Шустера плохая? – спрашивает господин Бирт.
Этот вопрос заставляет Тео отрезать: «Потому что она отражает не мир – бумагу», а фрейлейн Гессе – задуматься. Почему же он не выступил со своей критикой? Что это – трусость, неуверенность? Неуверенность от трусости? Трусость от неуверенности? А не назвать ли трусость благоразумием, неуверенность – опытностью? Он ведь на своем опыте познал, что собственные суждения, расходящиеся с предписанными, оказываются потом неверными, что подавление опрометчивых личных мнений сначала кажется уступкой страху, а потом – мудростью.
В то время как бутылки опорожняются, а фрау Краутвурст кладет руки себе на колени таким образом, чтобы касаться не только своих, но и Либшеровых колен, а фрейлейн Гессе становится около Ирены и фрау Шустер у двери террасы, чтобы разделить беспокойство Ирены о состоянии Тео, – размышления Овербека о причинах его осечки приводят только к тому, что свиток его злосчастной речи снова развертывается, что снова незримо шикают, смеются, шаркают ногами, а зримо судорога сводит шею и щеки, и рот искажается как бы от боли, когда элита в первом ряду начинает шушукаться. И боль его, Тео, действительно разрывает, и лекарство, на которое он надеялся, – разговор, который снял бы ее, – не действует. И никакие повторения не унимают ее. Ни гнев, ни ненависть, ни ярость не ослабляют ее натиска. Ни на кого он не может взвалить ответственность за это, даже на самого себя. Боль бессмысленна и незаслуженна, как боль, вызванная болезнью. Эту боль можно заглушить, но нельзя излечить. Он и пробует заглушить ее алкоголем, но ощущает его только желудком, который толчками гонит кислоту к горлу.
Он чувствует руку на своем плече и видит знакомое лицо Краутвурста совсем вплотную:
– Попытайся уяснить себе, что твое море мук – это только лужа. У нас в исправительной колонии сидит сейчас девушка, которая чуть не убила своего отца, когда он захотел с ней переспать.
– И тебе тоже надо объяснять, что дело касается не только меня? – отвечает Тео.
– Слишком редко я слышу в ваших кругах слово «социализм», – говорит господин Бирт. Теперь его разочаровывает уже и Либшер, считающий, что говорить о вещах само собой разумеющихся совершенно неинтересно.
– О хлебе тоже говорят лишь тогда, когда его нет.
– Однако надо всегда помнить, какое это счастье – иметь его, – говорит Бирт. – Но у вас, молодых, это вошло в привычку.
– Я знаю только одну форму счастья, – говорит фрау Краутвурст и пытается взглядом дать понять Либшеру, какую форму она имеет в виду.
– Счастье одного поколения состоит в заботе о счастье следующего, – говорит фрейлейн Гессе.
«Счастье – это покой и отсутствие боли», – думает Тео, возлагая всю надежду на таблетки и мечтая о мгновении, когда они неудержимо погрузят его в глубину забытья.
– Музыка – вот счастье! – кричит Краутвурст, перелезает через кресло к радио, включает органную музыку на полную, то есть невыносимую, громкость и начинает сам с собой танцевать, распевая отрывки из вызубренных когда-то в школе стихов, которые он ловко приспосабливает к любой мелодии: «Стоит одиноко на голой вершине сосна, немало судов, закруженных волной, глотала ее глубина. Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, о нет, то белеет туман над водой. Ты знаешь край, где лимоны цветут, там два гренадера бредут. Бей в барабан и не бойся беды; подожди немного, отдохнешь и ты».
Только Либшер находит это забавным и смеется, вызывая досаду фрау Краутвурст.
Бирт, решивший, что можно, наконец, развязать галстук и расстегнуть воротничок, приводит запоздалые объяснения провала Тео, но их никто уже не слушает:
– Может быть, это новая форма возрастных явлений. Жизненный и профессиональный опыт стареет сегодня быстрее, чем люди. Стариковская мудрость превращается в старческое слабоумие. Скажешь себе в каких-нибудь двух шагах от цели: «Передохну-ка чуть-чуть» – и уже ты помеха.
Ирена широко распахивает дверь террасы. Фрейлейн Гессе выходит первой, с наслаждением вдыхает ночной воздух, и смотрит на луну. Фрау Шустер убирает посуду и греет на кухне воду для мытья. Тео ищет в шкафу таблетки. Краутвурст поет: «Мерзкой пары страшится трус, страшен ли милой и мертвый?» Приближается, танцуя, к Тео и кричит ему в ухо:
– Мерзкая пара – это для стариков смерть и черт, для нас – инфаркт и шизофрения! Но есть одно средство избавиться от них, средство тысячекратно испытанное, абсолютно верное, успешно применяемое всеми, у кого безошибочно действует инстинкт здоровья.
– Лицемерие?
– Оно-то как раз и бросило бы тебя им в пасть, нет, гораздо проще: работа, осмысленная работа!
Не оглядываясь на свою жену, Краутвурст протанцовывает на террасу: органная музыка гремит и в саду.
– Поэтому старики теперь очень одиноки, – заканчивает Бирт свою мысль и надеется поймать одобрительный взгляд Ирены, но получает больше – два слова:
– Вы ошибаетесь!
– Прекрасная вечеринка, – говорит Пауль Шустер Корнелии Овербек. – Хотел бы я, чтобы и мне когда-нибудь удалось устроить такую.
Но один человек не произносит за весь вечер ни слова. Он не смеется, не плачет, хотя заплакать ему очень хотелось бы. Сперва он стоял у садовой калитки и много раз поднимал руку, чтобы нажать на кнопку звонка. Теперь он давно стоит у конца изгороди, там, где его не достигает ни свет уличного фонаря, ни свет из окон и откуда ему видны сад и часть заднего фасада дома, включая террасу. Когда Корнелия и сопровождающий ее великан проходят мимо него, он потерянно сжимается и никак не наберется мужества сказать, что задумал: «Добрый вечер, Корнелия, это я, Франк Унгевиттер, можно тебя на минутку?»
20
Пауль уже не тот холодно учтивый человек, каким он был много лет. Он загорелся, но это не сжигает его, как юношу; для этого он слишком стар, слишком закален, слишком прокурен дымом прежних воспламенений. Он хоть и не может погасить пламя, но может уменьшить его и отрегулировать. Полусознательно он подчиняется плану, рассчитанному на продолжительность, плану объединительному, а не наступательному. Он не нападает, он манипулирует, не отдавая себе в этом отчета; но именно это гарантирует успех. Его волнует близость Корнелии, он говорит необдуманно, но поскольку он пропитан прежним опытом, сказанное звучит разумно и поначалу производит известное впечатление. Рутинер в делах любви, каким он был еще сегодня днем, оставил вновь влюбленному свое снаряжение. Он не осознает, что юные девушки пугаются чрезмерной страсти, но соблюдает меру. Он не думает: «Надо бы показать немножко образованности», но показывает ее. Он не задумывается о могуществе лести, но переплетает ею весь разговор.
Корнелия представляла себе Пауля совсем не похожим на того, кто сейчас перед ней. Она ожидала увидеть кастробородого завоевателя женских крепостей, а встретила их пленника. Его сдержанное ухаживание – это не требование капитуляции, а просьба об освобождении. Его разумное спокойствие придает ей внутреннюю уверенность, усиливающуюся внешне от недостаточного освещения; ибо нет лучшей косметики, чем слепота другого. Уважение, выказываемое ей, увеличивает ее уважение к себе самой. Слова, которые должны расположить ее к нему, располагают ее к самой себе. Остатки отчаяния исчезают с осознанием собственной значимости, в которой он убеждает ее. И поскольку она благодарна ему за это, его лесть достигает своей цели: даже распознавая лесть, Корнелия попадает в ее ловушки. Она хорошо знает, что многие его прекрасные слова о ней неверны, и тем не менее они ей приятны, ибо влияние комплиментов определяется не объективной правдой, а субъективной правдивостью. Важно чье-то желание говорить комплименты, а не то, справедливы они или нет.
Конечно, луна, звезды, весенний воздух и алкоголь тоже оказывают свое действие. Это первая ночь в году, которую можно провести на воздухе, не страшась простуды. Свет, падающий в сад из окон дома, лишает темноту ее опасности и усиливает прелесть недозволенного уединения. Чувствуешь себя отверженным, потому что пренебрегаешь обществом, и от этого сильнее привязанным к другому.
Сад невелик. Даже при медленном шаге обход вокруг дома продолжается не более пяти минут. Когда они проходят по освещенному участку дорожки, Корнелия видит мать у стеклянных дверей и думает, что та ревнует. Пауль видит только Корнелию.
– Как Зигфрид, выпив крови дракона, стал понимать язык птиц так и я теперь снова понимаю действительность, – говорит Пауль и словом «теперь» попадает в самую точку, ибо без неприятной для Корнелии назойливости оно говорит то, что надо сказать, и она вольна понимать его, как ей вздумается.
Она благодарна ему за это, не настаивает на ясности, не спрашивает, набиваясь на комплименты: «Почему вы это говорите?» или кокетливо: «Вы имеете в виду присуждение премии?» – а просто приноравливается к его манере, принимает как должное, что встреча с ней – это для него чудо, задает стандартный вопрос о его планах – разумеется, писательских. Ибо как дочь литературоведа она знает, что беллетристы, говоря о действительности, всегда имеют в виду ее отражение в своих книгах.
После этого вопроса она некоторое время молчит, потому что в беседах, где участникам важен не только процесс разговора, но и понимание, говорить в определенный момент может только один: в данном случае – он. И поскольку планы его еще свежи, контуры их смутны и нуждаются в предисловии. Он объясняет, как дошел до слепоты, которая позволяла ему воспринимать только отраженную газетной бумагой и экраном часть действительности. Пытается объяснить тот необъяснимый факт, что план, собственно, еще и не план (лишь часть его, повествование без темы), внезапно возник в его голове, когда он увидел ее, Корнелию. Уверяет, что история эта никак, решительно никак с нею не связана, что он услыхал ее много лет назад на одной стройке и сразу же забыл, а вспомнил только в тот миг, когда она, Корнелия, вышла в шляпе из своей комнаты и видом своим словно бы прорвала в нем какую-то черную завесу. Утверждает, что еще не знает, какой получится книга, которая некогда возникнет из этой истории. Ибо всякая история, говорит он, видоизменяется на пути от головы к бумаге, потому что надо приспособить действующих там лиц к его более или менее скудным изобразительным средствам. И поскольку они (люди, а не высшие силы) ускоряют или задерживают ход событий, вместе с людьми изменяются и истории, иной раз настолько, что и готовые наброски включаются в план не по каким-то мистическим причинам, а потому что людей (и их наброски) нельзя сконструировать с математической точностью, и малейшее отступление от плана на больших отрезках действия вырастает в огромное различие – подобно тому как линии, кажущиеся параллельными, при значительном удлинении непредвиденным образом пересекаются или расходятся. Свободным от этих ошибок может быть лишь тот, говорит он, склонившись к ее лицу, кто ставит конструкции выше жизни, кто любит идеи больше, чем людей, как он когда-то, всего еще несколько часов назад.
– А что это за история?
– Если изложить ее по-хебелевски [3]3
Хебель, Иоганн Петер (1760—1826) – немецкий писатель.
[Закрыть]коротко, то она такова: в ГДРовской части Берлина ранним воскресным утром один каменщик поцеловал на прощанье свою красивую молодую жену и сказал: «Через год все будет сделано. И тогда я буду каждый вечер дома, а в воскресенье будем поздно вставать. У нас будут дети, и летом мы будем выезжать с ними за город. Зимой будем гулять в меховых шубах по Унтер-ден-Линден, потом обедать и танцевать. Отпуск будем проводить на Кубе или в Крыму». «Один год – срок недолгий по сравнению с годами, что у нас уже позади», – сказала жена, вернулась через сад в новый дом и помахала мужу с веранды рукой. Это было трогательное зрелище. И когда прошла весна со своими цветами, лето со своими плодами, осень со своими ветрами и в полдень снег уже опять начинал таять, и каменщик думал, что тяготы вот-вот кончатся, тут оно и пришло – счастье. «Восемь лет я каждый свободный час работал, – сказал он в обеденный перерыв своим товарищам по бригаде, – зарабатывал ежемесячно шестьсот марок в рабочее время, шестьсот марок в субботние и воскресные дни и во время отпуска, и все сдавал в сберегательную кассу, потому что денег, которые я зарабатывал по вечерам разными починками у соседей и друзей, хватало на жизнь. Кто хочет, может подсчитать мое состояние. Дом построен и обставлен, шубы куплены, теперь я возьму машину, остальное пойдет на развлечения и путешествия. Моя цель – обеспечить жене и будущим детям роскошную жизнь – достигнута. Отныне вы будете меня видеть только от понедельника до пятницы по восьми часов в день». И за три часа до конца работы он покидает строительную площадку, берет машину и тайком, поскольку любит преподносить сюрпризы, едет в гараж под домом, из которого как раз выходит жена. Не думая ничего худого, он следует за ней, чтобы испугать в шутку, но сильно пугается сам, видя, что на углу какой-то мужчина поджидает ее, целует, берет под руку и они вместе уходят. Видеть это ему неприятно. Тем не менее он следует за ними до того конца поселка, где дома поменьше, сады не так ухожены и снегоочиститель не убирает снег на улицах. Потом он три часа стоит, дрожа от боли и холода, перед какой-то лачугой, пока не выходит жена. Сперва страх заставляет ее лгать: «Того, что ты думаешь, вовсе не было», но потом на его вопрос: «Ты хочешь уйти от меня и жить с другим в этой лачуге?» – отвечает утвердительно. «Может ли кто-нибудь из вас понять это? – спрашивает каменщик в следующий обеденный перерыв. – Вы бы видели эту халупу: мне понадобилось бы не более пяти минут, чтобы ее снести». И тот, кто знает этого человека, может ему поверить. Как вам нравится эта история?
– Не знаю. Какой смысл в ней заложен?
Он говорит, что и сам не знает, и, чтобы уйти от вопроса, еще раз рассказывает всю историю, на сей раз так, словно он, Пауль Шустер, ее несчастный герой и излагает ее в пивной своим коллегам. При этом он со вкусом расписывает внешние подробности – дом, строительную площадку, автомобиль. Пытается очертить главным образом через речь персонажей, характеры, которые были неясны в кратком изложении. Так, жена и возлюбленный говорят превосходным, несколько манерным литературным языком, рассказчик-каменщик – на берлинском диалекте, что придает рассказу красочность и забавно-сентиментальный тон. Если раньше употреблялось слово «работать», то теперь Корнелия слышит «вкалывать». В обеденный перерыв «рубают». Когда каменщик не верит лжи своей жены, он говорит: «Ты думаешь, я чокнутый?» – а на последний вопрос, почему он не снес лачугу, отвечает: «Да ведь руку занозить же боязно», – что Корнелия находит оригинальным и забавным, но не признает ответом на свой вопрос.
– Я только знаю, что это хорошая история.
– Может быть, потому, что она – ваша? Ваша история с ма?
Он достаточно умен, чтобы не отрицать это сразу. Он задумывается на некоторое время и говорит:
– Нет, нет. Ваша мать бежала не от роскоши, она бежала к роскоши.
Это вызывает у Корнелии смех, потому что роскошь она представляет себе иначе, чем их скромный быт. Но Пауль быстро уходит от этой темы. Мысль, что поклонник любил уже мать, не способствует лирическому настроению. Он, конечно, готов использовать себе во благо разницу в возрасте, но говорить о ней не следует. Поэтому он переходит на отвлеченную тему, говорит не о конкретных лицах, а о поколениях, в особенности о тех, что продали свою душу благосостоянию.
Не произнося фразы: «Слава богу, я не таков!» – он, конечно исключает себя из числа таких людей. Обвинение, предъявляемое другим, превращается в хвалу обвинителю, хотя она и не облечена в слова. Он говорит не для того, чтобы высказать собственные мысли, собственные суждения, а чтобы произвести хорошее впечатление на слушательницу. Он говорит то, что ей, по его мнению, приятно слышать. Он считает, что молодые люди настроены критически, и показывает, что и он настроен критически. Он представляет себе, что бы она осудила, знай она его так же хорошо, как он себя знает, и сам осуждает это – в других.
Он говорит о людях, которые, выйдя из нищеты военного и послевоенного времени, живо откликались на все, что обещало зажиточность, ловко приспособлялись, довольствовались мелким, как лужа, мышлением, отмахивались от щекотливых проблем, использовали вызванную технической революцией тенденцию к специализации, чтобы устроиться потеплей и пожирней, называя добродетелями замалчивание и притворство и опустошая свою душу постоянным лицемерием, – и не замечает, что всей этой замаскированной под обвинение исповедью все больше замыкает возрастную границу между собой и девушкой.
Ибо такого рода скрытое самобичевание ей столь же чуждо, как жителям Центральной Африки – снег. По нечистой совести она узнает стариков этой породы лучше, чем по измятым лицам и седым волосам. Ей уж милее другая, не менее скучная порода – самохвалы, бесконечно твердящие: «Без нас вам не жилось бы так хорошо!»
Но Пауль Шустер ничего этого не чувствует, он все еще безмерно переоценивает свои уже потерянные шансы на успех, когда она говорит:
– В этой истории нет ничего нового. Она показывает, что собственность – еще не все, но ведь это само собой разумеется.
– Само собой разумеется – для вас, потому что вы никогда не знали нужды и бедности, – отвечает он, все еще не понимая, что этим окончательно губит последние ростки симпатии, прежде чем они по-настоящему пробились. И поскольку ядовитые слова, имеющиеся у Корнелии в запасе для таких случаев, прежде чем вырваться, сдавливают ей горло, он продолжает говорить о разных толкованиях этой истории, которые, все как одно, делают его, Пауля, главным героем. Возможно, это он – каменщик, у которого отняли иллюзию, будто упорная работа совместима с личным счастьем, возможно – женщина, бегущая от приобретательства к человечности, а возможно – и возлюбленный, вырывающий из лап роскоши искусство и красоту: все это ему станет ясно лишь в процессе писания.
Он очень рад, что есть слушательница, которую он хотел бы сделать постоянной. Которой в любое время дня к ночи можно прочесть написанное. Которая отодвинет в сторону пишущую машинку, отложит тряпку, бросит суп недоваренным, если этого требует работа, его работа. Которая тогда ничего не будет делать, не будет ни вязать, ни подпиливать ногти. Лицо которой покажет взволнованность, выдаст ее радость, боль. И которая, когда он отложит последний лист и посмотрит на нее, выскажет свое впечатление.
Ясно, куда он клонит! Для нового начала ему нужна новая Ирена, человеческая жертва для ублажения муз. Поскольку его стратегия ухаживания это запрещает, он не говорит Корнелии, что любит ее, но думает это и считает, что нуждается в ней. И как всякий любящий, он хочет ответной любви, а это означало бы для нее отказаться от себя, превратиться в средство для его цели, в резонатор, настроенный на частоту его звуков.
Этого Корнелия, разумеется, не знает. Но если бы она еще не избежала раскинутых им сетей, она получила бы эту возможность сейчас, ибо он, вместо того чтобы предоставить ей слово, полностью подавляет ее собой, предвосхищая, таким образом, их будущие отношения и позволяя ей догадаться, какая ей в них отводится роль. Он говорит о писательской работе, о ее значении для него, но не о значении, которое написанное имеет для других. Добрых полчаса, следовательно, он говорит только о себе самом и притом с девушкой, которой после жестоких потрясений дня так нужно поговорить с кем-нибудь о себе, которая ищет человека, способного уделить ей время, помочь ей собраться с мыслями, доказать ей своим участием и интересом, что и она что-то значит для других.
– Раньше писание было для меня чем-то вроде исцеления от ран, и потому вновь обретенная ранимость – это моя сила, а драконова кожа Зигфрида, которую я носил до сегодняшнего дня, была бы моей литературной смертью, – говорит Пауль, и говорит правду, но она не находит отклика у Корнелии: ничего лучшего, чем такой панцирь, девушка сейчас не представляет себе и говорит это.
Пауль даже не спрашивает, почему она так сказала, он продолжает говорить о себе, о богатстве своего опыта и скудости средств его выражения, пока не открывается дверь террасы и не выходят танцующий Краутвурст, хозяйка дома и гости – все, кроме фрау Краутвурст и Либшера; потягиваясь, как после сна, они с шумом вдыхают свежий воздух.
Когда Корнелия и Пауль вступают в освещенную полосу, разговор идет о прохладе ночи, о прошедшей зиме, о весне, а потом Тео увлекает Пауля в сад и начинает с ним прогулку по пятиминутным кругам, Корнелия же обнимает, на этот раз без слез, свою нежную мать, которую это не радует, а пугает, потому что она неверно истолковывает жест дочери.
Видимо, в юности Ирена начиталась плохих романов. Иначе как объяснить, что она боится сейчас услышать слова: «Я только что обручилась с Паулем» или другую подобную глупость.
21
– Я сказал об этом Паулю, – говорит Тео, – тогда в саду, когда вы все были на террасе.
Значит, примерно час назад.
И сейчас, ровно в два часа ночи, если ампирные часы на комоде врут, как обычно, муж повторяет то, что сказал в саду бывшему другу, – повторяет жене, которая уже лежит в постели, не вытянувшись, а приподнявшись и подобрав ноги, то есть в такой позе, когда можно курить, поставив пепельницу на колени, и смотреть на мужа, шагающего взад-вперед перед кроватью. И поскольку верхняя часть туловища опирается на высокое изголовье кровати, нельзя упасть от испуга, когда муж сообщает, что он сказал Паулю, а сказал он ему правду.
Ирена уже умыта, прибрана, причесана. Если бы не блеск ночного крема на лице, можно было бы подумать, что прием только еще должен начаться, торжественный прием, даже бал, к которому вполне подошла бы в качестве платья ночная рубашка.
Тео еще полностью одет, он в костюме и галстуке. Рубашка, ботинки, складка на брюках еще хорошо выглядят, чего нельзя сказать о нем самом. После ухода гостей лицо его побледнело и начинает увядать. Круги под глазами темнеют, морщины становятся глубже, хотя после его речи казалось, что все это уже дошло до предела. Не ведь известно: лишь когда напряжение позади, изнуренность сказывается в полную меру.
И желудок на этот раз все откладывал свой неизбежный бунт. А теперь на атаки, которые в течение дня велись на него, он начинает отвечать контратаками. Он словно бы расширяется, каменеет, давит на легкие и на сердце, затрудняет движения гонит к горлу жгучую кислоту и тошноту.
Слегка наклонившись вперед, Тео ходит по комнате, туда-сюда, туда-сюда, правая его рука прижата к желудку, левая – ко рту, словно он ждет облегчающей отрыжки, а ее все нет. Облик его никак не назовешь гордым, и если бы волнения дня не требовали заключительного разговора, он бы поостерегся предстать в таком виде перед Иреной и шагал бы взад-вперед от боли на кухне. Он не из тех мужчин, что выставляют свои страдания напоказ, вызывая стонами и жестами успокоительную жалость.
У Ирены другие заботы, большие, самые большие за последние семнадцать лет. Ибо она должна сказать ему то, что скрывала почти всю супружескую жизнь, скрывала не только от мужа и, конечно, от дочери, но и от самой себя. Факт, который постоянно угнетал ее, ей удалось упрятать в такую темную даль, что он был недостижим для лучей сознания, покуда неожиданная опасность не залила его ярким светом.
Ирена еще продолжает болтать о вечере, о гостях, о том моменте, когда алкоголь растопил у них лед приличий. Она знает, что ее отвлекающая болтовня благотворно действует на Тео, если попутно показывать свою заботу о нем вопросами о его состоянии. Никак не решить, говорит она, заслуживает Краутвурст насмешки или сочувствия, и в конце концов ничего не остается, кроме как любить его, как любят ребенка. Фрейлейн Гессе, напротив, она находит человеком цельным и симпатичным – что ей, Ирене, нетрудно, поскольку она вполне уверена в Тео. Когда она бранит Либшера, Тео считает себя обязанным заступиться за него. Но и он находит сегодняшние разговоры довольно пустыми, прямо не верится, что их вели люди, чьи головы набиты умными мыслями. Ирена предлагает изобрести аппарат, записывающий не звуки, а мысли, которых умные люди не высказывают и не печатают.
Они говорят, конечно, и о Пауле, о том, что он когда-то обещал, но чего на поверку не выполнил, причем Ирена судит суровей, чем Тео, которого собственная неудача заставляет быть справедливей к другим. Чтобы судить о жизни другого человека, считает он, нужно быть не только его двойником, но и прожить его жизнь. Ведь когда кому-нибудь, как ему Пауль в саду, рассказываешь свою жизнь, все скорей затемняется, чем проясняется, потому что рассказать можно не то, что произошло, а только то, каким теперь видится происшедшее. А для выражения чувств и вовсе нет общепонятного способа; тут каждый – чужестранец для другого и говорит на языке, для которого нет ни словарей, ни разговорников.
– А что тебе Пауль рассказал о себе? – спрашивает Ирена, чтобы выиграть время. Она надеется, что его боль пройдет и он разденется и ляжет с ней рядом. Если ее голова будет лежать на его груди, думает она, ей легче будет сказать то, что, наконец, нужно сказать.
Но прежде чем перейти к главному, Тео подробно отвечает на вопрос жены, то ли из страха, что благодаря слову некий несуществующий факт обретет право на существование и станет причиной неведомых следствий, то ли потому, что он, Тео, приберегает главное до наиболее эффектного момента. Итак, он рассказывает о разговоре в саду и при этом печется даже о комизме, извлекая его из разрыва между огромной взволнованностью Пауля и ничтожными, неправильно выбранными средствами для маскировки ее. Он говорил о трех вещах, рассказывает Тео: во-первых, о Корнелии, во-вторых – о себе и в-третьих – о себе. По пункту первому речь шла только о достоинствах, по пункту второму – только о недостатках (недостатках его прошлой жизни), по пункту третьему – опять о достоинствах: о достоинствах его будущих книг. Он ни словом не упомянул о существовании какой-либо связи между этими тремя пунктами и, наверно, на соответствующий вопрос ответил бы отрицательно, понадеялся, что слушатель установит ее сам. Короче говоря, Пауль вел себя, по мнению Тео, как юнец, который хочет и не решается просить у отца своей возлюбленной руки его дочери.
– А о своей жене он не говорил?
– Ни слова.
– А ты что ответил? – спрашивает Ирена, не подозревая, какое потрясение вызовет у нее ответ на этот безобидный вопрос. Она и задала-то его, только чтобы выиграть время, в надежде на новые подробности, на как можно более долгие отклонения от темы, на которые так легко соблазнить людей с обширными знаниями и даром критического самонаблюдения. Она рассчитывает услышать, каково ему было рядом со старым другом, как на него, Тео, нахлынули воспоминания о деревне Пауля, о квартире при магазине, о первых разговорах с ней в кухне. Она ждет методических комментариев к тому, что он сказал автору о его премированной книге, отступлений по поводу речи, посеявшей, возможно, духовные сорняки, пространных рассуждений о любви, о дружбе, ревности, всего, всего, только не того короткого ответа, который поражает ее, будоражит, пугает, потрясает и привяжет к Тео до конца ее дней.
Тео говорит:
– Я сказал ему, что Корнелия его дочь, – и тут же продолжает говорить, без паузы, не глядя на Ирену. Продолжает он и ходить по комнате; взад и вперед, прижимая правую руку к желудку, и говорит все, чего Ирена прежде ждала.
Но она не может больше слушать. Ее освобожденная от тяжести душа замирает, как замирает тело, если его выпрямить слишком быстро.
Один только раз она произносит: «Нет, нет», когда Тео спрашивает, беспокоится ли она о последствиях его неудачного похвального слова, а то все молчит, плачет, смеется, целует и обнимает своего мужа, вытягивается, наконец, в постели и закрывает глаза, чтобы видеть лишь то, что делает ее счастливой.
А Тео все еще ходит по комнате, ждет оглушающего действия таблеток, надеется, что желудок его до тех пор успокоится, и пытается пока что выбрать из сумбура дневных впечатлений наиболее существенное. Он хочет подвести итог, сделать выводы, надеется на какие-то результаты, хочет вынести суждения, сформулировать тезисы, придать своим мукам какой-то смысл.
Но возбужденному мозгу не справиться с этой задачей, мысли мечутся, приказ логически рассуждать бессилен, установленный таблетками срок не мобилизует, а вгоняет в панику.