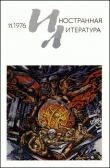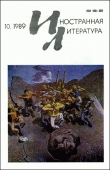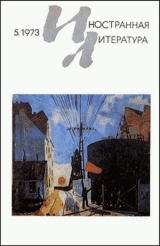
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
Его уверенность в себе не очень велика, тем не менее он всегда старается претворить мысль в действие. Любящим покой коллегам это не нравится. Другие проявляют недоверие, обвиняют его – его, который хочет изменить методы, – в отказе от основных принципов, не желая понять, что он озабочен лишь их осуществлением. Единомышленники склонны взваливать всю вину на студентов, проводя горькие сравнения с собственными студенческими годами. Но Тео избегает этого. Если они тогда не искали путей к теплофицированному и моторизованному благополучию, то потому лишь, что его не существовало. А пылкие мыслители и искатели и в те времена были в меньшинстве. Да и принадлежал ли он сам к их числу? Не боролся ли он скорее против них, потому что не хотел подвергать сомнению свои отвоеванные у неуверенности небольшие познания?
Он ограждал себя от сомнений, пока только можно было, до конца студенческих лет, на которые потом смотрел так, как другие на годы заботливо охраняемого детства, заканчивающегося тем, что однажды утром просыпаешься и обнаруживаешь, что до сих пор видел мир таким, каким он должен быть, но не таким, каков он есть. С ним это случилось в небольшом бранденбургском окружном центре, но не так внезапно, как ему казалось потом. О расхождении между иллюзией и действительностью он, наверно, догадывался и прежде, иначе не прервал бы тогда по собственному желанию свою ясно предопределенную университетскую карьеру, чтобы несколько лет поработать вне Берлина. Погнала его туда жажда действительности, жажда жизни, но порождена она была и профессиональными, то есть литературными интересами. Если верно, что литература имеет дело с действительностью не только на расстоянии, но и вырастает из нее, то человек, желающий судить о литературе, должен быть прежде всего способен судить о действительности.
Находясь тогда под сильным впечатлением литературы, скорее закрывавшей, чем открывавшей доступ к действительности, он окружал себя людьми, которые, как и он, принимали идеалы за реальность, реальность – за несовершенство и с безотчетным высокомерием смотрели на людей, казавшихся им недоразвитыми. Они проклинали все элитарные теории – и были в их власти. Поскольку башня, где они жили, была не из слоновой кости, она не казалась им башней. Из нее они могли смотреть только вдаль, в будущее, о котором знали всё, но прежде всего то, что оно принадлежит им. Слова, что долг каждого – добиться успеха, они со спокойной совестью превратили в новое учение о предопределенности, твердо веря, что отныне честные старания и их общественное признание – это единое целое.
Добровольный спуск в низины провинции дался ему нелегко. Скверное тамошнее снабжение огорчало его меньше, чем сознание, что для большинства оно важнее всего остального. Тот факт, что его знания не очень-то котировались в новой среде, испугал его меньше, чем сразу же возникшее у него стремление найти здесь новый круг людей своего склада. Он боролся с этим стремлением, пытался этот новый круг хотя бы не искать, а создать. Но так как его страх перед отступлением и снижением уровня был больше, чем его гибкость, он никогда не находил в общении с людьми верного тона. Литература, которую он считал действенной, оказалась бессильной. Порой Тео ненавидел этот народ за то, что он был не таким, как следовало.
Обязанности руководителя Дома культуры оставляли ему достаточно времени для докторской работы. Но он забросил ее и ринулся в работу политическую, преимущественно в сферы, ему неизвестные. Он ездил инструктором по деревням, сравнивал предназначенные для окружных властей отчеты о торговле и сельском хозяйстве с действительным положением дел. При этом он постиг всю опасность мышления категориями успеха. Докладывали не то, что было, а то, что требовалось – хорошая статистика была важнее хороших дел, критикам предпочитались лакировщики. Называя обнаруженные недостатки недостатками, он ожидал изоляции, интриг – и не ошибся, но его поразило, как много сподвижников он нашел. Одним из них был Карл Краутвурст, дружба с которым с тех пор не утратила для него своего значения.
Краутвурст – самый некрасивый, самый оригинальный, самый чувствительный и мягкосердечный человек, какого он знает. Его безоговорочная любовь к правде кажется иным комичной и глупой, другим – опасной. Стремление заступаться за тех, у кого возникают конфликты, ввергает в конфликты его самого. Он лишен какого бы то ни было честолюбия. Он все мечтает о спокойной, уютной жизни в кругу большой семьи, но из этого ничего не выходит. Он помогает каждому, кто в нем нуждается, только себе никак не может помочь. Тот, кто привязан к нему, боится за него, в том числе и его жена, которая десятилетиями тщетно пытается ускользнуть от его неизменной любви. Она называет его неприспособленным к жизни, и она права, если понимать под приспособленностью способность сделать собственную жизнь более приятной.
Уже в те времена он был воспитателем в той самой исправительно-трудовой колонии для несовершеннолетних, где работает и поныне. Тео впервые увидел его на заседании окружного суда, где тот, выступая свидетелем защиты по делу одного из своих бывших воспитанников, затеял ожесточенный спор с прокурором и судьей, которых уличал в полном незнании социальных условий. Тео, присутствовавший в качестве заседателя, тут же проверил утверждения свидетеля и убедился в его правоте.
С этого дня благодаря Краутвурсту Тео открылись обстоятельства жизни, многообразие и глубина которых смутили и испугали его, потому что дали почувствовать огромность задачи, стоящей перед всеми преобразователями. Прошло немало времени, прежде чем множество деталей, которых с высоты его башни нельзя было разглядеть, постепенно приобрели какой-то порядок. Но многое осталось неразрешенным, среди прочего – трагизм жизни Краутвурста, который, стремясь себе помочь, губит себя сам, в частности болезненной любовью к женщине, не способной проникнуться его самоотверженностью.
Когда Тео думает о запутанных дорогах жизни Краутвурста, его собственные кажутся ему гладкими и прямыми. Сознательно, хотя и с трудом, он продвинулся вперед. (Правда, внешний рост идет туго, но у Краутвурста он научился его презирать.) В этом отношении жизнь его мало отличалась от жизни этих студентов, которых он всех без разбора бранит. Верно, конечно, что хороших коней захомутать труднее, но это вовсе не означает, что каждый, кто отсиживается в кустах, лучше других. Пауль перестал отсиживаться, сегодня он может это ему засвидетельствовать. Но он должен хвалить его за это, а хвалить не может. Ибо то, к чему Пауль пришел, хвалить можно было разве что много лет назад.
Черноволосый варьирует свою формулу об обусловленном войной развитии героя. Ассистент Тео записывает: «Повторения!» – и набрасывает вопросы, которые могли бы задать докладчику слушатели, но которые ему, преподавателю, придется наверно задать самому. Разве бессмыслица невольно не превращается в смысл и война – снова в начало всех начал, если она то и дело используется в литературе как трамплин для героя? Пепел словно бы для того только и создан, чтобы рождать феникса. Если нет войны, то нужны бури, аварии, взрывы в рудниках или пожары в амбарах. Литература кишит двигающими развитие катастрофами, в то время как жизнь вроде бы обходится без них. Тогда они всячески старались навязать Паулю теорию катастроф. А он упрямо повторял, что дело было не так, говорил о типическом как о заранее заданном, не желая понимать, что они под этим понимали. Их дружба началась с отказа Пауля конструировать свое прошлое заново. Теперь, через много лет, он отрекся от своего отказа, принял тогдашнюю конструкцию Тео и таким образом столкнул Тео с его собственным прошлым.
– Ну?
Это приглашение к дискуссии; она заводится с трудом и быстро глохнет, потому что ассистент придерживает горючее своих наводящих вопросов. Незаинтересованность, проявляемая студентами, раззадорила бы его, побудила бы к отпору, если б его собственный интерес не был направлен на другое. Беспокойно поглядывает он на часы. Его тянет к письменному столу. Еще пять минут.
И вдруг начинает говорить одна девушка, которая никогда еще не брала слова по собственной инициативе, – бледная, незаметная, она выглядит так, словно еще не достигла половой зрелости.
– Я хотела бы спросить о любви, – говорит она, и все просыпаются. Лица, которые скука сделала похожими, обретают индивидуальность. Смеются, ухмыляются, выражают удивление, внимание. – Я имею в виду любовь в книгах, – говорит девушка и смущенно оглядывается. Реакция студентов пугает ее, но она храбро продолжает: – Наша литература должна ведь быть реалистической, а о любви она пишет, как в средние века. То есть я совсем не знаю, как об этом писали в средние века, но так я себе представляю: все погружено в мистический мрак. Я не хочу сказать, что надо описывать, как двое спят друг с другом, то есть спят не в том смысле, что устали.
Тут и Тео решает засмеяться, но одновременно подает знак к молчанию, восстанавливает спокойствие.
– А что надо? – спрашивает он и поощряюще кивает ей.
– Почему это, собственно, не надо описывать? – выкрикивает черноволосый докладчик, и голос его теперь бодр и бесстрашен. – До этого описывается каждая подробность: как он входит в комнату, как она расправляет скатерть, прижимает лоб к окну, как он закуривает сигарету; но как только они ложатся – всё!
– Я имею в виду другое, – говорит девушка. – Никогда нельзя понять, почему именно эти двое любят друг друга. Если они и сами не знают, то, по крайней мере, автор мог бы задуматься. Красота как причина любви – это ведь глупость. Тогда некрасивые девушки должны бы заранее похоронить всякую надежду. В любой книге можно прочесть о политическом развитии и о любви. На первый вопрос, который для меня вовсе и не вопрос, потому что он и без того ясен, я получаю тысячу ответов, на второй – никакого или половинчатый ответ.
По ней видно, как это ужасно для нее – быть в центре внимания. Едва кончив говорить, она вся сжимается, словно может этим отвлечь от себя внимание. Но это излишне, потому что все взгляды уже направлены на другую девушку, которая резко ей возражает:
– До тех пор, пока американцы во Вьетнаме, наши личные чувства не должны иметь никакого значения!
– Почему мы, собственно, не хотим признаться, что наша сексуальная и супружеская мораль все еще протестантско-мещанская?
– Ты за социалистическую сексуальную волну?
Тео смотрит на часы. Время уже истекло. Он думает о своем незаконченном докладе, но и о том, что давно уже не слышал такой горячей дискуссии. Он удивлен и пристыжен. Каждый день общается со студентами и не знает, что их волнует. И он радуется, что именно у него они заговорили. Что бы они сказали о книге Пауля? Может быть: неплохо, но это мы знали давно! Если наша литература часто наводит скуку, то не потому, что ей не хватает художественных средств, а потому, что за действительно актуальные темы она не берется. Искусно пережевывает знакомое. Она не задевает за живое, не волнует, исследуя давно исследованное. Не хватает ей не мастеров, а первооткрывателей.
Когда он говорит студентам, что занятие окончено и каждый волен уйти или остаться, никто не уходит. Лишь в двенадцать он попадает в свою рабочую комнату, которую делит с тремя другими, более молодыми ассистентами, и не может сразу сосредоточиться на своей речи. Надо записать вопросы, на которых придется еще раз остановиться на следующих семинарах, наметить темы для дискуссий с коллегами. Например: кому мы ставим высший балл – тем, кто повторяет чужие слова, или тем, кто самостоятельно думает, равнодушным или откровенным, прилежным или творчески мыслящим?
А кто получает премии?
Тео не судит несправедливо или легкомысленно. Он заглянул в справочник, составил списки лауреатов, но ни к какому заключению не пришел. Существует так много литературных премий, что со временем каждый может быть награжден. И всегда держат хвалебные речи, и ни один оратор не изводит себя, как он.
Белая веленевая бумага, которой Тео пользуется и для черновиков и заметок, опять исписывается четким почерком прусского писаря. Для собственных нужд д-р Овербек все еще пользуется прямым шрифтом графика Людвига Зюттерлина, черными чернилами и острым пером. Любому другому человеку было бы трудно выбросить в корзину столь аккуратно исписанный лист.
«Позвольте мне, уважаемые дамы и господа, – пишет он, – и прежде всего ты, дорогой Пауль, позволь мне начать свое выступление с цитаты, которая, правда, никогда не была зафиксирована письменно, а сохранилась только в моей памяти. Она гласит: «Будь авторы людьми честными, их герои должны были бы именоваться не Шельмуфский, Гулливер или Шлемиль, а Рейтер, Свифт и Шамиссо!..» – и указывает на личный опыт как на субъективную основу литературного творчества, хотя, впрочем, в данном случае... Дорогой Пауль Шустер, уважаемые присутствующие! Почти два десятилетия тому назад была сказана фраза, которая мне и сегодня... Почти два десятилетия тому назад, уважаемые дамы и господа... О личном опыте как основе писательского творчества, дорогие товарищи и друзья, уже... Не должны ли, в сущности, все литературные персонажи носить фамилии или по крайней мере имена своих авторов? Такой вопрос, дорогие друзья, задал семнадцать лет тому назад... Семнадцать, а то и больше лет минуло с тех пор, как один молодой автор...»
Каждый проходящий мимо трамвай пронзительно скрежещет на повороте к Купферграбену. У моста, ведущего к музею Пергамон, из автобусов выходят измученные туристы. В институтских коридорах смеются студенты. Но весь этот шум лишь приглушенно проникает сквозь стены и окна, поглощается старыми столами и шкафами, рядами книг в темных переплетах; работающие не обращают на него внимания. Они слышат только скрип пера Овербека, хруст бумаги, когда он сминает исписанные листы и бросает их в корзинку, и вдруг резкое:
– Нет!
Тут они поднимают головы, видят, что Тео встает, идет к телефону, набирает номер и говорит:
– Я должен с тобой поговорить. Да, сегодня. Да, сейчас!
И они снова склоняют головы над книгами, когда он возвращается на свое место, собирает свои бумаги и говорит:
– Если меня кто-нибудь спросит, я у Либшера.
5
У Шустеров день начинается позже, чем у других. Хотя Пауль с возрастом и отказался от ночной работы, он сохранил привычку вставать поздно. Еще и потому, что человек, желающий всюду сказать свое слово, должен быть хорошо информирован, а объем информации сильно увеличился. Теперь уже недостаточно только читать газеты. Каждый вечер он до полуночи, до самого конца, смотрит программу телевидения, готовит себе теплую ванну, из ванны перебирается в постель – и вот он уже спит, девять, десять часов подряд, крепко, большей частью без сновидений, беззвучно, краснощекий, весь – покой, здоровье, довольство. На какой бок он ночью ляжет в постель, на том и лежит в ней утром, говорит он, и его жена Улла подтверждает, что измятых бессонной ночью простынь у них не бывает.
– По-немецки сказать, – заявляет она, – чистая совесть – лучшая подушка, – и неуверенно посмеивается над своей попыткой сострить.
Ее сила в другом – в неукротимой, но теперь неудовлетворенной активности. До замужества она помимо восьмичасового ухода за телятами хозяйничала в большой крестьянской усадьбе с отцом, тремя братьями, с курами, гусями, овцами, свиньями, с собакой и кошкой, с праздниками по случаю убоя скота, с соленьями и вареньями, с семейными торжествами и сходками. Теперь она нервирует мужа постоянным выклянчиваньем работы. Ее сила, терпение и выносливость ищут применения и не находят его. Квартира со всеми удобствами требует слишком мало ухода, а из дому Пауль не хочет ее отпускать. Достаточно долго он должен был питаться готовыми супами и яичницами или обедать в ресторанах.
Дважды в неделю она с помощью воды и тряпки делает оконные стекла невидимыми. Трижды в году без посторонней помощи переставляет всю мебель в спальне и гостиной. В кухне со встроенным оборудованием ничего переделать нельзя – и это очень огорчает ее. Если до нее доходит слух о поступлении партии бананов, она обегает все фруктовые лавки района. Своим блеском автомобиль Пауля превосходит любую министерскую машину. Она с радостью поступила бы на то и дело освобождающееся место привратницы. Но это повредило бы, как утверждает Пауль, его репутации.
Несколько улучшают ее положение новые задачи, возникающие благодаря новым знакомствам в новом доме. Она помогает неопытным женам справляться с домашним хозяйством. Она присматривает за детьми, украшает к праздникам фасад, организует общие празднества коллектива жильцов, относит в управление жалобы по поводу вышедших из строя лифтов и мусоропроводов, хранит ключи от квартир других жильцов, когда ожидается приход слесаря или электрика.
Паулю важнее, чтобы она училась у соседей утонченному быту. Привычный для нее способ приготовления пищи она называет теперь немецкой кухней и презирает как худший в мире. Она варит супы по-французски и по-русски, делает итальянские салаты, жарит мясо по-венгерски. Прошли времена, когда она по вечерам кормила гостей бутербродами с колбасой и сыром. Она гоняется за дефицитным чесноком и собирает старинный фарфор. Пауль уже перестает понимать, как это они могли пить кофе из современной посуды. Сфабрикованная в стиле рококо мебель, которую задешево сбыл сосед, сделала наконец вытирание пыли серьезной задачей.
Научилась она также превращать в праздник всякую трапезу. Скатерть, цветы и подсвечники украшают стол уже во время завтрака. Когда Пауль встает почти в полдень, стол в комнате давно накрыт – для него одного. Улла за два часа до этого поела на кухне.
Включение радио в ванной для нее сигнал: поставить сковородку на огонь и начать процеживать кофе. Она прислушивается к звукам в уборной, шуму душа, бритья. Когда он с бульканием полощет горло, она вбегает, чтобы помочь растереть тело щеткой.
Эту работу она делает тяжело дыша: ведь кожу надо тереть до тех пор, пока не покраснеет. Переднюю сторону он обрабатывает сам, ступни и спина – в ее компетенции.
В ванной она кажется себе крошечной по сравнению с ним. Голым стоит он перед нею, над нею: мужчина – большой, тяжелый, волосатый. Он весит не менее двух центнеров. Рост—192. Волосяной покров – шуба.
Исходя из центров – голова, грудь, срам – и редея по мере отдаления от соответствующего центра, волосы темной массой, неравномерно покрывают все богатырское тело, кроме ладоней и ступней, словно ленивый сеятель, вместо того чтобы обойти все поле, разбросал семена лишь с трех точек: до спины, например, он не добрался, зато из самого низкого местоположения особенно густо засеял седалище и бедра, так что получилось какое-то подобие меховых штанов, которое не закрывает, однако, самого важного, а скорее подчеркивает его темным фоном. Там, где проглядывает кожа (на стопах, в просвете пупка, на плечах и спине), она нежна и бела, как и на круглом лице.
– Сильнее! – приказывает он.
Надо пустить в ход всю силу, чтобы его ублажить. Она обливается потом. Затем бежит в спальню, кладет на постель свежее белье, вешает костюм на дверцу шкафа, засовывает носовые платки в карманы пиджака и брюк, а он в это время работает с эспандером: «Раз-два, раз-два!»
Когда он, одетый, причесанный, благоухающий, входит в комнату, яйца и ветчина уже поданы. Ест он молча. Она наблюдает за ним, наливает кофе, подает масло, потом сигареты. Когда его голова исчезает за газетой, она бесшумно убирает со стола, тихо закрывает дверь. Моя посуду, она вполголоса напевает что-то грустное и обдумывает свои дела на день. После мытья посуды она спустится на лифте вниз за почтой, затем помоет машину, приготовит обед, опять вымоет посуду и начнет переодеваться к празднеству; тут ей поможет соседка – бывшая актриса, она разбирается в таких вещах. Неприятно только, что та постоянно убеждает ее, будто она, Улла, несчастна.
– Женщина тоже имеет право на формирование личности, – говорит она.
А когда Улла отвечает:
– Я, как личность, довольна, – та громко смеется, заключает ее в объятия и восклицает:
– Вы очаровательно невинны, дитя мое!
Слова «невинность» и «наивность» Улла часто слышит от женщин и знает, видимо, что под ними подразумевают неопытность или даже глупость. Но это ее мало беспокоит, потому что она знает, что говорятся они без злости. И иногда даже – правда только мысленно – она возвращает их обратно. Например, когда находят нелепым, что она не читает статей и книг своего мужа. «А вы-то, наивная жена директора завода, – говорит она себе в таких случаях, – понимаете ли вы что-нибудь в телевизионных трубках, выпускаемых на заводе вашего мужа? И умеете ли вы, невинная, читать строительные чертежи вашего супруга?»
Она уже научилась молчать, когда соседки ругают своих мужей. На эту тему она могла бы только сказать: «Какой ни есть, мне он люб!» – но это было бы неуместно. Это выглядело бы так, словно она хочет возвыситься над всеми несчастными. Одного она не может понять: почему же эти женщины все-таки остаются со своими мужьями, если считают их нервными, усталыми, утомительными, ревнивыми, лживыми, скупыми или равнодушными? Ведь можно и развестись. Она бы это сделала тотчас. Если бы Пауль бил ее, например.
Поскольку ее много били, она на этот счет особенно чувствительна. Это для нее точка отсчета, некий рубеж между счастьем и бедой. Если б она захотела описать счастье, она могла бы это сделать только перечислением всех страданий и напастей, которым оно положило конец. Один лишь факт, что Пауль редко пьет и никогда не бьет ее, оправдывает ее любовь к нему. Столько счастья она никогда не ожидала от замужества. Пьянство и избиение жен она считала общемужским свойством, которое у ее отца и трех братьев было лишь особенно сильно выражено.
Она не выбирала Пауля, она его приняла как избавителя. И после первого же намека на сватовство сразу проявила готовность вырваться из семейного ада. Трудно ей далось только расставание с телятами, собаками, курами и овцами. Вера в то, что Пауль – исключение среди мужчин, неискоренима в ней. Благородные мужья, ее нынешние соседи, думает она, просто умеют лучше скрывать свою грубость. В городе это и легче сделать, чем в деревне, где любая личная трагедия тут же становится публичным зрелищем.
Кстати, Пауля она не причисляет к благородным людям. Он ведь тоже с ее родины, и она знала его еще девчонкой, но уже изнуренной работой, – она видела, как он шагал по деревне в рыбацких сапогах, выше и сильнее других парней его возраста. Благоговение перед ним сохранилось у нее и поныне. А богатые мужчины, с которыми ей теперь приходится знакомиться, становятся ей быстро противны. Им часто кажется, что впечатление, производимое на нее их дорогими квартирами, производят они сами, это им льстит и в благодарность они становятся галантными – что она воспринимает как насмешку над своим мужем, которому они в подметки не годятся.
– Улла!
Могучему голосу Пауля нетрудно из окна десятого этажа перекрыть уличный шум. Она подымает голову, еще раз быстро протирает стекла машины и, так как лифт снова сломан, бежит вверх по лестнице. Запыхавшись, входит она в его комнату. Он сидит за машинкой и пишет. Она терпеливо ждет, снимая кончиками пальцев волосы с его воротника. У нее еще остается время взбить подушки на диване и собрать опавшие листья в цветочных горшках. Когда она хочет вынести в кухню переполненную пепельницу, он кричит, продолжая писать:
– Не убегай опять!
И она остается, подходит к окну, поскольку не может найти другого занятия, и смотрит. С тех пор, как они здесь живут, такого еще не бывало: чтобы она без дела стояла и смотрела в окно без всякого повода, просто для удовольствия, так сказать. Но удовольствия ей это не доставляет. Скорее наводит грусть, почему – она не знает. Может быть, дело тут в огромности города, может быть, в его чуждости. Она видит дома, дома, ничем не отличающиеся один от другого, окна, окна, ничем не отличающиеся одно от другого. Даже люди и машины с этой высоты кажутся все одинаковыми. И ничто из всего этого не имеет ни малейшего отношения к ней. И она ни к чему не имеет отношения. Всему этому безразлично, стоит она здесь или нет, живет она или нет. Если она откроет окно и выбросится из него, это вызовет переполох на пять минут, может быть на десять, потом все снова пойдет своим чередом, в том числе отвратительные уличные шумы, на которые, к счастью, не обращаешь внимания, если не случается такая незадача, что надо несколько минут праздно стоять здесь. Почему Пауль причиняет ей такую неприятность? Он ведь и сам без дела томится. Когда он не в пути, в отъезде, в редакциях, его день протекает без пауз: он встает, читает газету, работает, ест, работает, смотрит телевизор, ложится спать.
Она отрывается от засасывающей пустоты, оборачивается – и сразу все становится иным. Шкаф не стоял бы там, где стоит, скатерть без нее не была бы вышита, пол не был натерт. Каждая вещь здесь – частица ее. Все это она купила, сшила, расставила, ко всему приложила руку. Рубашка Пауля так бела, потому что выстирана ею, и если бы она умерла, здесь сидел бы человек, которому ее недоставало бы.
– Я хотела бы иметь ребенка, – говорит она вдруг, столь же неожиданно для себя, сколь и для него. Пожалуй, это впервые она высказывает желание по собственному почину.
Пауль снимает пальцы с клавишей и спрашивает:
– Что это тебе пришло в голову?
– А ты не хочешь? – спрашивает она.
Он снова пишет, но недолго.
– Послушай, – говорит он. – Присядь. Я насчет празднества.
– Про ребенка, – говорит она, – я сказала потому, что мне чего-то не хватает. Наверно, ты этого не понимаешь. У тебя есть твоя работа, ты радуешься премии, которую получишь. Я тоже стараюсь радоваться ей, но мне не удается. В конце концов я ведь не имею к ней никакого отношения, совсем никакого. Мне нужно что-то свое, понимаешь? Дома я жила как рабочая лошадь. Здесь я живу как человек – но бесполезный.
Когда он берет сигарету и она подает ему огонь, это совершается как церемония. Он ходит взад-вперед. Она сидит на диване. Ее смелость – завести разговор о собственных желаниях – так же быстро исчезла, как и появилась. Теперь она уже рада, что не рассердила его.
– Сегодняшний день очень важен для меня, – говорит он, пуская в потолок облако дыма.
– Я знаю, премия, – говорит она торопливо, рассчитывая быстрым пониманием умиротворить его.
Премия, верно, но не просто какая-то премия, объясняет он. Эта премия важнее тех двух, что он уже получил, хотя бы потому, что она известнее и дает больше денег, но особенно важна она для него потому, что присуждение премии его первому роману доказывает, что прыжок из журналистики в литературу ему удался. Другими словами: с газетной писаниной покончено, он писатель, официально признанный.
– Понимаешь?
– Конечно. – Она понимает, что он говорит, но не понимает, почему это для него так важно. И если бы она его не понимала, она бы все равно сказала то же самое, потому что знает, что, когда он возбужден, он не терпит ни возражений, ни ответных вопросов.
Журналистом можно стать известным, говорит он, писателем же – знаменитым. И чем знаменитее человек становится, тем больше внимания он привлекает к себе, причем не только к себе, но и к жене, потому что по ней, как это ни глупо, судят о нем.
– По-немецки сказать, – говорит она, радуясь, что поняла наконец, к чему он клонит, – я должна держать язык за зубами.
– Не повторяй все время: «По-немецки сказать». Других языков ты ведь, кажется, и не знаешь.
– Я буду улыбаться и молчать.
– Когда тебя будут спрашивать, отвечай только «да» или «нет». И главное: держись поблизости от меня.
– Не лучше ли мне остаться дома?
– В таких случаях берут с собой жен.
По тому, как обстоятельно пытается он объяснить ей неписаные законы поведения в обществе, она видит, насколько он взволнован. Не в его характере растолковывать приказы. Это приводит в волнение и ее. Что о ней будут думать знатные люди, которых она там встретит, – ей безразлично. Ей только бы не сделать такого, что могло бы ему не понравиться, повредить или рассердить его.
Она говорит (конечно, про себя, не вслух): знатные, богатые, благородные, знает, что все эти слова устарели и неверны, но пользуется ими, потому что других у нее нет. Ими она обозначает всех людей, которые зарабатывают деньги не работая. Ибо руководить, считать, заведовать, писать – все это она не может считать работой, хотя теперь, стремясь приспособиться, иной раз и называет так сидение Пауля за письменным столом. Потому-то у нее и нет того почтения к этим людям, которое она когда-то питала к своему зоотехнику, а также к Паулю. И если она побаивается их, то потому лишь, что они, несмотря на свою неизменную приветливость, такие чуждые ей и, как говорит Пауль, обращают внимание на вещи, совершенно для нее неважные: на грязные ногти, правила поведения за столом и главное – на слова. А ведь она сама слышала из их уст такие слова, как «дерьмо» и другие, но если она иной раз сельскохозяйственный производственный кооператив, СХПК, назовет «колхозом» или скажет «Восточный Берлин», наступает неловкое молчание и в глазах Пауля вспыхивает злой огонек. Однажды он устроил ей дома страшную сцену, после того как она по неведению назвала американского шпиона разведчиком.
После таких уроков она считает наставления Пауля столь же излишними, как и добрые советы соседки, у которой спустя несколько часов примеряет свое праздничное платье.
– Главное – это улыбаться, быть непринужденной, – говорит бывшая актриса, покончив со своими ежедневными жалобами на прислуг. – Избегайте политических разговоров, смейтесь, когда шутят, все равно – понимаете вы шутку или нет. При длинных рассказах изображайте внимание и время от времени вставляйте «гм», чтобы показать свой интерес. Если спросят о профессии, не говорите: «Домохозяйка», а скажите: «Животноводка». В этом никто ничего не понимает, и потому это производит впечатление. Животноводка, улыбаться и, кроме того, декольте: это всегда действует на мужчин, и ваш муж будет доволен.
6
– Шотландец Маклейн потерял вкус к курению трубки: если он курит собственный табак, ему жаль своих денег, а если чужой, она не раскуривается – потому что он слишком туго набивает ее.
Каждый, кто приходит, сперва должен выслушать от Либшера новейшие анекдоты. Они нужны профессору для лекций, и он испытывает их на гостях, на всех. Также и на Тео Овербеке, хотя знает, что тот не годится для роли подопытного. Всегда кажется, будто он улыбается, лишь чтобы не обидеть рассказчика. Но Либшер никого не может избавить от этого, так как гостей он принимает редко, а лекций читает много и считает делом чести не повторяться.