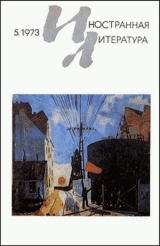
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц)
Гюнтер де Бройн
Присуждение премии
1
Мне предложили описать образцовый брак и показали подходящую модель. Я условно согласился и стал изучать примерную пару. Теперь попытаюсь подвести итог своим наблюдениям, описав один день, который начинается с того, что Тео Овербек раздвигает занавески, открывает окно и думает: «Не надо было мне принимать это поручение!» Но вслух говорит:
– Сегодня прекрасный день!
День майский, прохладный и солнечный. Его свет ослепляет привыкшие к свету лампы глаза Тео. Ирена, его жена, лежит в постели и завтракает. Верхняя часть туловища приподнята, ноги подтянуты так, чтобы поднос держался на животе и коленях.
То, что Тео не высказывает своих мыслей, объясняется не лицемерием, а тактом. Он не хочет разрушать утренней жизнерадостности Ирены. Заботы, которые его угнетают, не станут легче, если он разделит их с ней.
А Ирена хочет разделить с ним свою жизнерадостность.
– В такой день все должно ладиться! – говорит она тоном, который сама называет очень, очень милым, с выражением лица, которое означает: это не попытка утешить, а твердое убеждение, и с жестом, который зовет его от окна к ней, к первой утренней нежности, для него благотворной, но направление его мыслей изменить не способной.
Он, по своему обыкновению, уже полностью одет – в костюме, белой рубашке, галстуке. Скудные пряди гладко причесаны, лицо выбрито, во взгляде собранность, спокойствие, дружелюбие. Он сидит на ее стороне кровати, смотрит, как она ест, сам довольствуется лишь таблетками, запивая их глотком из ее чашки, и курит – четвертую сигарету за это утро; он ведь с пяти часов на ногах, после плохой ночи с желудочными болями и кошмарами. Об этом он и рассказывает, надеясь разговором разогнать тени, омрачающие его душу вот уже несколько дней.
Нет собеседника для этой цели более подходящего, чем его жена. Море ее души всегда ясно и гладко; черные мысли тонут в нем – тяжелые, естественно, быстрее. На поверхности остается радость, легкость, в это утро – блаженная бодрость хорошо выспавшегося человека, аромат кофе, приятная погода, гармония этого брака, прочность ее жизни. В Ирене достаточно покоя и радости, чтобы уделять долю их другим. В этом она видит свой долг, обязанность, которая ей по силам и выполнять которую ей приятно. Тео ей за это всегда благодарен.
И вопрос, что она ему сейчас задает, тоже с этим связан. Он озабочен речью, которую предстоит держать сегодня днем при присуждении премии. Пытаясь претворить его заботу в предвкушение часа, когда все трудное останется позади, она спрашивает, можно ли будет вечером сидеть на воздухе, у дома, на террасе, среди весенних запахов сада, впервые в этом году.
Он сразу видит, что ее попытка напрасна: совершить вместе с нею гигантский прыжок через эту гору заботы он не может никак. Но поскольку Ирена важней для него всех забот на свете, он не может и огорчить ее, дав понять, что ее усилия не увенчались успехом. И потому старается сделать вид, что отвлекся, высказывает всякие предположения насчет вечерней температуры воздуха и интересуется все еще не окончательно составленным списком гостей. Известно только, что кроме Краутвурста, без которого ничто никогда не обходится, будет Пауль Шустер, лауреат, – с женой, конечно, если таковая имеется.
Неизвестная жена Пауля становится главной утренней темой Ирены. Она придумывает множество лиц женского пола с одной лишь общей чертой – способностью прекрасно печатать на машинке. Она-то ведь знает, какой тип предпочитает Пауль, что в женщинах его привлекает, что отталкивает, что ему нужно или что он считает нужным ему. Правда, знаниям ее уже восемнадцать, а то и более лет, но поскольку, по ее мнению, иные свойства души складываются в детском возрасте для пожизненного пользования (направленность любви, например), она не придает этому значения.
Она восхитительна, когда ее неостывающий интерес к людям дает волю ее фантазии. Давно забыт умысел, с каким она начала разговор: хотела отвлечь Тео, а отвлекла только себя. Ее очень интересует эта женщина, гораздо больше, чем сам Пауль или его возможные дети. Найдут ли Шустеры общий язык с Краутвурстом, с фрейлейн Гессе, с профессором Либшером?
Значит, она уже точно знает, кого пригласить. У Тео есть лишь некоторые возражения против Либшера, но он не настаивает на них, когда Ирена дает понять, что в вопросах такта, дипломатии, светской обходительности разбирается лучше, чем он, который в своей работе и в своих нравственных понятиях часто витает слишком высоко над действительностью, чтобы правильно судить о ней.
Она думает так не вполне, но все же почти серьезно. Тон легкой самоиронии относится преимущественно к собственной манере выражаться. Им она извиняется за глупые обороты речи вроде: «Чему быть, того не миновать» – и напрасно, ибо как ни ненавидит он их и как ни нетерпим к ним, когда слышит их от коллег и студентов, в ее устах они нисколько не раздражают его. В ней нет вообще ничего, что его раздражало бы.
Услышав, что дочь Корнелия вышла из своей комнаты, он целует Ирену (осторожно, чтобы не опрокинуть поднос) и поднимается. Любит ли профессор фондю, хочет знать Ирена.
– Спроси у него, – говорит он, и уже у дверей: – Ты позвонишь?
Последний вопрос вот уже полтора десятка лет входит в их ритуал прощания. Для такой дружной пары разлука на целый рабочий день слишком длительна. Ее необходимо прервать телефонным разговором, о точном времени которого условиться трудно, поскольку работа Ирены не поддается регламентации.
Нерешенным остается и вопрос, присутствовать ли Ирене на церемонии. Трое польских специалистов по торговле фруктами, которых она опекает как переводчица, отнимают у нее очень много времени. К тому же она не знает, что было бы Тео приятнее. Он рад бы сказать ей это – она ведь должна соответственно одеться, – но он и сам не знает.
Они снимают квартиру в пригороде, по названию которого, куда входит имя одного монарха, можно определить время его основания. В небольшом особняке господина Бирта на Вальдштрассе, неприметном доме с двускатной крышей и центральным отоплением, они из четырех комнат занимают две. Кухня, ванная и уборная у них общие с господином Биртом. Сад тоже к их услугам; работать в нем им не нужно, они должны только восхищаться им. Но эту обязанность Ирена выполняет за всех троих. Никаких споров с домовладельцем у них не бывает, прежде всего благодаря ей. Он очень расположен к Ирене. Тео еще не встречал человека, который не был бы расположен к ней.
В маленькой комнате живет Корнелия. Другая, со стеклянной дверью на террасу в саду, служит родителям спальней и гостиной. Здесь стоит и письменный стол Тео. Ему хорошо работается, когда Ирена в комнате, даже если она включает телевизор. Ей хорошо спится, когда он работает – вечером, ночью или утром. У нее крепкий сон. Когда он ложится к ней под одеяло, она довольно мурлычет, подсовывает свою руку под его плечо и продолжает спать. У них только одна кровать – не из-за экономии или тесноты, а просто потому, что им только одна и нужна.
Одно из тех правил, какие складываются за долгую супружескую жизнь, состоит у них в том, что одевается каждый в одиночестве. Поскольку им редко приходится вставать одновременно, они не привыкли показываться друг другу в нижнем белье. Поэтому и сейчас он, с неготовым докладом под мышкой, отправляется через прихожую в комнату Корнелии.
Там в оконной нише стоит рабочий стол. Тео отодвигает в сторону книги, письма и пластинки, раскрывает свою папку и безрезультатно пытается сосредоточиться. Дом слишком звукопроницаем. В гостиной дряхлые ампирные часы хрипло бьют девять раз. Значит, половина восьмого. В его присутствии Корнелия демонстративно затыкает себе уши при этих звуках; она подозревает, что этим памятником старины, всегда старающимся опередить время, которое он должен показывать, отец дорожит лишь из-за моды. Она не верит, что он любит их потому, что их любил его отец, получивший их от своего отца.
Ирена не жалуется на часы, терпит их ради Тео, но единственное их достоинство видит в том, что шум их подчеркивает окрестную тишину, нарушаемую только в конце недели, когда берлинцы устремляются на лоно природы. Но это радостный шум, и он никогда не мешает Ирене. Веселые люди ей симпатичны. Серьезность она признает лишь как следствие взволнованности или воодушевления. К грустным, равнодушным или унылым людям она бывает несправедлива. Когда иностранцы, с которыми ей приходится общаться, тоскуют по дому или их угнетает непривычный климат, она, само воплощение приветливости, должна принуждать себя к ней. Когда дочь какой-нибудь пустяк возводит в проблему, она считает это неприличным. Раз уж не можешь быть веселым (а кому это может быть невесело – в наше время, в нашей стране), то хотя бы держись весело. Она ведь умеет это, всегда умела, если не считать той давней поры, когда была с Паулем.
Но о тех временах она думает редко, и уж во всяком случае не сегодня, когда хочет встретиться с ним как можно непринужденнее. Она хочет насладиться этим днем, как всяким другим, от начала до конца, насладиться кофе, медом, сигаретой, солнечным светом, ванной, своим отражением в зеркале, когда вытирается, видом своей кожи, которая и зимой не белая, а после первой солнечной ванны становится золотисто-коричневой, как те булочки, что Тео уже успел принести. Она смуглянка и, конечно, гордится этим так же, как иные гордятся бледностью, толстыми ногами, худыми ногами и как сама она когда-то гордилась своей грудью, после чего ее гордость вовремя перешла на другие, менее подверженные изменениям части ее небольшого тела. Обеими руками она придает груди прежнюю форму, невольно начинает смеяться над собой, но находит, что смех ее красит, и смеется теперь уже по этой причине, смеется, покуда не кажется себе глупой, хотя вообще-то, подкрашиваясь, никогда не смеется: это работа серьезная. Она считает своим долгом нравиться людям, да и вообще делает почти все в угоду другим, в отличие от мужчин, которые утверждают, что делают все ради так называемого дела, и при этом растут в собственных глазах. Как будто дела важнее людей! Тео радуется ее приправленному альтруизмом тщеславию, но позволяет и ей посмеиваться над его тщеславием, которое он называет сознанием долга.
Он слышит, как она выходит из ванной и через прихожую направляется на кухню. Дочери, которая в это время там стоя завтракает, она показывается только теперь, полностью собранная, чтобы подать пример, к сожалению не побуждающий к подражанию. То, что Корнелия в свои семнадцать еще не умеет подобающе одеваться, огорчительно для матери, но еще огорчительней, что дочь не желает учиться этому и свое нежелание теоретически обосновывает, – рановато, стало быть, начинает пользоваться методом, по которому не жизнь строят на принципах, а под наиболее удобный образ жизни подводят принципиальную базу. Прихорашивание – то, что для Ирены так важно, – она называет отвлечением от главного, увещевания Ирены – мещанской мудростью.
В своих потертых синих холщовых штанах, которые она носит изо дня в день, Корнелия выглядит как дитя бедняков, считает Ирена и стыдится за дочь, но достаточно умна, чтобы не показывать этого. Она не хочет начисто терять контакт с дочерью. Такая опасность существует, а с полгода назад особенно усилилась. Именно с тех пор Корнелия пребывает в постоянной меланхолии, которая то переходит в задиристость с приступами ярости, то находит выход в слезах. О причинах такого мрачного настроения Ирена и Тео, конечно, догадываются, но ничего определенного не знают. Когда однажды истерические рыдания завершились взрывом нежности к матери, Ирена отважилась на прямой вопрос, но в ответ дочь лишь с настороженностью и обидой покинула ее.
Тео более искусен. Он с естественностью принимает ее такой, какая она есть, и не показывает, что хотел бы видеть ее другой. Иногда она за это платит ему доверием. Ирена рада этому и ничуть не ревнует, чувствуя, что ей теперь с ребенком не справиться. Так всегда было в их браке: чего не умеет один, умеет другой. Но причин горя Корнелии не узнал и Тео.
– Я на твоем месте вставала бы на четверть часа раньше! – говорит Ирена.
Тео бы не сказал этого, но он не сумел бы это и сказать так – без всякого упрека, приветливо, с улыбкой, просто как добрый совет, которому, однако, не внемлют.
Жующая Корнелия указывает пальцем на кухонный шкаф с прикрепленной к нему запиской: «Глубокоуважаемая фрау Овербек! Простите меня, пожалуйста, если я обращаю ваше внимание на то, что ночью опять в кухне горел свет. С наилучшими пожеланиями на сегодняшний день ваш Иоганнес Бирт».
Тео никогда не научится оставаться спокойным в таких случаях. Окажись Бирт когда-нибудь поблизости от своих свеженаписанных записок, он нагрубил бы ему, предложил бы, например, всегда оплачивать весь счет за электричество, что Бирта наверняка бы обидело. Бирту деньги вряд ли важны. Ему нужно немного. Важнее ему, наверно, контакт с Иреной, которая с такой же любезностью, с какой он составляет свои записки, умиротворяет его объяснениями.
– Конечно, это опять отец виноват, – говорит Корнелия. – Вообще-то такую рассеянность можно позволить себе, только став, наконец, профессором. Почему он, собственно, опять сидит ночи напролет с настоем ромашки?
– Он тревожится за свой доклад, – отвечает Ирена.
– А не за тебя? Ведь в конце концов Шустер твой бывший.
Ирена смеется своим чистым, звонким смехом, всегда восхищающим Тео и кого угодно, кроме, пожалуй, дочери. И это ответ более убедительный, чем если бы она воскликнула с пафосом: «За меня папе еще никогда не приходилось тревожиться!»
Дочь ничего больше не говорит, берет свою сумку и быстро уходит из дому. Ирена убирает посуду в таз для мытья. У Тео ее смех на мгновение вызывает чувство защищенности, сходное с тем, что он испытывал в детстве: лежишь в постели, холод и враждебность дня позади, ровно дышит сестренка во сне, и что бы где ни происходило, приглушенные голоса родителей за стеной гарантируют защиту и безопасность.
Немного позже уходит и Ирена. Тео со своего места у окна видит, как она останавливается на пороге. В светлом костюме, она стоит и с удовольствием вдыхает прохладный утренний воздух. Она держится прямо, слегка подняв голову: Ее Высочество переводчица Ирена Овербек, жена д-ра Тео Овербека, готова радовать мир радостью, которую мир ей доставляет. С высоты трех маленьких ступенек она улыбается солнцу, слабому ветерку, деревьям и тотчас находит подданного, уже ожидающего ее, чтобы принять извинения и показать последние чудеса сада.
Тео всегда приходят на ум сравнения с ланями, газелями, благородными белыми птицами, когда он видит, как она идет рядом с неуклюжим стариком – на своих ногах манекенщицы, легкая, воздушная, подвижная. Легок, как пушинка, и ее голос, когда она рассказывает о желудочных болях мужа, и, как дуновение, звучит ее радость при виде цветов Бирта, – это не смех, уж никак не хихиканье, а скорее совсем тихий вздох откуда-то из глубин ее естества. Этим она уже сломила всякое сопротивление, этим она могла бы заставить господина Бирта упасть на колени. Он еще долго стоит у изгороди и машет ей вслед, хотя его слабые глаза уже не видят ее. Он знает, что она еще раз обернется, прежде чем свернет на Банхофштрассе.
Тео снова уставился в свои бумаги, листает написанное, то, что должно стать речью сегодня днем. Еще нет начала, еще нет конца, еще нет опорной мысли в основной части. Написано уже много, но, в сущности, еще ничего нет. Он начинает писать, начинает заново, без устали, в надежде, что всякий труд приносит плоды, что подлинное усердие вознаградится. Ему все еще нечего сказать во славу прославляемой книги, он может расписать это «нечего сказать» на шести страницах, но нужно двенадцать – пятнадцать, которые он легко заполнил бы, не мешай ему собственное мнение.
Профессор Либшер поручил ему это, потому что знает о его дружбе с Паулем. От него ждут слов с личной окраской. Их он и может сказать, не кривя душой: «Помнишь тот летний вечер в твоей родной деревне... Как первый читатель твоего первого произведения... Я был студентом второго курса, когда имя Пауля Шустера мне впервые...»
Не в этом трудность, не в личном плане, а в существе дела, в книге.
2
Девятнадцать лет назад Тео Овербек и Пауль Шустер встретились впервые. Нескольким студентам, посланным в юго-восточную часть провинции Бранденбург на уборку урожая, было поручено организовать сельскую молодежную группу. Стихами и речами они нагнали тоску на горстку молодых людей, пришедших в закрытую на время беседы столовую, и отчаянно пытались дискуссией сломить молчание, которое в конце концов сковало их самих, после чего Тео пришла в голову спасительная мысль заставить каждого назвать свою фамилию и рассказать биографию. Подавая пример, он начал с себя, рассказал об отце-пролетарии, который еще в фашистское время привил ему антифашистское мышление, о принудительном пребывании в гитлерюгенде и вермахте, о ранних литературных склонностях, приведших его к изучению германистики. Кто дурачась, кто смущенно, кто самодовольно – все попытались подражать ему. Один лишь Пауль, пренебрегая примером, сердито пробурчал: отец его столяр, сам он рыбак, а фамилия его Шустер [1]1
Schuster – сапожник (нем.).
[Закрыть]. Имеет ли отец собственное дело, спросил Тео. Да, но на Западе. А где мать? Тоже там, бежала. Пауль вернулся оттуда один – дополнили другие.
Это было как раз то, что требовалось Тео для заключительной речи. Жизнь Пауля обрела в ней округлые, удобные формы, стала показательной, несмотря на протест прототипа, который, пробормотав: «Ерунда!» – убежал в ночь, но на следующий вечер был доставлен к Тео, чья терпеливая настойчивость заставила его разговориться.
Притянула его обратно некая Гудрун, девушка со светлыми косами. А молодая Республика? Это Пауль отверг, назвал себя человеком аполитичным и не внял объяснению, что его решение было совершенно политическим, но заинтересовался значением слова «объективно». Тео охотно разъяснил.
Если можно так обозначить отношения между миссионером и аборигеном, то это была дружба, длившаяся две недели и возобновившаяся после рождества, когда Пауль без предупреждения появился в дверях комнаты при магазине, служившей жильем для Тео, и протянул ему три исписанных школьных тетради. Он записал, как все было, сказал он, и заставил Тео тотчас приняться за чтение. «Возвращение. Рассказ об одной жизни» – значилось на титульных листах.
Но это была лишь часть рассказа о его жизни, та часть, где он жил только этой девушкой и ничем другим. Четыре года он тщетно ухаживал за ней, на пятый его осчастливил намек на прощальный поцелуй, на шестой письмо, из которого помимо всякой всячины можно было вычитать, что ей его не хватает, привело его обратно в родную деревню, где она призналась, что тем временем другой управился с ней ловчее, чем он.
Хотя Тео был в ужасе от аполитичного освещения событий, его тронуло страдание, беспомощно и тривиально пытавшееся найти здесь свое выражение. Его восхитили также мужество и энергия этого рыбака, который около полуночи заявил, что хочет стать писателем и надеется у него научиться этому.
После напоминания о его речах насчет равных для всех возможностей Тео капитулировал. Он предложил Паулю как временное жилье пустующее магазинное помещение, где, правда, не было стекол, зато имелось плотное жалюзи, наметил сокращения и дополнения, поправил грамматику и орфографию и передал рукопись дальше.
Редактор издательства нашел у Пауля талант и счел, что, дополнив и изменив его повесть о пережитом, можно сделать из нее книгу. После этого Пауль отклонил план Тео, советовавшего ему поступить на рабоче-крестьянский факультет. Он хотел только писать, писал ежедневно, вечерами и по ночам, работая днем у торговца углем, по воскресеньям читал Тео написанное, переписывал заново, пока через несколько месяцев им не овладевало отчаяние, которое гнало его по городу, в кабаки, на вечеринки, в объятия девушек и, наконец, в родное село, где он опять приходил в себя. Возвращался он в таких случаях как ни в чем не бывало. Однажды, когда Тео вернулся из университета, Пауль снова сидел за его письменным столом и в ответ на упреки сказал, что ему-де необходимы эти периоды загула и буйства. Тео, которого всегда возмущала недисциплинированность, про себя перевел его слова так: «Я, художник, скроен иначе, чем ты, педант!»
В одно из таких завихрений Пауль попал вместо Тео, которому нужно было работать, на студенческий карнавал, где смуглое лицо некоей утомленной гаваитянки заставило его, наконец, забыть бледное лицо вероломной Гудрун.
На следующее утро Тео впервые увидел Ирену. Неумытая, непричесанная, неподкрашенная, в мало что прикрывавшем белье и чересчур больших шлепанцах, она вошла в кухню и в его жизнь, судорожно зевая. Увидев его, она испугалась. С трудом соблюдая приличия, она пробормотала: «Доброе утро» – и спросила, словно имела на то право, его, хозяина (вернее, главного съемщика) квартиры, кто он и что тут делает.
Это произошло на второй день каникул, утром, в семь тридцать пять, то есть уже на пять минут позднее, чем нужно было, чтобы, как он вменил себе в обязанность, стоять у двери библиотеки перед ее открытием. Чай еще не вскипел, сало, которому к этому времени полагалось быть уже прозрачным, а то и коричневатым, не было еще нарезано, способность разговаривать без нервного напряжения раньше восьми часов отсутствовала, книга для чтения за завтраком была уже раскрыта, то есть любая помеха нежелательна и единственный способ встретить ее – полная безучастность. Итак, он ничего не ответил, отрезал кусок сала, пропустил мимо ушей второе приветствие, заварил чай, нарезал сало на узкие ломтики, игнорировал третье приветствие, разрезал ломтики поперек, зажег газ, подождал очередного приветствия, поставил сковородку на огонь, бросил сало на сковородку и, растерявшись из-за затянувшегося молчания, кинул сердитый взгляд на дверь, угодивший помимо воли как раз в то место, которое куцая рубашечка скорее подчеркивала, чем прикрывала, что привело его в смущение, может быть, даже вогнало в краску и заставило залить сало чаем.
Издевательского смеха, которого он ожидал, не последовало, зато послышался короткий испуганный вскрик и быстрые шлепающие шаги. Она оттолкнула его в сторону, схватила сито, сдернула сковородку с огня, вылила чай через сито в раковину и бросила сало снова на сковородку.
Тут он сказал ей первое слово. Это было «спасибо». И поскольку из-за ее скудного одеяния он не мог глядеть на нее, он сказал это, отвернувшись к окну и случайно остановив взгляд на купальном халате, закрывавшем разбитое стекло. Он указал туда рукой и произнес второе слово: «Пожалуйста». И когда она надела халат, засучив рукава настолько, чтобы руки ее были видны, он сделал нечто вроде поклона, впервые посмотрел ей в лицо и назвал свое имя, в ответ на что она впервые засмеялась, и это, как он потом утверждал, привело его не в восторг, а в такое же смущение, как прежде – чрезмерная ее обнаженность.
И он вернулся к сковородке, разбил яйцо над салом с чаинками, а она сказала ту фразу, с которой, в сущности, и началась история его борьбы против нее, из-за нее и за нее. Она сказала: «С завтрашнего дня мои вещи будут здесь», что только и могло означать, что она собирается здесь поселиться.
За всю свою, короткую жизнь он редко бывал так зол и беспомощен, как в это утро. В конце концов, квартира принадлежала ему; из чувства дружбы, ответственности, или как бы его ни назвать, он делил ее с Паулем и мирился со всеми вытекавшими отсюда помехами своей работе: с ночными попойками, задолженностями по квартплате, беспорядком и даже с сомнительными девицами, которые, бывало, выходили из магазина поздно утром или же исчезали в полдень, но никогда не заикались о возвращении, а тем более о том, что останутся, как сейчас вот эта, которая сразу же взяла на себя роль хозяйки и была настолько глупа, что поверила каким-то опрометчивым постельным клятвам. Что она останется ненадолго, было ясно, но даже несколько дней или недель казались достаточным поводом для досады, которая была, возможно, вовсе и не досадой в чистом виде, а еще и завистью, а еще и мгновенно вспыхнувшей ревностью, а еще, может быть, и огорчением по поводу несправедливости, царящей в этой области (остававшейся покамест на карте его жизни белым пятном), – возможно, всем понемножку, но с виду прежде всего досадой: на новую форму беспокойства и на неминуемое замешательство, которое он уже почувствовал, услыхав, как она смеется над его корректностью.
Когда она призналась, что у нее нет с собой зубной щетки, он ответил, вопреки своей натуре, язвительно: самое необходимое ей надо бы постоянно носить в сумке, чтобы быть всегда наготове.
Его поразило, как она реагировала на этот оскорбительный выпад. Не возмутилась, не расстроилась. Приняла такой вид, словно он неудачно пошутил, – сочувственно улыбнулась, чтобы прикрыть неловкость. Она просто не считала его способным на умышленное оскорбление, так же как позднее – на попытки сближения. Начиная с первого утра в кухне она навязывала ему роль доброго товарища, утешителя, советчика, исповедника, которому позволено все знать, потому что он молчалив, доброго друга, которому позволено все видеть, потому что мужские чувства в нем не предполагаются. И он безропотно принял эту роль, не протестовал, другой (поначалу) и не хотел, подчинился, старался, как мог, играть ее и не удивлялся тому, что великолепно справляется с ней. Ибо это была подходящая для него роль. Он мог играть самого себя или часть себя. Тем, кем он прежде был для одного, а именно для Пауля, он стал теперь для двоих: путеводным знаком, маяком, скрижалью закона, столпом порядка. Выгода этой вынужденной роли, оцененная им, впрочем, лишь позже, состояла в том, что его постоянно информировали об их отношениях.
Две главные заботы все время угнетали Ирену: отсутствие денег и ее понимание (или непонимание) того, над чем корпел Пауль.
Она вела тогда три списка: в один, самый короткий, заносила доходы, в другой – расходы, в третий, самый длинный, – долги. Но богаче они от этого не становились, и даже научиться чему-нибудь было невозможно, потому что один месяц не походил на другой. То отпадала ее повышенная за хорошую успеваемость стипендия, то сокращалось или прекращалось его рабочее пособие, иной раз у него бывали приработки, иной раз у нее – средних размеров, маленькие, больших никогда. Самыми скудными были месяцы, когда у Пауля хорошо двигалась книга. Тогда торговец углем совсем не видел своего помощника, а клиенты Ирены-машинистки должны были набираться терпения, ибо во всякий свободный час она, усталая и голодная, сидела за машинкой, в десятый раз перепечатывая первую главу и мысленно выискивая возможности заработка: потому что наступал срок квартирной платы, потому что никто из друзей не давал больше денег взаймы, потому что она больше слышать не могла запаха ливерной колбасы с луком. В свободное от занятий время она печатала на машинке ради денег, переводила ради денег, вязала, шила, чистила, стирала и штопала ради денег, пока ей кто-то не предложил работу в одной западноберлинской типографии: ежедневно с восемнадцати до двадцати трех, одна западная марка в час, тридцать восточных за вечер, если не привозить оттуда сигарет и кофе или иной раз пары чулок, – легкие фальцовочные операции над проспектами и грампластинками (Хитпарад I, II, III, IV), сто, тысяча, десять тысяч раз одно и то же движение, в девять – чашка кофе, несмотря на гладилку – мозоль на правом большом пальце, а лучше бы на барабанной перепонке, потому что старик, словно бы подтверждая все расхожие представления о хозяевах, сидел перед ними этаким общительным надсмотрщиком и говорил без умолку о времени, когда он снова сможет печатать армейские циркуляры, и о том, что он называл своей философией: несчастье – это вина души или отсутствие благоразумия, ибо душа – это могучая сила; наиболее часто обдумываемые мысли материализуются полнее; кто боится бедности, тот накличет ее. С ним разрешалось дискутировать (фальцуя), причем марксистским контраргументам он отдавал особое предпочтение. Но когда он увеличил свою армию восточных студентов и стал увольнять рабочих, профсоюз пригрозил процессом, и он, спасовав, пожелал оставить одну Ирену – секретаршей, с восемнадцати до двадцати трех часов, в его квартире. «Почему бы и нет? – сказал Пауль. – Раз он хорошо платит. Что ты думаешь о таком первоначальном накоплении?»
После утреннего разговора в кухне с Тео она прониклась его возмущением и нанялась в прислуги к одному социалистическому архитектору, который признавал чай лишь в тончайшем китайском фарфоре, каковой она сервировала и мыла, покуда все нараставший страх перед черепками не заставил ее бежать к одному врачу, чьи приемные покои надо было убирать с шести до девяти утра, что имело следствием сон на лекциях и провал на переходных экзаменах.
Отчисление из института было для нее облегчением: «Теперь я всего-навсего твоя жена».
Днем она работала телефонисткой в оптовом химическом магазине, вечером перепечатывала шестнадцатый вариант первой главы или слушала шестой вариант второй или первый – пятой.
Когда Пауль говорил, что хочет ей почитать, он бывал счастлив, а она пугалась. Она отодвигала машинку, откладывала посудное полотенце, оставляла суп недоваренным, садилась, внимательно слушала – и начинала мучиться. Потому что никогда не знала, как ей держаться, чтобы не мешать его счастью.
У нее всегда должно быть время для него, сию же минуту, сразу же, это не подлежало сомнению. Она не смела ерзать на стуле, даже просидев несколько часов, вставать, чтобы опустить шторы, подбросить угля или выключить свет в коридоре. Не смела также вязать, или шить, или подпиливать ногти. Обязана была изображать внимание, смотреть на него, когда он отрывал глаза от текста, чтобы проверить, какое впечатление производит прочитанное, обязана была проявлять взволнованность, улыбаться, показывать, что испытывает боль. Все это она умела. Трудно было только в нужный момент делать что нужно, поскольку она никогда не была уверена, что воспринимает прочитанное так, как задумано у него.
Но самое большое мучение начиналось потом. Когда он умолкал, откладывал в сторону последний лист, брал сигарету и выжидательно смотрел на нее.
Утром в кухне она жаловалась Тео: никогда она не постигнет, как ей держаться, чтобы он был доволен, – жалобу эту Тео считал неправильной в самой основе. Вместо того чтобы спрашивать, умно ли было говорить то-то и то-то, лучше бы она заботилась о правде! Она должна говорить то, что действительно почувствовала, только это может помочь Паулю!








