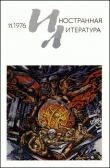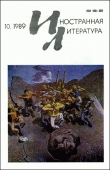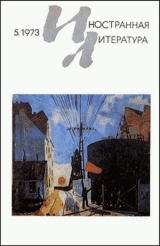
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Если верить психологам, что в каждом человеке заложено совершенство, то всякая специализация означает ограничение имеющихся возможностей, всякое приспособление к реальности – принуждение и топтание на месте. Теоретически, если позволяют общественные условия, любой человек вправе решить, какие задатки развивать, каким дать заглохнуть. На практике же это редко бывает, поскольку приспосабливаться надо не только к обстоятельствам, но и к своему слишком рано определившемуся «я». И если уж редко удается делать, что хочешь, то еще реже удается хотеть, чего хочешь.
Тео и Либшер начали в одно и то же время в одном и том же университете изучать одни и те же предметы и при одних и тех же условиях вступили на научное поприще, но, сами не зная почему, достигли очень разных результатов. Либшер стал лучшим, чем Тео, преподавателем, Тео – лучшим, чем Либшер, ученым. Один чувствует себя популяризатором, другой – исследователем. Один добивается ясности, другой – истины. Объединенные в одном человеке, они явили бы идеал профессора, каждый порознь – фрагмент.
Покуда они находились на одной иерархической ступени, они без всякой неприязни друг к другу понимали, что недостатки одного порой были достоинством другого, и оба старались, насколько возможно, дополнить друг друга. Тем не менее дружба не совсем удавалась.
Хотя утверждают, будто наиболее критически настроенный друг – самый лучший, он все же и самый утомительный, и об это часто спотыкается дружба, во всяком случае так было с их дружбой. Чем старше человек становится, тем больше он привыкает к самому себе. Сильные стороны кажутся ему усилившимися, а недостатки перестают ужасать. Он научается определять, что он умеет и что ему не дано, и, даже признавая достоинства другого, все же старается отделиться от него и ищет себе друзей, чьи характер и знания – не постоянный упрек, а утверждение. Тогда не приходится все время защищать свое мнение о вещах и людях, растолковывать мысли, описывать чувства. Все понятно с полуслова или вовсе без слов. Излишни оборонительные маневры, меры предосторожности, обтекаемые формулы и изнурительные атаки. Высвобождается время для смакования диалога, для орнаментации, игры ума. Исчезает боязнь поражения или провала, и укрепляются прежде всего собственные позиции.
Такую гармоническую, или почти гармоническую, дружбу Тео завел с Краутвурстом, профессор же Либшер – ни с кем. Ему было бы нетрудно иметь друзей, но сам он другом не может быть. У него нет для этого необходимой доброжелательности, способности радоваться испытываемой к кому-то симпатии. Он предпочитает общаться с людьми, которых может себе подчинить. Даже любви к своей специальности он не отдается. Это полезно его карьере. Ведь общество, которое его призвало и оплачивает, состоит в конце концов не из одних литературоведов, оно шире, и эта наука, как и всякая другая, для него лишь средство для достижения цели, цель же – мощь, расцвет, прогресс. И организовать в этом духе науку, руководить ею, учить – с такой задачей Либшер, конечно, лучше справится, чем Овербек, человек влюбленной сосредоточенности.
Пропасть между ними, естественно, углубилась, когда к различию их характеров прибавилось различие в субординации. Причины этого крылись едва ли в Тео, а скорее всего вовсе не в нем, обойденном, разочарованном, который, правда, если грубо разделить ассистентов на две группы, на подпевал и критиков, принадлежит к последним, но профессора Либшера он, чтобы не прослыть завистником, от критики оберегал. Однако чем меньше он атаковал его, тем больше тот чувствовал себя атакованным. Поскольку Либшер знает, что сам он на месте Тео повел бы себя враждебно, ему кажется, что Тео враждебен к нему, и он защищается, подчеркивая неравенство их положения сильнее, чем нужно. Это делает их отношения все более гладкими, ровными и безличными. Философская холодность на лице Либшера сгущается в холод власти. Его прежний товарищеский холодок застывает в лед формальной вежливости.
– Извини, пожалуйста, но я тебя не понимаю.
Либшер отучил себя высказывать суждения, которые теперь называет опрометчивыми. Он научился не доверять себе. Он стал мудрее – несамостоятельнее, может сказать тот, кто несогласен с его объяснением, что с ростом влияния возрастает ответственность за суждения и потому лучше подождать (например, завтрашней утренней газеты), чем выпалить мнение, которое потом придется изменить.
В данном случае ждать, конечно, невозможно, да и не нужно. И если он просит Тео повторить, то только для того, чтобы заставить его дать ясную формулировку. Ибо хотя в скромную кооперативную квартиру Либшера Тео пришел вроде бы как частное лицо, на самом деле это совсем не так. И это дает ему, Либшеру, право требовать настолько четко сформулированного вывода, чтобы в случае необходимости его можно было запротоколировать.
Потому либшеровское «Я тебя не понимаю» – вполне допустимая и необходимая для него уловка, с другой же стороны – это чистая правда. Он действительно не понимает, чего от него ждет Тео. Хотя он и понимает, что говорит Тео, но не понимает, зачем тот говорит это, – говорит ему, от кого может ждать лишь таких ответов, какие и сам себе мог бы дать.
– Мне нужен твой совет, – так Тео начал, но как будет выглядеть этот совет, он должен был знать заранее. Ведь не может же он быть настолько наивным, чтобы предполагать, будто он, Либшер, его шеф, через которого это поручение было передано, посоветует не выполнять его. Возможно лишь одно: Тео пришел к нему как к исповеднику, не за советом, а за отпущением грехов – греха, который только еще предстоит совершить.
Тео дали поручение. Он принял его. А в самый последний момент колеблется его выполнить. Потому что надо хвалить книгу, похвалы якобы не заслуживающей.
– Это ты считаешь ее не заслуживающей похвалы.
– Какая разница, если речь держать мне.
– Ты можешь ошибаться.
– Разумеется. Но даже если то, что я вынужден сказать, было бы правдой, получилась бы ложь. Никому не повредит, если премия будет вручена без похвальной речи, но если я произнесу ее, это повредит по меньшей мере одному, а именно – мне.
Теперь позиции Либшеру ясны. Перед ним сидит человек, которому спасение собственной души важнее всеобщего блага, мещанин, который свою внутреннюю ограниченность принимает вообще за человеческие границы, субъективист, который ищет спасения мира в спасении душ. Если бы этот идеализм не был так распространен в быту, он был бы сегодня уже так же смешон, как понятие о чести какого-нибудь офицера-дворянина, за которым можно признать то же, что так важно для Тео: субъективную честность.
– А если ты сейчас увильнешь, думаешь, это не повредит тебе?
– Я не думал о том, как это скажется на моей карьере.
Конечно, думает язвительно Либшер, это совершенно чуждо такой благородной натуре! Но, как это ни невероятно, он верит Тео. Он часто размышлял об этой странной вещи. Житейскую беспомощность люди типа Тео преобразуют в мораль. Они всерьез полагают, будто того, чего они не могут достичь, они достичь не хотят, и отсюда выводят право поносить удачливых, называть их карьеристами. Это кажется пережитком, но отомрет он, видимо, лишь тогда, когда восторжествует мнение, что важна в конечном счете полученная польза, а не чьи-то там высокие или низменные побуждения. Самый расчетливый карьерист удержится на своем месте лишь в том случае, если напряжет все свои силы, а это в общем-то и обеспечивает достижение цели.
– А долг, ответственность, дисциплина – все это для тебя ничто?
– По части громких слов я раньше тоже был мастак, – говорит Тео, устав от дискуссии, им же затеянной. Тихо, словно его не интересует, слышит ли собеседник, он говорит о формальности всех этих понятий, которые становятся бессмысленными, если не знать, к чему они относятся. Ведь обязанности гражданина и литературного критика, педагога и отца семейства могут и противоречить друг другу. Ведь как раз ответственность специалиста за свою область может помешать ему стать орудием долга, якобы подчиненного какому-то высшему долгу. – И во имя дисциплины уже многие скатывались до роли соглашателя.
– Стать отрицателем – это, по-твоему, значит возвыситься, – говорит Либшер несколько громче и раздраженнее, чем ему пристало бы. – Ты задираешь нос и умничаешь, Тео. Но рано или поздно ты образумишься и будешь рад, что не наделал себе хлопот.
– Не имеет смысла продолжать, – говорит Тео и поднимается. – Мы говорим о разных вещах: я – о лжи и правде, ты – о вреде и пользе.
– Я должен напомнить тебе то, о чем ты забываешь!
– Речь идет не обо мне, а о деле, о нашем великом деле, которое также и твое, насколько я знаю. Я критикую не решение жюри, состава и мотивов которого не знаю. Мне не жаль премии для Шустера, которой много лет назад, появись тогда его книга, он заслуживал бы с большим правом. Тогда его книга, при всех несовершенствах, была бы образцом. И я ликовал бы. А сегодня я должен сказать: затаскано, устарело. Мы уже другие сегодня – мы, читатели. А мы, критики, не хотим этого видеть? Не хотим признать, что такие книги больше не удовлетворяют возросших запросов? Кому нужны расхваленное старье, премированная макулатура?
– Ты преувеличиваешь!
– Согласен! Но я имею в виду не практику присуждения премий. Хорошо, что у нас есть достаточно премий, чтобы суметь многих почтить и поощрить. Я имею в виду нечто большее.
– Я бы сказал: меньшее, просто мелочи. Ты внезапно обнаруживаешь, что существуют условности. Они существуют всегда и всюду, где люди живут по каким-то правилам общежития.
– Для того ли мы изменили имущественные отношения, общественные формы, чтобы капитулировать перед условностями? Ты хочешь к ним приспособиться, а я хочу приспособить их к нам.
– И при этом принести политический вред.
– По большому счету, куда вреднее закрывать глаза на нечестность.
– Ты должен был раньше подумать.
– В этом ты прав, но только в этом.
Тео уже держит папку в руках, но не уходит. Возникает неловкая пауза, которую, наконец, прерывает Либшер. С большим трудом ему удается даже взять дружеский тон:
– Что мне, черт побери, еще сказать тебе? Никто не требует, чтобы ты усердствовал в похвалах. Ты просишь совета – даю его тебе: всегда возможны компромиссы. Делай, что должен, но не больше, чем хочешь. И не забывай: обязанность каждого – добиваться успеха.
Есть в нем все-таки что-то трогательное, думает Либшер, глядя ему вслед из окна. Такое самоистязание всегда трогательно, но до чего же бесполезно.
7
Меланхолия Корнелии Овербек началась полгода назад, на одной из вечеринок у ее подруги Катарины. Она там всегда скучала и все-таки туда ходила. Каждый раз ждала чего-то, чего, сама не знала, – и все напрасно. Танцевала она плохо и неохотно и чувствовала себя лишней. Ее сильные стороны, состоявшие главным образом в умении дебатировать на политические и философские темы, были здесь ни к чему. Громкая музыка исключала сколько-нибудь обстоятельный разговор.
– Кто был твой последний партнер? – спросила она у своей подруги. – В пронзительно ярком галстуке.
– Мотогонщик, его привел Маттиас. Его зовут Франк Унгевиттер. Если он интересует тебя, я сейчас его пришлю.
– Спасибо, незачем.
Фамилия Унгевиттер – гроза – совершенно не подходила этому молодому человеку. Ландрегеном – затяжным дождем – ему бы называться, подумала Корнелия и улыбнулась своей шутке, которая ей понравилась. Он действительно казался скучным, как нескончаемый дождь. И чтобы понять, что вызывает это впечатление, Корнелия так долго смотрела на него, что Катарина спросила насмешливо, не сыграть ли ей роль свахи.
– Избавь меня, мать! – воскликнула Корнелия, подняв, отбиваясь, руки. Она поняла, что впечатление скуки возникало прежде всего из-за бесцветности Унгевиттера. Из-под белесых волос бледного лица смотрели светло-серые глаза. «Не так уж нелеп этот галстук», – сказала она себе и тут же начала думать о другом: о заявлении в институт, которое еще должна подать, об очередной контрольной по математике и о своем плане незаметно исчезнуть.
Когда она искала свою сумочку позади себя на диване, Унгевиттер танцевал так близко от нее, что ей пришлось подобрать ноги; продолжая какой-то длинный рассказ, он в этот момент говорил партнерше: «Луг спускался к броду. Местность была к тому же болотистая и берег крутой. Одним словом, идеальное место, чтобы сломать себе шею. Я, значит, даю газ...» Дальше она не слышала.
Корнелия сказала себе: «Голос тоже бесцветный», нашла сумочку и попрощалась с Катариной.
Тут Унгевиттер вдруг загородил ей дорогу и пригласил танцевать.
– Не попробовать ли нам? – спросил он, и только теперь Корнелия заметила, что он немного не вышел ростом.
– Поздно, отец, – сказала она, проскользнув мимо него к двери.
В последующие недели она не раз, просыпаясь по утрам, или перед сном вечерами, вспоминала о светлом юношеском лице, и это вызывало у нее улыбку. Забавно, думала она, маленький, бледный, к тому же эта фамилия! Когда же лицо его стало возникать перед нею и на уроках, она попыталась сопротивляться этому, вызывая в памяти случайно услышанные фразы и считая их неприглядным бахвальством врунишки, старающегося пустить пыль в глаза. Но это не помогало: даже хвастовство превращалось в картину, которую она не могла отогнать от себя: с грохотом несется Унгевиттер на мотоцикле с откоса, высоко взлетают брызги воды, когда он пересекает брод.
Она увидела его снова лишь на следующей вечеринке у Катарины. Когда подруга указала ей на него, она сделала вид, будто забыла его фамилию.
– Как же, помню. Его фамилия не то Хагель, не то Небель [2]2
Hagel – град, Nebel – туман (нем.).
[Закрыть]. Во всяком случае, что-то метеорологическое.
– Он спрашивал о тебе. Пришвартовать его сюда?
– Делай что хочешь, – сказала Корнелия и углубилась в изучение конверта от грампластинки, текст которого прочла от начала до конца, не поняв ни слова.
Унгевиттер был в другом галстуке, не менее пестром, чем в прошлый раз. Он много танцевал с толстой девицей, дававшей выход своему молодому веселью в бесконечных взвизгиваниях.
На сей раз Корнелия осталась до конца. Когда она надевала пальто, сзади вдруг оказался Унгевиттер и шепнул ей на ухо:
– Подожди на углу, я провожу тебя немного.
Во взгляде, который она бросила на него, было столько презрения, на какое она только была способна. Она сразу ушла – и была разочарована, что он не последовал за ней.
С этого времени она принимала все приглашения, в том числе и такие, какими пренебрегала даже помешанная на танцах Катарина. Корнелия давно призналась себе, что делала это, только чтобы увидеть Унгевиттера. Иногда она просыпалась по ночам, когда отец шел в кухню. Она воображала, что шум вызван Унгевиттером, который взламывает дверь, чтобы проникнуть к ней. На уроках физкультуры ее мучило видение: вот он заглядывает в окно. Даже на уроках истории, ее любимого предмета, она мечтала о нем. Отметки у нее становились все хуже, но это ее не трогало. Однажды она побежала на улице за каким-то мужчиной только потому, что сзади он походил на Унгевиттера. Она боролась с собой, но безуспешно, и поэтому временами ее снедала ненависть к самой себе. Куда она только не бегала, чтобы встретить его, и нигде не встречала.
Ранней весной она сказала Катарине:
– Не упади в обморок от неожиданности, если я спрошу у тебя про того парня по фамилии Ландреген или что-то вроде этого. Один из поляков, которых иногда приволакивает ма, интересуется мотоспортом. Где его можно найти?
– Не имею представления, Конни, – ответила Катарина, ни о чем больше не спрашивая. – Спроси у Маттиаса, он ведь тогда привел его.
– Спроси ты. В конце концов, ведь это он твою вечеринку испортил.
– Он пристанет к тебе – не отделаешься.
– Ничего, не от таких уже избавлялась, – соврала Корнелия.
Катарина остановила Маттиаса на школьном дворе, а Корнелия стояла рядом и делала вид, будто не слушает. Но когда Маттиас сказал, что Унгевиттер на три месяца уехал на монтажные работы, она побежала в уборную и заплакала. Ежедневное ожидание встречи не давало возникнуть чувству полной пустоты, охватившему ее сейчас. Три месяца – бесконечно долгий срок. Три месяца не видеть его – все равно что никогда. В эти минуты бледнолицее видение и вовсе перестало нагонять скуку. Слезы смыли всякое предубеждение против него.
Явившись с опозданием на урок, она чувствовала себя полностью во власти своей муки. Целых четверть года не знать радости – это казалось невыносимым. Никакая книга не потрясет ее, никакой фильм не заставит смеяться, не будет ни спокойного сна, ни чувства превосходства в дискуссиях, ни счастливых озарений!
Сперва она еще старалась жить прежней жизнью, потом все больше и больше начала отдаляться от всего. Школа стала ей совершенно безразлична, дружелюбие родителей разжигало ярость. Вечеринок, кино, театра, собраний она избегала. На прогулках не в силах была выносить боли, которую ей причиняла оживающая природа. Самый незначительный повод вызывал слезы.
В один из нестерпимо долгих теперь вечеров у нее огоньком надежды в ночи страданий мелькнула мысль, что три месяца могут кончиться скорее, чем она ждала. Маттиас ведь не сказал, когда они начались. В последний раз она видела Унгевиттера незадолго до рождества. Если он тогда и уехал, то теперь мог уже вернуться. Боязнь пропустить, скорбя, день его возвращения, подавила все колебания.
– Ты должна узнать, когда возвращается Унгевиттер, – сказала она Катарине, но та отказалась еще раз спрашивать Маттиаса.
– Лучше я до конца своих дней не услышу битлов, чем дам пищу для слухов, будто гоняюсь за ним, – сказала подруга. – Но это не повод хвататься за наркотики. К кому ты с надеждой обращаешься, когда не знаешь, как быть? К партии, конечно.
С этими словами Катарина сняла трубку, набрала номер окружного комитета:
– Привет, папа! Дай-ка мне номер Бюро спортивного общества. Корнелия интересуется мотоспортом.
Она состроила гримасу взволнованно сидевшей на диване Корнелии и тут же снова набрала номер:
– Спортобщество? Послушай, болельщик, вы там не знаете некоего Унгевиттера? Говорят, великий мотогонщик... Ладно, пускай маленький, но не знаете ли, где и когда его можно поймать? – Она начала что-то записывать. Корнелия подошла посмотреть, что именно: сперва дату – пятое мая, потом адрес и номер телефона, потом после адреса в скобках «домашний», а после номера телефона в скобках «служебный».
Теперь, когда страданиям Корнелии был установлен срок, они несколько утратили свою остроту. Она стала воспринимать действительность. Школа опять обрела какое-то значение. Она вспомнила напряженность, с какой ждала, удовлетворят или отклонят ее просьбу о зачислении на философский факультет. Появились угрызения совести из-за того, что она так тиранила родителей. На осторожные попытки матери к сближению она отвечала теперь взрывами нежности. Иной раз ее подмывало довериться отцу, иной раз она испытывала сочувствие к нему, потому что он изводил себя из-за пустяков. Она бы могла открыть ему, что действительно велико и важно.
Но с приближением долгожданного дня в ней нарастала и тихая грусть, предчувствие, что действительность никогда не удовлетворит ее горячего желания, никогда не утолит ее страсти. Ее охватило щемящее чувство прощания. То, что месяцами наполняло ее, теперь кончится. Что было дороже всего, ее мечты, теперь рухнет от соприкосновения с фактами. Ее муки еще не кончились, а она уже могла представить себе, как милы они ей будут в воспоминаниях.
К этому прибавилась и боязнь пробуждения. Еще продолжая мечтать, она уже знала, что предается мечтам, и, всячески сопротивляясь возвращению к действительности, старалась по-прежнему жить мечтами, хотя уже понимала, что это невозможно. С каждым днем ей делалось все яснее, что тот Унгевиттер, по ком она тоскует, – ее собственность, ее творение, для которого подлинный Унгевиттер – не больше чем повод. Она бы злилась на него настоящего за то, что он отличается от него выдуманного.
Пятое мая наступило, и сознание, что он опять где-то поблизости, парализовало ее. Раньше она часто думала, будто нет ничего хуже страданий, обрекающих на бездействие. Теперь у нее была возможность действовать, но она не пользовалась ею. Однажды, собрав все свое мужество, она поехала на автобусе в предместье, где он жил, прошла мимо его дома и с облегчением вздохнула, когда достигла конца улицы, не встретившись с ним.
Еще несколько недель назад она решила ему позвонить. Теперь она назначала себе сроки и снова отодвигала их, надеясь, что он избавит ее от необходимости действовать. Почтовый ящик она открывала с бьющимся от надежды сердцем. Ее пугал каждый телефонный звонок. Если, приходя из школы, она заставала отца дома, она успокаивалась: значит, позвонить нельзя – телефон стоял на его письменном столе.
А сегодня случилось невероятное: целых полдня она не вспоминала Унгевиттера. Большая боль заглушила меньшую, новая беда перекрыла старую. Вчерашние страдания ей сегодня кажутся счастьем.
На вопрос учителя, что она теперь будет делать, Корнелия, притворяясь равнодушной, пожала плечами: посмотрим! Даже идя домой с Катариной, она еще держала себя в руках. И, лишь захлопнув за собой садовую калитку, дает волю своему отчаянию. Отвернувшись, она пробегает мимо возящегося с цветами Бирта.
Она пытается делать все, что делает обычно, придя домой. Идет в кухню, ставит чайник на плиту, нарезает хлеб. Берет из холодильника масло и колбасу, готовит бутерброды. Моет и вытирает утреннюю посуду, ставит ее в шкаф, наливает себе чаю. С подносом и портфелем идет в свою комнату. Включает радио и садится за еду. Но не ест.
Чай уже остыл, когда раздается пугающий ее стук в дверь. Бирт принес ей цветы – фиолетовые и желтые ирисы, маки, маргаритки.
– Как красиво! – говорит она, вытирает глаза и идет в комнату родителей за вазой. Взгляд ее падает на телефон. Как воспоминание о далеких временах приходит на ум Унгевиттер, и она знает, что сегодня ей нетрудно будет позвонить ему.
Она наполняет вазу водой, ставит цветы, склоняется над букетом и ждет, когда уйдет старик.
– Что-то случилось?
Вдыхая сладкий, отдающий гнилью запах цветов, она ищет способа уклониться от ответа. Беспокойство старика снова вызывает у нее слезы, и она заставляет себя думать о телефоне, по которому скоро услышит голос Унгевиттера.
– Могу я чем-нибудь помочь тебе?
– Спасибо, нет. Мне мог бы помочь только дефект в компьютере.
Что за чудо такая машина, думает она. Все, кто взваливает на нее ответственность, говорят о ней как о господе боге. Машина все умеет, все делает, все знает – и никто теперь ни в чем не виноват. Ведь обвинять машину бессмысленно; то, что она делает, делается во благо.
– Я не понимаю, – говорит господин Бирт.
Чтобы показать ему, что больше не плачет, Корнелия поднимает лицо и смотрит на него. Неправильно, думает она, что перед чужими людьми больше сдерживаешься, чем перед близкими. Перед матерью она бы заревела вовсю и тем показала бы, как безмерно ее страдание.
– Говорят, что компьютеры, в которые закладывают наши отметки, решают, кто имеет право учиться дальше.
– Значит, ты не имеешь права?
Она утвердительно кивает.
– А протестовать нельзя?
Она качает головой.
– Худо дело, – говорит старик и неуклюже садится. – Я знаю, что это для тебя значит.
– Я могу стать инженером-швейником, скотницей или конторской служащей в Интерфлюге.
– Это все не для тебя, – говорит Бирт, пропуская мимо ушей издевку в ее голосе. – Но такая машина объективна. Никто не объективен так, как она. С этим ты должна согласиться.
– Уж не думаете ли вы, что компьютер решает также, имеет ли право учиться дочь премьер-министра?
– Я думаю, что дочь премьер-министра не может себе позволить иметь плохой средний балл, – говорит Бирт, и ему не вполне удается скрыть под сочувствием строгость своего тона.
Блажен, кто верует, думает Корнелия, наливает себе, в знак окончания беседы, чай и начинает есть.
Бирт сразу же поднимается, но у дверей останавливается.
– Конечно, это ужасно, но все-таки не трагедия. Когда я перед первой войной потерял место ученика у Шварцкопфа, это было вопросом жизни не только для меня, но и для всей семьи. Подумай об этом.
– Разве вас тогда утешило бы, что ваш дедушка сто лет назад, может быть, вообще не имел возможности чему-то учиться?
– Я говорю это не в утешение. Просто рассуждаю, потому что мысль об уже достигнутом часто нам помогает. Вам, возможно, и нет. Жаль, но ничего не поделаешь. Твой отец лучше понял бы меня.
– Сможет ли он помочь мне? В конце концов, он работает в университете.
– Не знаю... – говорит Бирт. И ни слова больше. Но его лицо показывает, что ему приятнее было бы не слышать этого. Тихо, словно покидая больную, он закрывает за собой дверь.
Спустя несколько минут Корнелия сидит у телефона. Быстро и уверенно набирает номер, который знает наизусть. Она действует поневоле. Так чувствует себя, наверно, раненый, из последних сил зовущий врача.
Женский голос произносит что-то невнятное, потом монотонно: «Соединяю с отделом первым».
Там отвечает мужчина, называет свою фамилию. Корнелия так часто разыгрывала мысленно этот телефонный разговор, что теперь сразу входит в роль и делает вид, что спешит.
– Ну ладно, девушка, – говорит мужчина, – но придется немного подождать.
– Большое спасибо!
Ждать приходится несколько минут. Если бы она позвонила на неделю, на день раньше, ей стало бы в эти минуты ясно, что тот Унгевиттер, которого она любит, – это тень, отбрасываемая ею самой, что настоящий Унгевиттер затемнит солнце ее страсти, убьет тень. Но сегодня ей нужна помощь, и она заставляет себя верить, что получит ее сейчас.
Когда он подходит к телефону, ее пугает чужой голос. Она никогда не вспоминала, как он звучит, но все время верила, что, услышав его, сразу очнется. Она не может заговорить, хотя знает, что должна сказать.
– Алло?
– Говорит Корнелия Овербек. Может, помнишь, мы встречались у...
– Конечно. Как дела?
– Мы встречались зимой на вечеринках у Катарины. Один польский друг расспрашивал меня о мотоспорте у нас. И я подумала о тебе.
Она делает паузу, заранее предусмотренную. Ее план, который она, несмотря на изменившуюся ситуацию, не решается изменить, предписывает теперь подождать его реакции, каковая и следует, немножко чересчур бодро и чересчур громко:
– Очень хорошо. Зайди просто ко мне. Сегодня я кончаю в час, в полвторого буду дома.
– Это удобно?
– Почему же нет? У тебя есть мой адрес?
Он диктует, и она повторяет каждое слово, как будто записывает.
– Лучше всего ехать на автобусе.
– Да.
– Тогда – пока.
Она кладет трубку и идет, ни минуты не раздумывая. Старые часы с хрипом бьют половину третьего. Значит, сейчас час. В половине второго она может быть у него. Она пробует разобраться в своих чувствах и устанавливает, что никакой радости от исполнения своего плана не испытывает, что стыд ее не гложет, что гордость ее не уязвлена, что нет ни горячего желания, ни страсти, ни страха. Нет ничего, кроме маленькой надежды не оставаться больше одной в каменных стенах горечи.
8
Ирена Овербек не принадлежит к овеянным трагизмом натурам, которым угрожает гибель от несоответствия между идеалом и действительностью. Она способна радоваться своим представлениям о действительности и тогда, когда действительность им не соответствует. Она умеет высасывать мед из самого неказистого цветка, умеет, сломав ногу, радоваться, что шея осталась цела, и, если при покупке шляпы ей нужен более серьезный советчик, чем ее польский поклонник, может прогнать его прочь и сотворить себе другого, воображаемого: богиня, как ее в иные моменты высшего восторга называет Тео.
Первая в ее жизни покупка шляпы – это событие, которое не может оценить посторонний. Ян Каминский, не подозревая, что совершает кощунство, мешал бы ей своими ухаживаниями. Поэтому, стоя в дверях шляпного магазина, она объясняет ему, что он должен отправиться в гостиницу, успокоить коллег и сказать им, что она скоро придет. Теперь надо отбиться еще от навязчивой продавщицы, и вот появляется он, сказочный советчик: элегантный, с проседью, уже немолодой господин, который может благословить ее на первую в жизни покупку шляпы.
Терпеливо вслушивается он в ее плохо подготовленную и потому многословную речь, которой она полностью отдает себя ему в руки: это должно быть нечто очень дамское, нечто широкополое, флорентийское (если только флорентийские шляпы не обязательно соломенные), фетр или (сразу же предупреждая ожидаемую улыбку сожаления) замша, а может быть, и что-то очень маленькое, шапочка, ток.
Тут лицо господина, в полном соответствии с величием задачи, становится серьезным. С хорошо дозированной смесью объективности и личного интереса он очень вежливо, без тени снисходительности, очень уверенно, очень ободряюще разглядывает ее, говорит: «К вашему лицу, милостивая государыня, шляпа идет, ваша фигура требует ее!» – и переходит к делу, то есть к полкам с модельными шляпами, не к шкафу, где штабелями лежит массовая продукция.
Ирену угнетает, что продавщица или, возможно, владелица обиделась на ее приветливый, но твердый отвод. Она сидит в углу, склонив угрюмое лицо над бумагами, делает несколько штрихов и опять устремляет взгляд на карандаш. Ирена пытается забыть о ней, думая о том, как это хорошо, что ни обеденный перерыв, ни учет, ни приемка товара не закрыли доступа в магазин, что можно без тревоги за предстоящий обед читать ярлыки с ценами, даже на модельных шляпах.
Но все это быстро вытесняется влюбленностью, что происходит у нее мгновенно. Еще во времена девичества, да и потом то и дело наряду с Паулем, наряду с Тео, ничего от этого не терявшими, появлялись короли ее сердца, чье владычество бывало кратким, чей пурпурный блеск внезапно вспыхивал и медленно, незаметно угасал, когда его затмевали новые лучи, – без междуцарствий, без страшных периодов пустоты; это было не легкомыслием, а вселюбовью (не только к другому полу), безобидной, невинной, безопасной для того, кому она, Ирена, полностью принадлежала, следствием ее голода на радости, который никогда не утолялся, потому что пища была несытной: легкий рацион, часто какой-нибудь пустяк для других, как, например, вот эта шляпа, на которую падает первый ее взгляд и в которую она тут же влюбляется, то есть полностью отдается радости, рождающейся при виде этой шляпы, и целиком проникается желанием обладать ею. Ирена, правда, старается уделить внимание и другим шляпам, но это намерение невыполнимо.
Вопрос «Можно эту?» заставляет задумавшуюся в углу продавщицу кивнуть головой, но когда Ирена берет шляпу, продавщица вспоминает о своих обязанностях, торопливо записывает результаты каких-то своих размышлений, вскакивает, кончиками трех пальцев правой и трех пальцев левой руки снимает с подставки драгоценную вещь, осторожно надевает ее на волосы Ирены и заводит привычный разговор с покупателем, но вспоминает, что имеет дело с покупательницей особого типа, и возвращается к своему месту и позе мыслителя, а Ирена подходит к вращающемуся на оси зеркалу. Она устанавливает его и глядит на себя – серьезно, спокойно, испытующе, с мужественной готовностью к скепсису, с намерением не потерять рассудок из-за красивого отражения в зеркале.