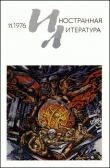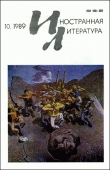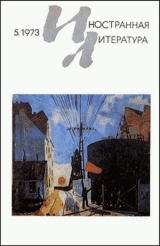
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Поскольку новый Пауль для нее – незнакомец, исчезает и ее страх перед ним. Он производит впечатление человека, слишком довольного настоящим, чтобы копаться в воспоминаниях, которые могут быть ей опасны.
Фрау Краутвурст хочет узнать у своего соседа, профессора Либшера, есть ли доля истины в толках, будто повышенный аппетит и сексуальность связаны между собой. Но тот уже досадует, что пришел, не скрывает, что ему скучно, сперва пожимает плечами, говорит, что он не психолог, но затем, получше рассмотрев, к ее удовольствию, свою любознательную соседку, оживляется и, склонившись к ней, шепчет ей что-то на ухо, отчего та смеется.
Единственный, кто с самого начала как будто и впрямь веселится, это Краутвурст, и Ирена благодарна ему за это. Ему удается своими замечаниями спровоцировать жаркую дискуссию о моющих средствах, бумажных пеленках и правилах объезда и объединить все эти темы, рассказав ужасную историю об одном мотоциклисте-водопроводчике, который злоупотреблял чесноком и оказался поэтому виновником обвала стены в кухне одного детского сада. Но зато ему, к сожалению, не удается поймать благосклонный взгляд своей жены. И Краутвурст угасает, удрученно вздохнув, откидывается назад, дрожащими руками зажигает сигарету, но еще раз овладевает собой и, сочувственно повернувшись к фрейлейн Гессе, спрашивает у нее, не нужно ли ей что-нибудь.
– Нет, нет! – лжет она торопливо, стараясь не смотреть больше на дверь, за которой исчез Тео, и продолжая думать, что бы сказать ему в утешение.
17
Бирт никогда не принадлежал к той категории старых людей, которые обижаются на более молодых за то, что у них другие представления о жизни. До тех пор, пока он был политически и профессионально активен, он старался по мере возможности изменяться вместе с новыми поколениями. Когда же болезнь привязала его к дому и саду, молодые жильцы стали его важнейшим связующим звеном с миром, правда, с той частью мира, где он не совсем ориентируется, поскольку его миром всю жизнь была промышленность.
Но и там он уже с неудовольствием замечал, что постепенно (возможно, в связи с ростом благосостояния) общение людей утратило свою первоначальную революционную свежесть, что оно стало более цивилизованным, культурным, как говорят иные, более натянутым, бюргерским, как называет это он. Взаимоотчуждение людей, по его мнению, усилилось, возможность открыто высказывать свое мнение уменьшилась, так как требуется все больший и больший разбег, чтобы пробить перегородки условностей. Это беспокоит его, потому что он усматривает тут нечто большее, чем проблему форм общения, – тенденцию к разобщенности. И поэтому он радуется, когда, как сегодня вечером, видит, что бывает и по-другому.
Он сидит в кухне и пьет с Тео коньяк. Овербеки всегда приглашают его, когда у них гости, – это уже вошло в привычку, как и его помощь на кухне в таких случаях. Вот он и хлопочет, пока не приходит Тео и не предлагает ему выпить.
Тео приятно спуститься из разреженной атмосферы академических вершин в кухонный чад. Здесь шиканье, шарканье ног, смех у него в голове становятся тише, но не замирают полностью, даже когда он называет Бирту своих гостей, рассказывая о каждом что-нибудь забавное; только о Пауле, внушительном товарище, как называет его Бирт, он ничего не рассказывает. О нем Бирт спрашивает особо и узнает, что это друг, если так еще можно сказать спустя семнадцать лет; ибо его трудно узнать и не знаешь, как его встретить. Был страх, что снова всплывут истории, в свое время их разлучившие, но получилось так, как с грозовыми облаками: издали они черные, а когда у тебя над головой – серые. Однако неизвестно, не ударит ли все-таки молния.
Когда Тео доходит в своих объяснениях до этих слов, приоткрывается дверь и внушительный товарищ самолично заглядывает за нее, чтобы узнать, не то ли это местечко, которое он ищет, не уборная ли.
Неловкая ситуация, думает Бирт и радуется, что Тео не замечает неловкости, говорит: «Входи-ка, мы как раз беседуем о тебе», указывает гостю место на ящике для угля и продолжает свои объяснения, описывая того, кто теперь сидит рядом, не в более мягких, а в более резких тонах.
Раньше он был художником, говорит Тео, таким, какими их представляют себе завсегдатаи кино: бородатым, бедным, оборванным, голодным и всем довольным. Все худо! Но одно хорошо: он был недоволен собой, а это признак таланта; видишь величие в чужих произведениях, ничтожество – в собственных, презираешь себя, каков ты есть, потому что у тебя хватает силы и фантазии представить себе, каким бы ты должен, каким бы ты мог быть. А это гонит вперед, это подхлестывает, но от этого и больно, как от хлыста. Раны кровоточат, не перестают кровоточить, потому что движение не прекращается. Напряжение не ослабевает, потому что тебя гонит вперед твой собственный хлыст, гонит к цели, которой никогда не достигнешь, которой нельзя достичь, чтобы не успокоиться; а покой, удовлетворенность, безболезненность – это смерть таланта. Красиво писать – этому можно научиться, но самому решающему не научишься, этим живешь, это – ты сам, и потому решения, которые ты принимаешь в жизни, это и решения о книгах, которые ты напишешь.
Тео давно уже не сидит за столом. Он ходит кругами от двери к холодильнику, от холодильника к двери, взад и вперед, взад и вперед, мимо Бирта, который стоит у окна, изумленный докладом, обращенным уже не к нему, – и лишь благодаря изумлению Бирта Тео понимает, что это доклад, – мимо Пауля, который неподвижно сидит на указанном ему месте и, глядя в пол, словно бы изучает узор линолеума.
Только теперь Тео замечает, как живо, как убедительно, как безостановочно говорит он здесь, в кухне, перед двумя слушателями, один из которых им восхищается, а возможно, и понимает его, а к другому, собственно, и обращен этот доклад. Здесь голос его полнозвучен, здесь он ухватывает узел сразу, без труда находя переход от автора к книге, здесь он высказывает свое мнение четкими, понятными фразами, – здесь, в кухне, все еще презирая себя, все еще в отчаянии, но нет-нет да озаряясь светом надежды на то, что благодаря присутствию главного виновника кухонный доклад возместит неудачу доклада публичного.
Но еще не кончив говорить, он уже понимает всю обманчивость этой надежды, и его доклад, заметным только для него образом, превращается из доклада об одной книге в доклад об одной жизни, об его жизни, его поведении, его несостоятельности. Ответственность, мужество, честность, достоинство – все эти слова, правда, не произносятся, но явственно слышатся в его четких фразах, когда он, умышленно преувеличивая, называет книгу Шустера книгой сбившегося с пути таланта, который искусно варьирует уже не раз сказанное, расписывает красивыми красками готовый рисунок и которому всякого рода границы важнее, чем долг автора ими пренебрегать, тогда как его задача – не иллюстрировать известное, а открывать неведомое, новое. Ибо тот, чья высшая цель – расширение всех возможностей человека, не может мириться с добровольным сужением их, хотя бы и в угоду условностям.
Он ходит и говорит, голос его становится увереннее, громче, доклад стремительнее. Но когда он после обдуманной паузы хочет перейти к выводам, Бирт вскрикивает:
– О боже, ботинки!
Это крик ужаса, но не только ужаса. В нем слышно и торжество, пусть в крошечной доле, но все же оно не ускользает от слуха того, кто ждет отовсюду насмешки и злорадства и, как ему кажется, видит то и другое на лице Шустера.
Бирт поражен своим открытием, но видя, что на Шустера оно не производит впечатления, а Тео смеется, он обретает способность видеть и комическую сторону этого и тоже смеется, пока не замечает, что все более громкий смех, сотрясающий тело Тео, вовсе не смех, а судорога, крик.
Во всем доме слышен этот смех: в детской, где губы Корнелии впервые ощущают вкус губной помады, и в гостиной, где общество испуганно замолкает, а Ирена вскакивает и бросается к двери.
Тео выпил мало, но чувствует себя как пьяный, который думает, что лишь строит из себя пьяного, и уверяет всех, что вовсе не пьян. Он все смеется и смеется и, видя страх на лице Ирены, подзадоривающий его смеяться еще громче, упивается эхом своего хохота – и вдруг умолкает, когда Ирена зажимает ему рукой рот.
– Так, наверно, начинаются душевные заболевания, – говорит он тихо и ждет, что сейчас снова начнется шиканье.
Но оно не начинается. Потому что Тео отвлекли. Бирт счел, что пришло время рассказать родителям о беде их дочери.
– С философским факультетом у Корнелии ничего не получится, – говорит он, беспомощно пожимая плечами и с беспокойством следя за реакцией Ирены.
– Так вот оно что, – говорит она без всяких причитаний.
Тео ничего не говорит, он кивает Ирене, Бирту и Шустеру и уходит в комнату Корнелии. Дочь занята подкрашиванием и не прерывает своей работы, когда он подходит к ней и кладет руку ей на голову.
– Бирт уже разболтал? – спрашивает она, пуская в ход карандаш для бровей.
– Да, – говорит Тео и долго молчит.
Любовь родителей к детям надо бы обозначать другим словом, думает он, потому что она другая: более чистая, более самоотверженная. Уменьшается ли эта любовь, когда дети вырастают, когда они в общем-то уже не дети? Вот этот ребенок как раз и занят внешним проявлением своей внутренней взрослости.
– Понимание – это, конечно, слово, которое тебе ненавистно, – говорит он, гладя ее по волосам, – но не могу найти другого. Поскольку не все могут учиться в институтах, ты должна понять, что право на это имеют лишь лучшие.
– Понять это легко, но как мне убедить себя, что я не принадлежу к лучшим?
– Для начала я бы взял средний балл, лучшего довода я пока не знаю. А ты?
– Ты, значит, все еще уверен, что я гожусь для философского факультета? – спрашивает она и берется за карандаш для век.
– Да.
– Почему же ты не хочешь использовать свои связи? Если уж не ради дочери, то хотя бы справедливости ради.
– Ты переоцениваешь мое влияние.
– Но и свое малое влияние ты не пускаешь в ход.
– Девушке, которая хочет изучать философию, а значит и этику, вряд ли нужно объяснять причины.
– Уж не думаешь ли ты, как старый Бирт, что у нас не бывает махинаций такого рода?
– Я думаю, что было бы хорошо, если б их не было.
– Поскольку отец у меня моралист, мне остается только смирение.
– Не смирение – понимание, понимание также и того факта, что ты сделала что-то неправильно. У тебя были, как у любого другого, все возможности, а ты пустила их на ветер, но ведь не навсегда. Ты можешь снова и снова пытаться. У тебя все только начинается. Если ты убеждена, что годишься, то сможешь убедить в этом других. Будь настойчивой, не давай им покоя. Но будь настойчивой и по отношению к себе. Если будешь уверена в себе, не будет причин смиряться.
Подкрашивание закончено. Корнелия встает, кладет руки на шею Тео и трется щекой о его щеку.
– Смешно, – говорит она, – что именно ты говоришь это. Именно ты, именно сегодня!
– Смейся на здоровье, – говорит Тео и, как уже много раз за все эти годы, задается вопросом, любил ли бы он ребенка так же, будь это мальчик. – Я тоже посмеюсь над неуверенным стариком, проповедующим уверенность. Но об опасности льда убедительней всего судит тот, кто сам провалился. Ты называешь меня моралистом, но урок, который я получил сегодня, носит скорее практический характер. Хорошо можно делать лишь то, в ценности чего ты убежден, и так называемый золотой путь середины – это часто черный путь в пропасть. Ну, иди, покажись жаждущей зрелищ толпе. А я отдохну тут немножко у тебя и переменю ботинки.
18
«Сейчас я, пожалуй, единственный нормальный человек в этой семье», – думает Ирена, увидев входящую Корнелию.
Встревоженные приступом смеха у Тео, гости растеряли все темы для разговора. Они оборачиваются на открывающуюся дверь и становятся свидетелями парадного появления Корнелии. Ни о чем чрезвычайном никто, кроме хозяйки дома, в этот момент не думает, да и у нее испуг слит с восхищением Она пугается преображения дочери, радуется, что оно произошло в желательном направлении, готова восхищаться и все же не может освободиться от страха, находя тут слишком много сходства с приступом отчаянного смеха у Тео.
Корнелия выглядит прекрасно. Несчастный ребенок превратился в прелестно одетую девушку, уверенную в себе и в том впечатлении, которое она производит, – в первую очередь на мужчин, потому что они не только восхищаются, но и вожделеют. За какой-нибудь час ребенок словно постиг материнские заповеди красоты, более того, проник в тайну женских ухищрений, которой мать никогда не выдавала. Например, что желанное становится вдвойне желанным, если откровенно взывает к желанию. Что, следовательно, мужчины не только желают того, что им показывают, но желают вдвойне, потому что это показывают им.
А Корнелия показывает многое. Не потому только, что ее небесно-голубое платье сделано из очень маленького отреза и уже в течение года лежит нетронутым, а девушка из месяца в месяц прибавляла в росте и объеме, но и потому, что она хорошо подкрашена и тем привлекает взоры к своим глазам и своим губам, которые уже не сжаты в задумчивости, а, расслабленные, стали полнее и, возможно из страха, что жирная краска их, чего доброго, склеит, обнажают полоску зубов.
Не показывает она лишь своей прически (ее за час не поправишь). Волосы девушки прикрыты модельной шляпой, придающей ее облику полную законченность, доводящей до совершенства очарование, которому сразу все поддаются, даже господин Краутвурст – лишь после нескольких секунд самозабвенного изумления он, чтобы не совершить ошибки, хочет удостовериться в реакции жены. Но она, покоренная, как и он, склоняет в восторге голову набок и, поскольку рядом находится плечо профессора Либшера, припадает к нему. Фрейлейн Гессе выглядит еще более задумчивой, чем прежде; так как мысли ее всегда заняты отцом, то в дочери она ищет сходства с ним. Лицо фрау Шустер утрачивает всякую робость. Она улыбается и произносит, не спросившись у мужа: «А-ах!» На Пауля она сейчас не обращает внимания. Эта обязанность достается Ирене, которая с первого взгляда понимает, что тут потребуется ее вмешательство. В этот момент она впервые по-настоящему узнает Пауля, старого Пауля, то есть в постаревшем и изменившемся Пауле она узнает Пауля прежних времен. Ибо так, как он теперь смотрит на ее дочь, бородатый смотрел когда-то на нее, Ирену.
– Разрешите представить: эта фрейлейн – моя дочь! – говорит она, обращаясь ко всем и стараясь взять шутливый тон, чтобы показать, что ее, как и всех, смешит это зрелище, что она тоже не прочь посмеяться над разрядившейся школьницей, появляющейся в шляпе на вечере в собственном доме, что посмеяться не грех и над ней, гордой матерью, которая представляет свое дитя, словно забыв, что все, кроме супругов Шустеров, его знают.
Но никто не смеется. Гости любуются и говорят об этом той, кем любуются, а та ровно улыбается и не расстается со своей улыбкой, когда садится, а Ирена подает напитки. Улыбка эта словно нарисована – общая улыбка, обращенная ко всем сразу и, значит, ни к кому в отдельности, ее нельзя никому подарить, потому что она неотъемлема от лица, не сходит с него даже во время разговора, не выражает ничего из того, что происходит в душе девушки, а словно бы должна это скрыть.
Одно только тревожит Ирену больше, чем эта улыбка: взгляд Пауля, который он то и дело бросает на Корнелию, незаметно, как он думает, – серьезный, не испытующий, не оценивающий, даже не чувственный. Он сел так, что бросать на нее взгляды ему легко, – не рядом с ней, а напротив. Заговаривает он с нею не чаще других, участвует в общей болтовне, когда его о чем-нибудь спрашивают, отвечает, как всегда, приветливо и толково, внимателен ко всем, даже к собственной жене, кроме как в те секунды, когда погружается в созерцание Корнелии. В такие моменты она иногда тоже глядит на него, и Ирена поражается, как долго она выдерживает его взгляд.
Внешне Ирена остается спокойной, внутренне же она в панике. То, что начинается здесь, у нее на глазах, может оказаться концом тайны, которую она долго хранила, началом катастрофы для всех участников, началом конца ее прочного счастья.
Она подсаживается к Паулю так, чтобы он, разговаривая с ней, повернулся к Корнелии спиной, и пытается взять доверительный тон, который ей на удивление плохо дается. Она хочет отвлечь его от дочери, привлечь его внимание к чему-нибудь другому, к себе, если возможно (но эту мысль она сразу же отгоняет), к какой-нибудь теме, занимательной для него. Ей известны две такие темы: его работа и его родная деревня. В первой она разбирается плохо и выбирает вторую.
Он поворачивается к ней, делает вид, будто внимательно слушает, манеры его безупречны, но глаза выдают нетерпение, исчезающее лишь тогда, когда ему нужно повернуться к пепельнице, что каждый раз длится долго.
– Я не знаю, как там все сейчас выглядит, – говорит он. – Давно там не был. Если хочешь, мы можем как-нибудь съездить туда. Может быть, это будет интересно Тео и дочери.
И он не упускает возможности повернуться к ней спиной, наклониться вперед и своим мягким, нежным, слегка снисходительным, предназначенным специально для женщин и детей голосом, которым он теперь уже не говорит с Иреной, спросить у дочери, нет ли у нее желания съездить туда как-нибудь в воскресенье, хоть в следующее, если погода будет такая же хорошая, как сегодня, как в этот вечер, которым надо бы еще немного насладиться на воздухе, в саду.
И не дожидаясь согласия, он встает, кивком извиняется перед Иреной, идет к стеклянной двери, открывает ее, бросает взгляд на Корнелию и выходит.
– Ты бы посмотрела, Корнелия, как там отец, – говорит Ирена быстро, видя, что дочь хочет встать. Затем вместо нее выходит на террасу, где Пауль и виду не подает, что разочарован. По пути туда она мысленно ведет с ним следующий диалог.
Она: Оставь, пожалуйста, Корнелию в покое.
Он: За кого ты меня принимаешь? Она могла бы быть моей дочерью!
Она: Она и есть твоя дочь!
Но вслух она говорит о том, какое это странное чувство – увидеться после стольких лет. Он подтверждает это и лжет так же, как она.
Ибо чувств такого рода нет и в помине ни у него, ни у нее. Оба не забыли, что человек, который стоит рядом, был когда-то любимым, но такой, каков он сейчас, он ничего общего не имеет с раем и адом воспоминаний. Они не знают, что сказать. Ибо говорить о настоящем, имя которому для них обоих Корнелия, они не хотят.
– Ты счастлив? – спрашивает, наконец, Ирена, потому что ей кажется, что это полагается в таких ситуациях. Она надеется услышать о том, что ее занимает, то есть о его жене, браке. Но он относит этот вопрос к литературной премии и объясняет, что с ней дело обстоит так же, как со всякой радостью, которая, как известно, велика, когда чего-то ждешь, и исчезает, когда ее дождешься.
– А в браке?
– А разве он имеет какое-либо отношение к счастью?
– У меня – да.
– Да, в воспоминаниях, – говорит он, сопровождая свои слова широкими жестами. – Жалкие луговые цветы, затерянные в траве, всегда задним числом сливаются в пестрый ковер.
Все пустые слова и притворство, думает Ирена, циничный вывод недовольного эгоиста, который дает выход своей разочарованности тем, что мир не лежит у его ног, в общих сентенциях. Ее он не убедит, что счастье невозможно, не убедит даже в такой день, когда ее счастье может рухнуть, когда все стало непрочным, когда каждый отдалился от другого.
– Если у тебя это действительно так, мне жаль тебя, – говорит она и думает: «Неужели только сегодня все изменилось или я просто взглянула на все по-другому?»
До сих пор было так: существовал центр, который прочно держался и был основой счастья, единства, уверенности, – семья. Оттуда все исходило, туда все возвращалось, ему все служило, в том числе школа и работа. Что бы ни случалось вокруг, основы оно не задевало. Три человека ежедневно выходили из дому, чтобы самостоятельно, на людях проявить себя в деле и вечером принести домой плоды.
Сегодня все выглядело иначе: на долю дочери выпали потрясения, отчасти скрытые от родителей. Отец показал, что с внешним миром связан сильнее, чем с внутренним, что своим профессиональным проблемам он готов принести в жертву себя самого и благополучие семьи. Мать познала недоверие и сомнения. И над всеми нависла угроза, что откроется старая ложь. Основа оказалась зыбкой. Центр, возможно, уже не центр.
– Пауль! Где ты? – зовет Улла Шустер. Она стоит в дверях и, ослепленная светом лампы, не сразу замечает обоих.
– Что случилось?
– Я же все время должна быть около тебя.
– Теперь уже не нужно! – говорит Пауль, тщетно пытаясь приглушить резкий тон главы дома.
– Посмотрю, что с Тео, – говорит Ирена, проходит через гостиную, где профессор Либшер с успехом проверяет свои анекдоты, в комнату Корнелии и слышит последние слова, которыми Тео резюмирует для дочери уроки дня:
– Подлинного согласия с обществом нельзя добиться хитростью. Отдать можно только то, что у тебя есть: свое «я», которое и само меняется, и меняет других.
Ирена находит в этих словах подтверждение своему новому взгляду на вещи. Уже давно у нее есть соперница, на которую она до сих пор могла, как ей казалось, не обращать внимания, но против которой она бессильна и ужиться с которой она должна: работа Тео.
– Вспомните о наших гостях! – говорит она.
Под руку с дочерью она входит в гостиную и осчастливливает господина Бирта улыбкой, предназначенной ему одному. Краутвурст пытается объяснить раздосадованному этим Либшеру разницу между настоящим и ненастоящим остроумием, но умолкает, заметив неудовольствие на лице своей жены. Улла Шустер опорожняет переполненные пепельницы. В стеклянных дверях стоит Пауль и спрашивает, не хочет ли кто-нибудь погулять с ним в саду.
– Я хочу! – восклицает Корнелия.
19
Трещать она может, как дрозд, но петь – нет, думает Ирена, имея в виду Уллу Шустер, которая пользуется отсутствием мужа, чтобы удовлетворить назревшую за несколько часов потребность поговорить. Ирена не сопротивляется этому потоку советов и переживаний домашней хозяйки, даже вполуха слушает, поскольку у нее еще осталось какое-то любопытство к супружеской жизни Пауля. Но в первую очередь ее занимает главная тема вечера, вернее, скорый, как она надеется, конец этой темы. Ей хочется склонить всех пройтись по ночному саду, чтобы положить конец уединению Пауля и Корнелии.
– Почему Пауль не хочет детей? – без всякого перехода спрашивает фрау Улла. – Вы ведь раньше знали его.
– Потому что он и с собой-то справиться не может, – отвечает Ирена. – А вы хотите?
– И они у меня будут! – говорит Улла Шустер с неожиданной горячностью.
– А почему?
– Наверно, из страха перед будущим одиночеством.
Ирена стоит рядом с нею, держа в руках бокал, у двери на террасу, впускающей в накуренную комнату майский воздух и позволяющей выглядывать в сад. К сожалению, Ирене видны только часть освещенной дорожки и скелеты деревьев, по ребрам которых медленно карабкается вверх узкий серп луны. На тему дня ей нечего сказать, ибо хотя она любит проникаться мнениями Тео, но не любит выдавать их за свои. А то немногое, что она могла бы сказать, касается лично Тео, и это она скажет ему лучше наедине, зная, как трудно мужчинам принимать советы, которые жены дают им публично.
Разговор вертится вокруг присуждения премии, книги Пауля, решения жюри, речи Тео, вокруг, стало быть, литературы, политики, психологии. Задают тон Либшер и Овербек. Ирена слушает и молчит. В какие бы глубины, на какие бы высоты они ни забирались, она остается на земле. Это ее особенность: как морская рыба проводит всю свою жизнь в соленой воде, но не просаливается, так и она, Ирена, вот уже скоро два десятка лет живет среди анализирующих и теоретизирующих ученых, но не перенимает их черт. Какой-то инстинкт уберегает ее от подражания чему-либо, чему подражать она как следует неспособна. Довольствуясь тем, что ей дано, она остается натурой цельной, гармоничной, по-своему совершенной.
– А может быть, и потому, что тогда я буду больше для него значить, – говорит Улла Шустер, проникшись к Ирене доверием, причин которого сама не могла бы определить.
Прислушиваясь к темноте сада, следя за разговором в комнате, чтобы не пропустить, когда удобно будет поднять гостей, и принимая участие в заботах фрау Шустер, Ирена умудряется окинуть взглядом комнату и отметить в себе некую перемену. Ей уже совершенно безразлично, позволил бы или нет более высокий профессорский оклад купить новую мебель. И машина ее больше не интересует, и вожделенная новая квартира, которая должна бы выглядеть так, как описывает свою фрау Шустер. Важно только одно: чтобы нависшая над ними опасность миновала бесследно.
По освещенному домом участку садовой дорожки проходят две фигуры и, не останавливаясь, исчезают в темноте. Телепатические старания Ирены внушить обоим мысль о возвращении в дом остаются безрезультатными. То, что гуляющие явно держатся на расстоянии друг от друга, Ирену не успокаивает. Она знает, сколь многообразны формы взаимного сближения, ей еще памятна прельстительная сила восторженных слов.
– Кто постулирует автобиографизм как основу литературы, рискует поддаться власти субъективных критериев, – говорит фрейлейн Гессе, проводя растопыренными пальцами по своему ежику и возмущаясь обоими мужчинами, которые по различным причинам не хотят вести разговор в предложенном ею направлении – из любви к мучительству и самомучительству, как она полагает (совершая ту же ошибку, что и Ирена). Она наметила себе план утешения Овербека: не касаясь катастрофы с речью, серьезно отнестись к сказанному им и дискутировать так, словно речь его была не похвальным словом, а лекцией на определенную тему. К сожалению, она ни у кого не находит поддержки, даже у Ирены, чью душу она считает родственной, поскольку обе их души привязаны к третьей:
– Дело не в речи, а в ораторе, – говорит профессор Либшер, сердито глядя на фрейлейн Гессе, чьи самаритянские намерения он разгадал, но не одобряет. Для него главное не утешение – это слово он никогда не употребляет без определения «пустое», – а причины и следствия нанесенного вреда. Во время разговора о чесноке и отбивных он размышлял, кроме как о фрау Краутвурст, еще об овербековских проблемах, достиг при этом определенного успеха и должен теперь поделиться результатами с тем, кому они пойдут на пользу, то есть с Тео, нравится это ему или нет. Чем выше поднимаешься, считает Либшер, тем больше зависишь от плохой погоды, и если человек берется держать торжественные речи, он должен выслушивать и речи, обращенные к нему самому, в том числе критические, разоблачающие, чему такие люди, как товарищ Гессе, хотят помешать, по всей видимости вопреки воле самого виновника, который не делает никакой попытки уклониться от темы, а, напротив, сразу же по возвращении к обществу начинает говорить о своей неудаче и после обильного алкогольного возлияния, назло всем уверткам, с навязчивым упорством преступника, возвращающегося на место преступления, заговаривает о ней снова и снова, но при этом, как критически замечает Либшер, застревает на простом описании, никак не продвигаясь к причинам, хотя о них-то и надо говорить, чтобы разговор имел смысл.
– Это был величайший провал, – замечает фрау Краутвурст, – и ведь известно, какая тут в конечном счете причина.
Она говорит это так, словно уличает Тео в самом страшном, на ее взгляд, преступлении – в импотенции, и смотрит при этом на Либшера так, как будто хочет сказать: «Единственный мужчина по всем статьям – это ты!» Сегодня ей нравятся такие бесцеремонные мужчины, как он, потому что вчера нравились деликатные. Либшер думает: «Чепуха!» – но не произносит этого вслух, а дает это понять, со свойственной ему невежливостью пропуская ее слова мимо ушей, и называет истинную причину несостоятельности Тео. Но поскольку он при этом отвечает на взгляд фрау Краутвурст и позволяет ее колену прижаться к своему, ей наплевать на его невежливость: разговорный аккомпанемент для нее никогда не имел значения, от него она вообще готова отказаться, была бы суть, то есть действие.
Неуверенность – вот как определяет Либшер корень неудачи, но хочет, чтобы это поняли в идеологическом, а не в психологическом смысле, не как душевную, а как классовую проблему, как вопрос правильного или неправильного сознания, прочной или колеблющейся позиции. Беда не в недостаточной подготовке, а в недостаточной прочности принципов, в разложении под влиянием эстетических сомнений, что особенно огорчительно и, собственно, непонятно у человека пролетарского происхождения и воспитания.
– Общо, чересчур общо, – бормочет господин Бирт, по виду которого никак не скажешь, что он вообще следит за разговором. Он все время занят непривычным, стесняющим его галстуком. Гримасничает, вертит головой, вытягивает и втягивает шею, проводит пальцем под воротничком, расслабляет узел, затягивает его, поправляет. – Врага – вот чего вам не хватает. А враг-то есть, вы только потеряли его из виду. Наверно, стена слишком высока.
– Человек – нечто большее, чем продукт своего окружения, – говорит Краутвурст Либшеру. – Воспитание – это еще не все, и психика не поддается учету так, как вы полагаете. Будь по-вашему, следовало бы заменить психологов и психиатров социологами. – И добавляет, хотя это не всем понятно: – Тут я должен согласиться с моей женой.
Но она не благодарит его, а выжидательно, по примеру Либшера, смотрит на Тео, считает морщины на его лбу и про себя называет его холодным – как всякого мужчину, который при виде ее не излучает тепла. Как все односторонние люди, не способные понимать чужой язык чувств, она свой считает единственным.
У других так бывает со способами мышления. Об этом и раздумывает Тео, выигрывая время для ответа, каковой, когда он наконец следует, оказывается вопросом, вопросом к Либшеру, который тут же отвечает на него отрицательно.
– Ты никогда не сомневался в правильности какого-либо поручения или решения? – гласит вопрос.
– Что за скучное философствование, – говорит Краутвурст.
– Если бы воспитание сказывалось всю жизнь, не было бы прогресса, – считает фрейлейн Гессе, осмелевшая от алкоголя. – Конечно, многое продолжает влиять, спрашивается только – как. Чтобы не обманывать детей, наши родители расхаживали летом нагишом. В результате все мы страдаем от болезненной стыдливости.
– И это вы называете прогрессом? – возмущенно спрашивает фрау Краутвурст. Она презирает этот синий чулок, потому что как соперницу ее не приходится брать в расчет.