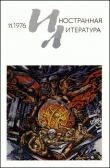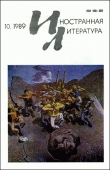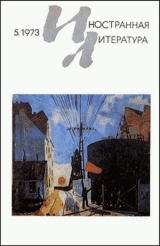
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
«Это именно то обрамление, милостивая государыня, – говорит господин с проседью, с трудом подавляя восторг, – которое подходит к вашему лицу».
Он стоит сзади, смотрит поверх нее в зеркало, и поскольку Ирена находит, что он прав, она дарит ему смех, который тут же берет обратно и превращает в улыбку, потому что шляпа придает ей степенность, требующую соответствующего выражения лица.
Всегда ли будет получаться такой эффект? Думая о даме, побудившей ее купить шляпу, она сомневается. Ей не хватает импозантной фигуры той дамы, зрелой полноты лица, говорит она себе, но должна согласиться со своим воображаемым советчиком, когда он указывает ей на прелесть контрастов: узкое лицо под широкими полями, моложавость под элегантным покровом, строгость, обрамленная мягкостью.
Его голос приобретает при этом интимность, далекую, однако, от какой бы то ни было фамильярности. Ирене, как и большинству женщин, свойственна слабость считать приятным всякого мужчину, который желает ее, но она находится в том положении и том возрасте, когда тщеславие сильнее вожделения, и потому требует от мужчин, чтобы они довольствовались флиртом на людях. Вот почему ее советчик очарователен, но сдержан, и интимности тут ровно столько, сколько требуется, чтобы она посвятила его в реальные условия своей жизни: она никогда не возвращается из города без переполненных сумок, и к чему шляпа, если ей случается тащить даже вешалки, палки для метел или рододендроны для сада господина Бирта. Супругу ее многие непонятные вещи важнее карьеры, и поэтому у нее нет машины, а такая шляпа и электричка, пожалуй, плохо сочетаются в этой шляпоненавистнической столице.
«Конечно, это вещь только для особых случаев», – говорит советчик, подавляет напрашивающуюся шутку, основанную на игре слов «колпак» и «околпачить» (которую Тео потом исследует в этимологическом и культурно-историческом планах и распространит от готических конусообразных шапок, бидермайеровских капоров, рембрандтовских шляп и вагнеровских беретов до шиллеровских воротника и локонов, бисмарковских селедок и пирожных «наполеон»), и задает наводящий вопрос: не представится ли сегодня такой особый случай, на что она (слишком импульсивно) отвечает утвердительно.
«Но можно ли тратить на это столько денег?»
«Почему нет? Вы доставите этим много радости».
Кому? Тео? Заботы закроют ему глаза, или он посмеется над таким безрассудным тщеславием. Корнелия укажет на неразрешенные мировые проблемы, и красота матери не выведет ее из меланхолии. Только господин Бирт будет искренне восхищен.
Она делает несколько шагов к двери, к шкафу, к продавщице. При каждом шаге поля качаются вверх-вниз. Шляпа требует другой походки, более медленной, более степенной. Лицо становится красивее, шаг величественнее. В жажде признания она смотрит на продавщицу, которая понимает ее желание, но из упрямства продолжает с озабоченным лицом писать. Поддаваясь своему порыву к примирению, Ирена наклоняется, чтобы посмотреть, в какой работе нашла себе прибежище обиженная. Это кроссворд.
– Чего у вас еще не хватает? – спрашивает она озабоченно.
– Хищная рыба из пяти букв, вторая «т», первая «а».
– Я бы сказала «акула», если бы не «т». А как вы находите шляпу?
– Шляпа хороша, – говорит шляпница непримиримо.
– Для меня?
– Хотя бы. Вот только цвет.
– Он не идет мне?
– Не к этому костюму.
Чтобы все-таки достичь примирения, Ирена, прежде чем вернуться к зеркалу, говорит:
– «Атлас» бы подошел, но – хищная рыба?
Она пытается все свое внимание сосредоточить на красках, на бежевом цвете костюма и голубом – шляпы. Это нелегко, потому что само отражение в зеркале ее восхищает, и мысли уносятся вдаль, с тех пор как проснулись воспоминания о мире вне этого магазина. В жизни ведь как в апреле – зима часто недалека от лета, и мыслям и чувствам иной раз достаточно маленького толчка, чтобы оказаться после весеннего цветущего луга на снежном поле, а то и одновременно пребывать и там и здесь. Она может наслаждаться неторопливой покупкой, сотворить себе очаровательного советчика, может даже, чего доброго, помириться с любительницей кроссвордов, но не может забыть все остальное: страх за будущее Тео, волнения, которые может вызвать встреча с прошлым, необъяснимую меланхолию Корнелии, которая, правда, не ввергает в меланхолию ее самое, но все же омрачает ее маленькие радости.
Если бы шляпница хоть что-нибудь сказала! «Ата, атб, атв», – бормочет она в ее сторону, чтобы показать, что еще не потеряла надежду. Может быть, «атр» или «ато»? Или перепутаны номера? Может быть, имеют в виду нападение, тогда подошла бы «атака»?
Внезапные решения присущи Ирене, как стрелка – часам. Только что она еще поворачивала и вертела перед зеркалом голову, шею, верхнюю часть туловища и считала невозможным такое сочетание красок, но вот она снимает шляпу и говорит:
– Я беру ее.
И, заметив, что еще больше шокирует продавщицу, добавляет в объяснение:
– Для дочери. – У нее как раз есть лазоревое платье, и сегодня она, наконец, хочет или нет, наденет его. Погода подходящая, и занятость своей внешностью благотворно подействует на ее внутреннее состояние. Ни меланхолия, ни интеллект не оправдание для неряшливости, одежда тоже входит в нравственный облик, ответственность перед обществом проявляется и в том, в каком виде предстают перед ним.
– А для себя? – спрашивает полностью примиренная откровенностью продавщица и берет в руки что-то цвета охры.
Увидев новое изображение в зеркале, господин с проседью одобрительно кивает, но высказывает и сомнение – не по поводу шляпы, а по поводу лица, которому не хватает подобающей этому головному убору веселости. «Печаль, милостивая государыня, вам не к лицу, да и никому она не помогает. На смертном одре, на трибуне, в отчаянии каждый человек одинок, и для того чтобы в семье не умирала радость, вы должны ее сохранять, она важнее титулов и автомобиля», – не без успеха говорит внутренний советчик.
– В этой шляпе я останусь.
– И не пожалеете об этом.
В благодарность за любезность Ирена заставляет женщину снова заняться кроссвордом. После того как выяснилось, что головной убор это не «шляпка», а «колпак», требуется не «клен», а «елка», не «теща», а «мать», и хищная рыба, стало быть, начинается с непроизносимой буквы, обе со смехом махнули рукой.
Переходя перекресток, все еще называемый Ораниенбургскими воротами, Ирена с трудом заставляет себя умерить привычный быстрый шаг. Но перед гостиницей подобающая походка уже входит в привычку. Каминский выглядит так, словно хочет упасть перед ней на колени. Другие фруктовые эксперты, которые до сих пор сдерживались, тоже громко выражают свое одобрение и восторг.
9
Время обеда, но никто из трех Овербеков не думает о еде, даже Тео. Правда, он обедает, но безучастно, бездумно или, вернее, слишком задумчиво, весь погруженный в мысли об отдаленном прошлом и ближайшем будущем, так что не остается места для мыслей о картошке, рыбном филе и отвратительной мучной подливке, проскальзывающих непрожеванными в желудок, слизистая оболочка которого, хронически воспаленная, вечером еще даст о себе знать.
Он снова переменил стол, но не мысли. Он ест и разговаривает со своей визави, называя ее то «товарищ», то «фрейлейн Гессе», которая обращает на себя внимание чрезвычайно короткими волосами и чрезвычайно модной оправой очков и работает над диссертацией на чрезвычайно специальную тему: современная английская литература. Только ради доктора Овербека она стала заниматься также и литературой немецкой, и ее мнения о таковой обнаруживают тенденцию ко все большему сходству с его мнениями. Она хранит в памяти каждое слово, написанное им за прошедшие два десятилетия или сказанное при ней, и каждого нового его слова ждет с нетерпением. В остальном же она ни на что не претендует. Следовательно, она чрезвычайно приятна мужчине, который искренне любит свою жену и свой порядок, презирает недисциплинированность и шашни на стороне, но, как всякий другой, охотно принимает уважение и поклонение и ценит понятливых слушателей.
Даже и тогда, когда они иной раз, как фрейлейн Гессе, по простоте душевной стесняют именно тем, что делает их такими приятными: почтительностью и необыкновенной памятью. Память ее работает и за тресковым филе, выкапывая слова, сказанные им семнадцать лет назад одному другу и три года назад повторенные ей, – и слова эти, как ей кажется, противоречат тому, что доктор только что сказал.
Она выкапывает их, конечно, не для того, чтобы уличить его в противоречии, скорее, она убеждена, что видит противоречия там, где их нет. Свой запасник она открывает лишь затем, чтобы понять, что же она видит неправильно, где у нее пробелы в памяти. Из чистой любознательности спрашивает она о непонятном для нее факте: почему сегодня Тео Овербек считает недостатком манеры Пауля Шустера именно то, чего ему, Овербеку, тогда в нем не хватало и чего он требовал. Она слышит в ответ протяжное «да-а-а», но это не столько ответ, сколько знак паузы.
Если бы Тео было важно остаться правым, он упрекнул бы фрейлейн Гессе в неисторическом мышлении, поставил бы ее вопрос шире, возможно, ответил бы: «Потому что время другое» – и был бы, конечно, прав. Ибо время всегда другое – через два десятилетия, через два часа. Но он ведь не хочет быть только правым, он ведь теперь уже не такой, как раньше. Он ведь уже не считает, что взял патент на мудрость, он узнал за это время, что расширение знаний разрушает прекрасную простоту аксиом, что и великое устаревает, что и железные монументы могут упасть, что ошибки всегда и всюду возможны, что важно не сохранить правоту, а найти истину, что хотя это и удобно, но глупо относиться к однажды найденным истинам как к вечным, что надо всегда оставаться учеником и что общие места насчет других времен имеют смысл лишь тогда, когда ими не пользуются для всеоправдания, а допускают или, еще лучше, заранее учитывают все «почему», «каким образом», «в какой мере». И поэтому он после паузы начинает издалека, наделяет те давние времена формами и красками, тех далеких юношей по имени Пауль и Тео – душой, те четыре редакции одного романа – цифрами и характеризует их, во-первых, как наивно-сентиментальную мазню, во-вторых, как гениальный хаос, в-третьих, как заурядную поделку.
– А в-четвертых? – спрашивает фрейлейн Гессе, но не получает ответа, так как Тео сам определяет ход своих мыслей и должен еще что-то сказать по поводу второго и третьего пункта, а именно:
– Я вел жестокую борьбу. За него, как мне тогда казалось. Против него, как я теперь понимаю.
– Значит, третья редакция – ваша?
– Это был природный талант, который я с чистейшей совестью погубил.
– Вы преувеличиваете!
Фрейлейн Гессе проводит растопыренными пальцами по своему ежику на голове – в знак возмущения, но не бывшим студентом, а нынешним доктором, которому она не может позволить бросить тень на почитаемого ею светоносца.
– Вместо того чтобы привести в порядок хаотический мир, набросанный им, я выстроил ему другой мир, наперед заданный, в котором все растворилось. Пугающие диссонансы превратились и приятную гармонию, кричащие краски были смазаны, опасные глубины наполнены ничего не значащими словами. Все стало гладким и правильным, скучным и бесцветным.
– И он не сопротивлялся?
– Конечно, сопротивлялся. Но я был сильнее, и у меня были союзники – его неуверенность и желание напечататься. Я хотел продвинуть произведение, которое служит нашему делу. И сказал ему: что писать – решаешь ты, что печатать – решаем мы!
Тем фрейлейн Гессе и симпатична, что у нее вызывает улыбку это «мы» в устах двадцати-двадцатидвухлетнего юноши, столь несообразное с фактами и потому смешное – смешное для нее спустя много лет, но вряд ли смешное тогда для начинающего писателя, даже если он и не заметил бездны, которую разверзло это «ты» – «мы», а возможно, и вообще не заметил, что тут произошло с ним и его книгой, потому что произошло это не внезапно, а исподволь, медленно, постепенно. Речь ведь никогда не шла о больших изменениях, только о частностях, в которых он уступал, – о словах, фразах, абзацах, главах. Не держаться же ему было за каждое написанное слово! Не считал же он свои метафоры священными! Могли же персонажи быть и иными! Не хотел же он быть умнее своего друга, выступавшего даже во множественном числе! Да и кто из двоих знал, что слишком натуралистично, а что – нет? Он ведь и правда слишком упрямо держался за автобиографическое, за личное. И ведь он действительно не хотел считать себя важнее, чем все остальные.
– Я хотел, – говорит Тео, – придать книге широту, общественное звучание, размах, актуальность, цельность. Все правильно. И тем не менее все получилось неправильно. Чего-то не хватало: индивидуальности. Словно книга потеряла автора.
– Это вы сейчас так думаете. А тогда?
– Я знал, что в литературе правильно и что неправильно, но не знал, что такое она сама. Нечто подобное происходит у нас с любовью, с жизнью, со счастьем: нам все известно о них, но их мы не знаем.
Что за день сегодня у фрейлейн Гессе! Она не припомнит, чтобы когда-либо слышала из уст Овербека слова «любовь» и «счастье», а это значит, что в ее присутствии он их не произносил до сих пор, до этой знаменательной минуты, когда у нее внутри вдруг что-то затрепетало: росток надежды.
Он сказал «любовь», «счастье» – правда, в самом общем смысле, и если в связи с кем-нибудь, то лишь с самим собой, а не с ней, тем более не с ними обоими, и все же: «счастье», «любовь», что-то личное, большее, чем только литература, да наука, да учебный процесс. Только слова, конечно, без высшего смысла, которого она в них и не вкладывает. Она только фиксирует: «Он сказал это!» Но броня безнадежности все-таки дает трещину, которая надолго становится ее, фрейлейн Гессе, уязвимым местом.
Велик соблазн спровоцировать его, чтобы он повторил эти слова. Достаточно вставить вопрос в наступившую паузу. Но она умная девушка. Она не из тех, кому разум нужен лишь для того, чтобы оправдать веру. Ее разум слишком слаб, чтобы убить ростки надежды, но достаточно силен, чтобы избежать неосторожности. И потому она говорит:
– Насчет индивидуальности я слышу от вас впервые.
– Новых мыслей вы, видимо, от меня не ждете? – говорит он – весело, как ей кажется, в действительности же с издевкой.
Но издевка направлена не против фрейлейн Гессе, а внутрь, на него самого, и должна означать примерно следующее: «Поздновато, развитие у тебя замедленное!»
– Не такая уж это и новая мысль, – говорит фрейлейн Гессе храбро. – Прописная истина, сама собой разумеющаяся.
Странно, думает доктор, даже школьник Тео ему сейчас ближе, чем тот двадцатилетний, заносчивый всезнайка, который, не имея ни единой собственной мысли, считал себя вправе поучать весь мир, похваливал, похлопывая по плечу, Гёте или Гейне и карал презрением Эйнштейна и Норберта Винера – один из тех несносных людей, которые считают, что они все превзошли.
– Со спокойной совестью я пытался отучить его от откровенности. Смеялся, когда он твердил, что дело было не так. Упрекал в беззастенчивости вместо того, чтобы хвалить, ругал за самостоятельные суждения, вместо того чтобы поощрять.
Фрейлейн Гессе права: Овербека сегодня за обедом тянет к преувеличениям. Права она и когда говорит:
– Что же это за талант, если его можно таким способом погубить?
Тео проглатывает десерт – пудинг, это самая большая страсть Пауля после писания, которая играла, конечно, свою роль и в романе. Там описывалось множество пиров и пирушек с пудингами всех разновидностей, форм, цветов и размеров, самый грандиозный – сразу по возвращении, у постоянно беременной пасторши, которая немножко заменила герою книги рано умершую мать. Пудинговые обжорства на протяжении многих страниц! Благодаря указаниям красного карандаша Тео сперва осталось одно пиршество, потом половина, потом оно, наконец, полностью исчезло, потому что утратило свою функцию после изменения функции отца. Ограниченный молодой человек с большим фронтовым, но малым жизненным опытом, до странности предубежденный против пудингов и не знавший, что ему делать со смышленым мальчиком, превратился в ярого нациста, который хранил под матрацем кровавый орден и боролся уже не против булочек с повидлом и сладких блюд, а против социализма, притом ежедневно.
– Его доверие к моим знаниям было безгранично, оно было больше, чем его творческое высокомерие, без которого не может получиться хорошая книга. И я его обманул!
Двадцатилетний юнец Тео так же далек и чужд ассистенту, носящему то же имя, как какой-нибудь эскимос. Теперь легко со всей беспощадностью анализировать его поступки – кого нет на свете, тот в пощаде уже не нуждается. Что понимал тогда этот человек под искусством, под дружбой, под чистой совестью – этой трудно определимой вещью в нас, этим неподкупным судьей, который неведомо кому служит? Кажется, что совесть – это орудие естественного права, а она, может быть, всего-навсего – продукт воспитания и привычки. Она бьет тревогу в убежденном вегетарианце, когда едят трупы животных, и молчит в убежденном доносчике, губящем жизнь соседа. Или не молчит, но ее голос просто не слышен, не слышен днями, годами, десятилетиями, вплоть до часа правды перед грозящей встречей, вплоть до одного обеденного разговора с идеальной слушательницей, которая испугана откровенностью и сопротивляется ей, то и дело повторяя слово «преувеличение», – слушательницей, которая обрадована откровенностью, потому что откровенность рождает желаемую интимность, слушательницей, которая все еще ждет повторения определенных слов, потому что они говорятся не прямо, а намеками, описательно, когда словоохотливый сегодняшний оратор высказывает предположение, – что тогдашнее применение власти его знаний не только служило правому делу, но и отчасти, пусть лишь отчасти, использовало правое дело для прикрытия других мотивов, что налицо было, таким образом, известное злоупотребление властью, хотя ни один из трех участников о том и не подозревал.
– Из трех? – спрашивает фрейлейн Гессе, не только для того, чтобы показать, как внимательно она слушает, но и чтобы напомнить о своем присутствии, что, видимо, нелишне, поскольку Тео все больше и больше говорит сам с собой, а ей важны, конечно, не только факты, которые он сообщает, но и тот факт, что он сообщает их ей (именно ей, ей одной). Что третье лицо может быть только женщиной, ясно; вероятно, это его жена, которую она, кстати, знает и ценит – ценит, разумеется, потому, что он ценит ее.
– Юношеская дружба и любовь кончается тем, что приходит конец неравенству. Более слабый не покидает другого лишь до тех пор, пока тот помогает, а не мешает своей силой ему расти.
Так говорит Тео, уклоняясь от ответа и давая понять, что никакими вопросами его не заставишь повести разговор в желательном для фрейлейн Гессе направлении. И она уступает, не настаивает на столь желанной интимности, ставит под сомнение его тезис и пламенно защищает собственный, – о партнерстве равных, – защищает трогательно и в то же время забавно: один лишь взгляд в самое крохотное зеркальце мог бы ее образумить.
Здоровые и больные желудки наполнены, тарелки и компотницы пусты. Тео тянет к неготовому тексту речи. Он уже напряг мускулы ног, чтобы встать, но тут секретарша института открывает дверь в преподавательскую столовую, а фрейлейн Гессе – рот, чтобы задать последний вопрос.
– К вам пришли, господин Овербек, – говорит секретарша.
– А четвертая редакция?
– Большое спасибо, сейчас приду, – говорит Тео – секретарше, надо полагать.
Памятливой же фрейлейн он отвечает не теми словами, которых та ждет, он не дает характеристики четвертой редакции, как дал ее трем другим, а произносит фразу, которую уже часто говорил вслух и еще чаще мысленно:
– Не надо было мне принимать это поручение.
– Почему же вы его приняли?
Он торопится, он уже на ногах, он уже поворачивается, чтобы уйти, и через плечо говорит:
– Этого не объяснишь в двух словах.
Но она не отстает, тоже поднимается, идет за ним и спрашивает:
– И вы будете держать речь?
Сперва он пожимает плечами, потом все же произносит:
– Либшер считает, что это мой долг. И он, наверно, прав.
– Только вы можете это решить.
– Вы уверены?
– Совершенно уверена.
1О
Устные или письменные биографии имеют тенденцию больше считаться со слушателями и читателями, чем с фактами.
Франк Унгевиттер сочинил три биографии: две – на бумаге (для школы и службы) и одну (в уме) – для девушек. Четвертая принадлежала другому автору – матери. Три собственного сочинения имели целью привлечь симпатии к автобиографу, четвертая служила лишь самооправданию составительницы. Для самоуразумения, а тем более самопознания ни одна из них не годилась.
Школа готовит к жизни. Поскольку без писания биографий не проживешь, она учит и этому. Франк Унгевиттер блестяще освоил эту науку. На примере некоей личности, родившейся в тот же день, что и он, носящей то же имя и живущей в таких же социальных и семейных условиях, он описал путь от аполитичной безответственности к твердому классовому сознанию. Эта отмеченная высшим баллом основа была затем для поступления на работу дополнена описанием технических, в частности автомобильно-технических, интересов, явно выраженных с младых ногтей.
В третьей биографии, предназначенной для девушек, все это было отнесено на задний план или вообще отсутствовало. В ее основе лежали не школьные, а семейные условия. Она рисовала не политическое и не профессиональное развитие, а развитие целеустремленного характера. Целеустремленность была для матери высшей ценностью. Поэтому сын считал, что все женщины ценят ее выше всего. Он думал, что, подчеркивая свою целеустремленность, он произведет на них наибольшее впечатление.
В биографии, составленной его матерью, процесс развития роли не играл. Для нее Франк родился на свет бледным, болезненным и беспомощным, таким и остался. Выросли только тело и ум, но с ними и всяческие опасности, величайшей из которых была возможность, что он оставит ее.
У нее ведь был только он. Он был внебрачным ребенком, сыном одного инженера, покинувшего молодую работницу, фрейлейн Унгевиттер, чтобы продолжить свое восхождение по служебной лестнице (до технического директора) на своей родине, в Саксонии, и оставившего ей еще не родившегося Франка, на котором мать могла теперь сосредоточить двойную любовь (к ребенку и мужчине).
Франк же, напротив, уделял ей лишь треть своих способностей к любви. Вторую треть он тратил, до сих пор безуспешно, на девушек, а третью – и лучшую – на некое неведомое божество, которое вначале имело образ отсутствующего отца, затем стало бесплотным и именовалось успехом, взлетом, карьерой, деньгами, роскошью, зажиточностью, что в биографии, предназначенной для девушек, переводилось материнским словом «целеустремленность».
Отчасти мать сама была виновата в прискорбной для нее утрате сыновней любви. Хотя всю жизнь она преследовала отца (кстати сказать, щедро и пунктуально дававшего деньги) своей ненавистью, она невольно представляла его образцом, воспитывая сына, чтобы как можно больней отомстить изменнику, под девизом: «Это мы тоже умеем!»– что означало: с ее помощью сын может тоже добиться такого успеха. А поскольку символ успеха – это собственная машина, ребенок уже потому любил отца, что у того она была.
Но были и другие причины любви к отцу, которые Франк позднее ошибочно отождествлял с причинами любви к автомобилю. К лучшим дням его детства относились воскресенья, когда мать особенно нарядно одевала его и отправляла одного утром на улицу, где отец, в самой большой и красивой по тем временам машине, старомодной ныне «ЭМВ» ждал его, чтобы поехать с ним на загородную прогулку, во время которой они не только тратили много денег в ресторанах, но и непривычно много смеялись и играли. Ибо отец принадлежал к счастливым людям, способным сохранять радость, доставляемую признанием их трудовых заслуг, и в свободное время. Так давал он ребенку то, что тот никогда бы без него не узнал: чистую, бесцельную радость.
Однако Франку все это представлялось иначе. Если жизнь с матерью состояла только из обязанностей и целеустремленности, а жизнь отца была игрой, удовольствием, весельем, то это, наверно, было связано с машиной, которую отец мог купить, а мать – нет. Поэтому он жил детской, но свойственной отнюдь не только детям, верой в то, что счастье можно купить, и, делая отсюда вывод, что самое главное – зарабатывать много денег, шел по стопам матери и в то же время научился ее презирать. Ведь она-то главной задачи не выполнила, а ждала, чтобы выполнил ее он.
Конечно, он никогда не связывал такого своего отношения к матери с понятием «презрение». Презрение означало какую-то крайность, а его отношение к матери было обычным, само собой разумеющимся, естественным: естественное отношение мужчины к женщине.
Но вернемся к трем биографиям: в них не было никакой лжи, только акценты смещались и подоплеки замалчивались. Политически он действительно развился. Его цели требовали, чтобы он был в школе на хорошем счету. Вот он и был хорошим во всех отношениях, в том числе и в политическом. Не было причин не стать тем, кем он хотел стать. Он изучил, каким надо быть, чтобы иметь успех, и таким стал. А поскольку других интересов у него не было, то ничто не могло отвлечь его от учения. Поскольку его мышление держалось лишь за надежные нити учебного плана, он ни обо что не ударялся. Поскольку важна для него была не правда, а нечто другое, сомнения никогда не сдерживали его движения вперед.
Несколько менее блестяще он проявил себя потом на работе. Его успехами были довольны, но требовали большего. Здесь то и дело выделялись одержимые, любители смастерить что-то, покопаться, новаторы, изобретатели, находившие в работе то удовольствие, которое он хотел купить себе лишь впоследствии, на вознаграждение за работу. Они всегда были впереди него, и поскольку он был неспособен догнать их на этом пути, он избирал другие: сперва ложный путь мотоспорта, где впереди оказывались энергичные и смелые, затем путь к народу – к народу автовладельцев, который, когда их машины выходят из строя, выше всего ценят такого человека, каким теперь стремился стать Унгевиттер.
И он вычеркнул из своего списка целей слова «успех» и «подъем», чтобы добыть остальное – деньги – более коротким, чем через конверт с зарплатой, путем. После трехмесячной монтажной работы за границей он намеревался уйти со службы, надеясь на множество полусотенных, не зависящих от зарплаты и принадлежавших прежде людям, которым особенно не терпелось починить свою машину.
Конечно, он разочаровал этим мать, мечтавшую о высокой квалификации, высшей школе, дипломе, и его сердце, третью часть которого она как-никак занимает, порой побаливает, когда он видит, как ее постоянно озабоченное лицо становится теперь грустным. Иной раз, в особенности по утрам, когда мать, придя с ночной смены, будит его, он жалеет, что так быстро сдался, и надеется, что принять решение ему поможет более сокровенная, пока еще нейтральная треть, все еще принадлежащая девушкам вообще, хотя принадлежать она должна той одной, которая и призвана будет его подталкивать.
Вот в такой-то момент и застает его неожиданный звонок Корнелии, девушки, о которой он едва ли когда-нибудь вспоминал. Не потому, что она не произвела на него никакого впечатления, а потому, что принадлежит к числу девушек, которые, по его мнению, ему недоступны. Как юноша, поклоняющийся кинозвезде, не надеется на сближение с ней, так и Унгевиттер не ждет серьезного интереса к себе со стороны девушек, которых он называет гениями, что в переводе на нормальный язык означает всего-навсего увлеченность каким-то одним делом или предметом.
Он убедился, что их отделяет от него граница, которую трудно переступить. В каждом классе, в каждом учебном году происходило деление на любознательных (гениев) и безразличных, и он всегда принадлежал к последним, которых можно бы назвать и любителями покоя, потому что они не беспокоят ни себя, ни других. В какой мере их позицию оспаривают, терпят, уважают, одобряют или поощряют, зависит опять-таки от того, к какой группе принадлежит учитель, мастер или функционер. Ибо разделение коллектива на две части ни в школе, ни на производстве не связано с разделением на хороших и плохих школьников или учеников. Оно не определяется ни средним баллом успеваемости, ни наилучшими успехами по определенным предметам. Специалист по исследованию Северного полюса может иметь плохие отметки по географии. Гимнаст-чемпион, придумывающий неизвестные прежде упражнения на брусьях, принадлежит к первой группе точно так же, как арифметический фокусник, заучивающий наизусть расписания поездов всего мира, чтобы тренировать свою память на цифры, как энтузиаст эсперанто или поклонник литературы, рискующий остаться на второй год, потому что тайное кропание стихов не оставляет ему времени для домашних заданий. Многочисленные пятерки в табеле Унгевиттера не производят на этих людей ни малейшего впечатления. Если он называет их гениями, то мысленно берет это слово в кавычки. А они за это называют его занудой и карьеристом.
Он считает, что может без труда определить девушек, принадлежащих к первой группе. В большинстве это не самые красивые и не те, что приукрашиваются. Почти все девушки этого сорта выглядят так, словно для них и значения не имеет, что они девушки. Они делают вид, будто им нет дела до мужчин. Не отважишься даже обходиться с ними, как с девушками. Они сами обходятся с тобой так, словно ты девушка, – снисходительно. И требуют, чтобы ты в них ценил как раз то, что тебе ни к чему. К счастью, их меньшинство.
Корнелия из их числа – это ему ясно. Это видно по ее манере одеваться. Да и по глазам ее он это видел, когда приглашал танцевать. Она лишь постольку исключение из правила, поскольку красива. Но ничего не делает, чтобы подчеркнуть свою красоту. Он видит здесь проявление гордости, и это вселяет в него неуверенность.
Но, стоя за дверью и рассматривая в глазок лицо Корнелии, он сразу же избавляется от неуверенности, как только обнаруживает ее в девушке. Она долго медлит, прежде чем надавить на кнопку звонка. Уставилась на дощечку с фамилией, как будто никак не может ее прочесть. Шевелит губами, словно повторяет, что сказать. Поправляет волосы.
Звонок не звонит, это сбивает ее с толку. Он отключил его, чтобы не проснулась мать. Он заставляет ее сделать еще две попытки позвонить и лишь потом открывает и ведет гостью через крохотную переднюю в свою комнатку. Он объясняет, почему говорит шепотом, и она тоже понижает голос.