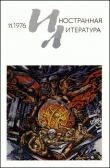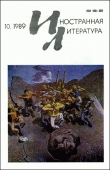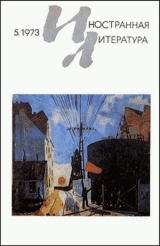
Текст книги "Присуждение премии"
Автор книги: Гюнтер де Бройн
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Тео Овербек принадлежит к числу людей не гениальных, но дельных. Всем, чего он достиг и что знает, он обязан прилежанию и упорству. В нем нет ничего, что не было бы результатом трудной, кропотливой работы. К нему ничто не приходит само, он все должен добывать. Ничто не бьет из него ключом, лишь вяло текут тоненькие ручейки. Его движение вперед – это медленная рысца, оно не застопорилось только благодаря тому, что он строго размеряет свои силы. Поэтому порядок для него – половина жизни, добросовестность – другая половина. Она не позволяет ему выдавать себя за нечто большее, чем он есть. Он прямая противоположность тем, кто пускает пыль в глаза. Потому-то и даются ему с таким трудом публичные выступления.
Однажды, много лет назад, в постели, после страстных объятий, когда человек свободней, чем обычно, может говорить о себе, потому что еще свежо ощущение слитности и панцирь замкнутости еще не затвердел, он рассказал Ирене о своей неспособности к публичным речам, которые давно вменил себе в обязанность. Не то чтобы ему не хватало мыслей и слов. Один в своей комнате, перед бюстом Маркса на письменном столе, перед «Почтальоном» Ван Гога на стене он мог говорить плавно, понятно, живо, даже увлекательно. И во сне он иной раз выступал в больших залах, под открытым небом, с высоких кафедр, с трибун и при пробуждении хорошо помнил, что говорил пламенно и логично. Но если перед ним сидело и смотрело на него больше шести человек, куда все девалось – мысли, слова, логика, пыл – и что толку, что он знал больше своих слушателей, что он просто обязан был говорить с ними, что они хотели слушать его: он не в силах был сказать ничего, кроме написанного заранее.
Но он с этим не примирился. Снова и снова пытался он преодолеть свой страх, сперва в Союзе молодежи, затем в университете, пока, наконец, не справился с собой: человек, не умевший плавать, боявшийся воды, стал, благодаря упорным упражнениям, олимпийским чемпионом по плаванью вольным стилем или, вернее, чемпионом округа, ибо великолепным оратором он, несмотря на ежедневные тренировки, так и не стал и страх новичка всякий раз заново на него нападает, когда меняются антураж или слушатели.
– Теперь пальто! И – в дорогу!
Руки и ноги подчиняются, а голова пытается избавиться от пугающих мыслей о лицах слушателей и заняться мыслями о композиции доклада, которая могла бы быть классически простой (во-первых – автор, во-вторых – содержание, в-третьих – оценка), если бы отнявшая много времени предварительная работа не выдвинула на первый план тему: автобиографическая сущность художественной литературы – тему, с которой нужно связать все конкретные частности; это сулило ему не только глубину (которой требовало тщеславное желание сказать слушателям что-то новое), но и выход, выход из лабиринта полуправд, возникающего тогда, когда надо высказывать мнения, которых не разделяешь. Развивая на примере какой-то книги какую-то тему, можно не ставить вопроса о самой книге.
– До свидания!
Это он говорит секретарше института и ассистентам, которые все моложе его. Он говорит это как всегда приветливо, как всегда спокойно, как всегда корректно – таков он всегда с другими, ничего не подозревающими о его заботах. Невольная робость мешает ему хвастаться болью и печалью. Он вообще не умеет хвастаться. И часто скрывает от коллег, что знает больше их, боясь, как бы они не почувствовали себя посрамленными. Если, как говорят, без шума дела не сделаешь, то он свое дело делает плохо.
В общем же тот, кто выходит сейчас, в половине четвертого, на улицу, чтобы пешком дойти до Академии, человек весьма милый. Никогда он никого не мучил, никому не желал зла, никогда не интриговал. Не оскорбил ничьего женского достоинства, а собственным поступался лишь при крайней необходимости, не делал долгов, не убивал, не воровал. Он любит свое дитя (оно ведь его, хотя не им рождено), свою жену, свою страну, курит, пьет – и все это в меру. Итак, средний человек, с недостатками и достоинствами, с одним большим достоинством – прилежанием и еще одним – честностью.
И еще он пунктуален. Без десяти четыре он открывает тяжелую парадную дверь Академии, здоровается со швейцаром, получая в ответ небрежный кивок, бесшумно поднимается по застланным ковром ступеням и на предпоследней из них делает открытие, настолько ужасное, что оно затопляет черной краской все серые мысли о торжестве и докладе и сливает их в одну мерзкую чернильную лужу бедствия.
Поднимаясь по лестнице, он внезапно чувствует, что с левой ногой у него что-то не в порядке, кажется, что ботинок сидит на ней свободней, чем на правой. До середины лестницы он следит, подтвердится ли его подозрение, бросает взгляд вверх, на лестничную площадку размером с небольшой зал и, убедившись, что она, насколько можно охватить глазом, безлюдна, решается на предпоследней ступени посмотреть, не расслабился ли, а то и не развязался ли шнурок, то есть нет ли опасности наступить на него другой ногой и споткнуться, использует верхнюю ступень как подставку, наклоняется и видит, что опасности споткнуться нет, поскольку нет никакого шнурка, который мог бы развязаться, ибо на левой ноге так и остался рабочий, или университетский, ботинок, а он без шнурков, поскольку это так называемый мокасин – с язычком и резинкой вместо шнурков, что явственно отличает его от правого ботинка – выходного, со шнуровкой.
К счастью, оба ботинка черные.
То, что сейчас происходит, совершается быстрее, чем об этом можно прочесть, потому что все происходит одновременно.
Внизу швейцар открывает дверь из стекла и металла, открывает не для группы пестро одетых студенток и студентов, а для двух мужчин в черном, вылезших из больших черных автомобилей и степенно шагающих к лестнице.
Наверху из-за лестничной колонны выходит какой-то мужчина, улыбается Тео, как знакомому, и протягивает ему руку.
Находясь посредине, Тео думает: «До обувного магазина на Шоссештрассе я могу добежать за пять минут», но в то же время пожимает руку человека, о котором знает, что знает его, но не знает, кто он.
– Привет, Тео, – говорит человек. – Я рад! – Он берет его дружески под руку и ведет, не сказав, чему он рад, по следующему лестничному маршу, объясняя, что начальство его ждет.
Тео чувствует, что должен что-то сказать, и, так как провожатый ниже его ростом и потому не может быть Паулем Шустером, спрашивает, пришел ли уже тот, на что получает отрицательный ответ.
На втором этаже Тео спотыкается, но не падает, потому что его незнакомый знакомый, на беду глядя в это время вниз, поддерживает его. Но глядит он не на ботинки Тео, а на кабель, проложенный работниками радио, которые устремляются от дверей зала к Тео, чтобы справиться о продолжительности его речи.
– Двадцать минут, – говорит он уверенно, словно знает это.
Он направляется к залу, но его уводят в другую сторону, вдоль по коридору, к высокой двери, которая бесшумно, под стать тишине дома, открывшись, закрывается между ним, Тео, и его провожатым.
Ему не нужно представляться. Присутствующие его знают и считают, что сами достаточно известны. Они предлагают ему незанятое кресло, от которого он отказывается, но потом все же садится – на стул, за стол для заседаний, внушающий, как и вся прочая мебель, уважение своими размерами.
На вопрос о рюмке коньяку он отвечает «да», на вопрос о сигаре – «да», на вопрос о продолжительности речи – «двадцать минут», изо всех сил внутренне отмахиваясь от проблемы ботинок, пьет высококачественный коньяк, которого вообще-то терпеть не может, и спокойно говорит:
– Книгу хвалить трудно. – Это вступление, но неудачное, потому что его принимают за обычный цинизм, которым пытаются разрядить напряженность, и понимающе улыбаются. – Я хочу сказать, что не могу хвалить эту книгу, – говорит он с серьезностью зануды, еще не зная, к какой основной части и концовке поведет, собственно, это вступление. Не знает он и к кому обращается, поскольку ни по виду, ни по манере держаться нельзя распознать ранги этих троих, сидящих по другую сторону стола. Их лица, с которых и сейчас не сходит улыбка, ставшая, правда, несколько неуверенной, смущают Тео – не тем, что производят сильное впечатление, а тем, что не производят его.
– Коньяк помогает перед выходом на сцену, – говорит один из них и снова наливает.
Тео пьет и произносит свою становящуюся все более нелепой фразу:
– Не надо было мне принимать это поручение.
Но никто из присутствующих не слушает, ибо в тот момент, когда он начинает говорить, открывается дверь и уже знакомый распорядитель вводит вслед за дамой мужчину, в котором Тео сразу узнает Пауля Шустера.
И странно: если долгое время ничто не могло отвлечь Тео от главной заботы дня, то встреча с действительным виновником его страданий делает это сразу. Узнав Пауля, он вспоминает не его книгу и не речь, которую нужно произнести через несколько минут, а лицо своей дочери, не имеющее ну ни малейшего сходства с толстощеким лицом его друга юности.
Как хорошо, что мы, думает он, имея в виду Ирену и себя самого, не возводим биологические факты в проблему ненужными разговорами.
14
– Объяснение... связи этих отдель... феноменов мы находим в... авто...
«В самом деле? В чьем автомобиле?» – спрашивают себя шутники, растягивая рот в улыбке, а чувствительные слушатели, сжавшись от неловкости, устремляют взгляд в пол, а жестокие, пристально глядя на оратора, считают секунды молчания, которые трудно назвать паузами, ибо они заполнены движениями рук, плеч, головы и главным образом глаз, беспрерывно ищущих рукопись на столе и, как только находят ее, снова мечущихся в поисках точки опоры где-то над головами слушателей по стенам и потолку, по подоконникам и карнизам, словно там засветится следующая фраза, следующий слог и ниспошлет спасение, избавит оратора и слушателей от оков тишины, ослабит напряжение, сотрет ухмылки. Но вспыхивают не письмена, а блицы фотографов и прожекторы телевизионщиков, и следующее слово «биографическом» звучит все же громко, отчетливо, в нормальном тоне, без примеси вздоха облегчения или торжества, и руки успокаиваются, и журналисты снова что-то записывают в свои блокноты, которые постепенно заполняются и из которых вечером будет отдистиллировано трехстрочное сообщение для утреннего выпуска.
– Любой автор подвергает литературной эксплуатации свое «я», но значение автора определяется среди прочего и тем, есть ли тут что эксплуатировать.
Тео Овербек говорит (не так плавно, как это читается) вторым после главы учреждения. Заместитель министра избрал кратчайший способ ничего не сказать – молчание. Квартет уже поработал смычками и теперь сидит в опасной близости от оратора, симулируя интерес, уже иссякший у фотографов и киношников, которые явно досадуют на порядок церемонии: если бы вручение премии предшествовало речи, они были бы уже дома.
Они образуют самую маленькую из групп, на которые четко делится публика; когда прекращается их суета, то из-за их рабочей одежды и развязной беспечности кажется, что им не пристало сидеть на передних угловых местах, неподалеку от выхода, в непосредственной близости от ряда черных костюмов элиты, как бы не замечавшей жужжания и щелкания аппаратов и с серьезным достоинством слушавшей хвалебную речь Овербека.
В средней группе гостей, элиты не составляющих, но одетых почти сплошь в соответствии с этикетом, больше всего женщин и любителей литературы. Здесь скалят зубы, кивают головой в знак согласия, украдкой шепчутся и иной раз бросают грозные взгляды назад, где в последних рядах шумят студенты.
– Как искусный лжец, писатель с автобиографическим уклоном ставит столько колонн собственных воспоминаний, сколько требуется, чтобы не рухнула его фантастическая постройка.
Лишь на трехметровом пути от мест элиты до стоячего места оратора Тео принял решение относительно сути и формы своей речи. Он решил использовать свои наметки насчет автобиографического начала в литературе, но использовать их лишь как вступление к четкой оценке книги Пауля; еще он решил помогать себе движениями головы, рук и глаз, но ни в коем случае не ног. Первое решение было продиктовано совестью, второе – башмаками.
Ибо оратор не закрыт, как он надеялся, до груди сплошным барьером, а стоит позади стола с тонкими ножками, который открывает взорам слушателей ноги оратора – если не отвлекать эти взоры жестами, каковые, однако, надо придумывать, как и фразы, часто длинные, но, к его собственному удивлению, всегда законченные и грамматически безупречные.
– Специфическая, пережитая, конкретная действительность вправе, следовательно, быть лишь подругой автора; а законной женой, имеющей право вмешиваться, давать разрешения, налагать запреты, он должен сделать правду.
Он не смотрит слушателям в лицо, глядит поверх них, но замечает, как воспринимаются иные фразы, как нервный шум в зале становится порой одобрительным; пробиваясь через связующие слова к следующей фразе такого же рода, он должен придумывать новые жесты (засовывать руки в карманы брюк, внезапно вынимать их оттуда и выбрасывать вперед, грозить пальцем, временно заменяя недостающее слово), должен ощупью, по нити воспоминаний добраться до узла, где ответвляется другая нить, главная, ведущая к книге Пауля.
– Воздействовать книга может лишь полной искренностью; ибо только если автор отождествляет себя со своим произведением, мысли и чувства этого произведения станут достоянием читателя.
В такой фразе, как эта, он уже чувствует узел, но не может ухватить новую нить и потому должен, так и не повернув, двигаться дальше, в бесконечность вступления, давно уже не похожего на вступление. Но покончить с ним он не в силах, хотя слышит, как нарастает беспокойство, исходящее, кстати, не от Пауля. Его гладкого лица Тео давно уже отучился бояться.
Из глубины зала, сверху, со студенческих мест слышны шум, кашель, скрип сидений, едва приглушаемый говор, тихое шарканье ног – все это пока можно считать непреднамеренным.
Надо перейти к сути. Он ударяет кулаком по столу, но и это не помогает ему нащупать узел. Хватает стакан с водой, пьет, с силой ставит его на поднос, не выпускает из руки. Вспоминает, что фразой об искренности автора он уже подошел было к сути; надо сделать еще одну попытку, и он делает ее, переименовывая понятие «откровенность» в «отсутствие стыда», что в известном смысле означает и бесстыдство, смелость в проявлении эксгибиционистских наклонностей, – и пугается: пугается собственной мысли, никогда прежде не приходившей ему в голову, кажущейся ему сомнительной, неверной, непростительной, – надо немедленно взять ее обратно, хотя бы ради всех тех неприятных истин, которые он потом еще скажет по поводу книги. Но для того чтобы взять мысль обратно, нужны новые обходные пути, и он совсем сбивается с дороги. Он пытается выбраться на нее через заполненные жестами паузы, но вдруг цепенеет от ужаса: раздается смех, громкий, беззастенчивый, жестокий смех.
Ботинки.
Впервые смотрит он в зал, на издевательские и веселые лица студентов, на скучающие лица фотографов, встречает сочувственные взгляды. Элита тоже утратила долю своей чинности: хмурит лбы, досадует, шепчется, прикрыв рот рукой. Но никто не смотрит вниз, на его ноги! Что это он сейчас сказал? Шекспир? При чем тут Шекспир? И как вернуться от него к современности и от нее к Паулю Шустеру?
– Если и в шекспировских авто...
Паузу заполняет смех. Шаркание ног становится громче. Слышно шиканье – неизвестно откуда. Оно сочится из воздуха, струится из стен, спускается с потолка. Глава учреждения поднимает руку, чтобы привлечь к себе внимание, и, когда ему это удается, показывает на ручные часы. Оратор продолжает говорить, глядя на свои часы; он говорит уже почти час, чувствует, как приливает у него кровь к голове, знает, что сейчас не так важно перейти к сути, как кончить, знает также, что рана позора и унижения никогда в нем не заживет, но продолжает говорить сквозь нарастающий шум, ищет уже не содержательного окончания своих рассуждений, а только точки, на которой мог бы завершающе замереть голос, но не находит ее, пристально смотрит на лица людей и видит сплошь, сплошь врагов, цепляется взглядом за лицо Пауля, выражающее не злорадство, а сострадание, говорит, говорит, повторяется – и вдруг умолкает, остановившись посредине фразы, смотрит, как и все умолкнувшие слушатели, на дверь.
Она тихо, незаметно для него и для всех отворилась и громко захлопнулась. А перед ней, очаровательнее чем когда-либо, стоит Ирена, очень молодая в своей новой шляпе.
– Простите, – говорит она в наступившей тишине и, подняв голову, улыбается мужу без тени смущения, как человек, который вправе прийти с опозданием и может, собственно, не просить прощения.
Поля шляпы покачиваются при каждом шаге Ирены, когда она направляется в первый ряд. Либшер поднимается, здоровается с ней, шепотом представляет ее главе учреждения, она садится, кивает головой мужу, словно говоря: «Ну вот, милый, можно и продолжать!»
И Тео продолжает. Не так, как он с большим опозданием решил это сделать, но продолжает. Чуда с ним Ирена не сотворила, но дала ему возможность нового начала. Задуманного поворота от общего к частному он и сейчас не находит. Но находит конец. И его он произносит четко, свободно, без судорожных жестов, перед внимательными слушателями, которые даже вежливо награждают его слабыми аплодисментами.
Когда глава учреждения с кожаной красной папкой лауреатского диплома под мышкой выходит вперед и говорит что-то насчет чрезвычайно интересных рассуждений, разнообразная проблематика которых вполне может заставить энтузиаста литературы забыть о регламенте, Тео поспешно преодолевает длинных три метра, отделяющих его от места в переднем ряду. Он еще успевает подумать, что надо как можно дальше спрятать под стулом ноги, что надо шепнуть Ирене слова приветствия. Затем он погружается в состояние духовного изнеможения и уже ничего, кроме биения своего сердца, не чувствует.
15
После того как зрители удалились, элита и сотрудники собрались для закрытого празднества в кабинете главы учреждения. Распорядитель, которого Тео при всем желании не смог бы узнать, секретно пригласил всех избранных, назвав продолжение праздника выпивкой в узком кругу. Узкий круг состоит из тридцати пяти мужчин и, если не считать прислуживающих за столом секретарш, двух женщин, выпивка – из шампанского и завершающего крепкого кофе, неупомянутая закуска – из большого количества колбасы, мяса, яиц, сыра и небольшого количества хлеба. Людям пожилого и среднего возраста насладиться всем этим мешает необходимость стоять и болтать. Старикам, к чьим услугам имеется несколько кресел, такие удовольствия все равно заказаны.
Вокруг них и витает взор Пауля, стоящего вместе с Уллой, Иреной, Тео и Либшером. Он, само собой разумеется, чувствует себя центром праздника, но убеждается, что никто не разделяет этого чувства. Официальной частью была выполнена норма признания, а на большее никто не считает себя обязанным.
Первые обращенные Паулем к Ирене слова – комплимент, искренний, но мало ее трогающий. Ей, привыкшей к теплу Тео, лощеность Пауля кажется холодной. Она пытается втянуть в разговор Уллу Шустер и терпит неудачу. «Ну конечно да! Ну конечно нет!» – отвечает жена Пауля, а если Ирена задает ей вопрос, на который надо ответить целой фразой, Пауль берет это на себя. Когда возникают паузы, Либшер спасает положение анекдотами.
Первые обращенные Паулем к Тео слова: «Не принимай этого близко к сердцу» – произносятся таким тоном, который заставляет ждать добавления: «старина», «старик» или чего-то в этом роде. Все другие знакомые Тео не настолько бестактны, чтобы упоминать о неудачной речи, и, когда радостно настроенный лауреат заговаривает о ней, все спешат переменить тему.
Но Тео все это воспринимает иначе. В тактичном молчании он усматривает враждебность, а в бесцеремонности Пауля – дружеский жест, дающий ему, Тео, возможность облегчить душу объяснениями, к которым он тотчас и приступает, отчего всем снова становится неловко.
Он быстро замечает, что Пауль тоже его не слушает, что весь его интерес сосредоточен на элите. Одна лишь жена Пауля внимательно смотрит на него, Тео, но не говорит ни слова. Обращаясь к ней, он произносит еще несколько фраз о своей неудаче и остается один.
Ирена, которую Либшер представляет главе учреждения, полагается на то, что излучаемый ею свет покажет в более выгодном свете и ее мужа.
Пауль говорит: «Минуточку!» – и вместе с женой переходит к группе важных старцев, где ведет себя так, как того и ждут. Смеется над каждой остротой, никого не смущает двусмысленными политическими высказываниями, болтает о пустяках, прикидывается скромным и почтительно внемлет мудрым банальностям. Лишь однажды высовывается он на передний план, когда за шампанским, в нарушение подчеркнуто неофициального стиля маленького праздника, провозглашает чересчур длинный тост в честь государства, партии и народа, которым литература обязана всем, после чего на лицах появляется такое выражение, намекая на которое Тео мог бы ему сказать: «Не принимай этого близко к сердцу, старик».
Но у Тео совсем другое в голове, и прежде всего – а одно это, собственно, уже полностью забивает голову – злополучная речь, думать о которой он еще не может, а может только воспроизводить ее про себя. Не переставая мучиться, он мысленно продолжает говорить, снова слышит смех, шиканье, шарканье, связывает с ними каждое произносимое слово, каждый направленный на него, Тео, взгляд и, не представляя себе, что когда-нибудь это пройдет и его душа успокоится, не видя никаких средств спасения – одно из них уже применяет.
Как известно, страдание усиливается от бездействия и идет на убыль от деятельности. А действовать Тео вынужден: из-за своих непарных ботинок и из-за приема, который задумала Ирена и который теперь приобретает значение и в его глазах.
Чтобы не привлекать взглядов к своим ногам, он протискивается в середину одной из групп и там спокойно разрабатывает план действий.
Надо отвести в сторону предполагаемых гостей, чтобы не договариваться с ними в присутствии других, тоже знакомых, но не приглашаемых. Действовать нужно быстро, ибо эта встреча явно рассчитана на короткий срок. Шампанское уже выпито. Секретарши уже убирают остатки закуски.
В первую очередь нужны лауреат и его супруга. Но они еще стоят у стола старцев, она – молча улыбаясь, он – с озаренным лицом. Замечания, что все дело в усердии, в наблюдательности, в связи с живой жизнью, в твердой позиции, он выслушивает как откровения и на вопрос о литературных предшественниках отвечает перечнем духовных предков, ровно наполовину состоящим из имен тех, кто сидит перед ним, – этот знак уважения одни принимают с благосклонной, другие со скептической улыбкой.
Когда группа, где Тео стоит, разражается смехом по поводу блестяще рассказанной биографии одной журналистки, прошедшей через множество известных стране супружеских постелей, он быстрым шагом преодолевает лишенный укрытий участок, прячет ноги под стол и, полагаясь на тугоухость старцев, произносит свое приглашение, в ответ на которое следуют милостивый кивок Пауля и громкое «да, с удовольствием» фрау Уллы.
Ирена тем временем придала своей беседе с главой учреждения характер весьма доверительный. Она внушает ему сочувствие к Тео, но не скупится и на исполненные любви упреки. Она просвещает очарованно улыбающегося господина насчет прямо-таки асоциальной нравственной бескомпромиссности Тео и вынуждает своего собеседника дать обещание позаботиться о нем и предотвратить возможные последствия сегодняшней неудачи.
Тео между тем добрался до группы, где Либшер может не только пустить в ход свой репертуар анекдотов, но и пополнить его.
– Диалог: Мой муж бросил курить! – Для этого нужна очень сильная воля! – А она у меня есть!
Либшер пользуется успехом. Уставшая от торжественной обстановки публика благодарна за любой повод посмеяться.
Когда он делает паузу, Тео шепотом приглашает его и хочет перейти к фрейлейн Гессе, уже стоящей в дверях с молодыми коллегами. Но Либшер крепко держит его за рукав.
– Ты не совсем верно понял мое компромиссное предложение.
– Можешь быть спокоен: я не упомяну о нем.
Группа вокруг фрейлейн Гессе умолкает при приближении Тео и быстро рассеивается. У фрейлейн Гессе взгляд грустный. Даже улыбка, которой она отвечает иа приглашение, печальна.
– Не лучше ли вам сегодня остаться одному?
– Нет, напротив, – говорит Тео и просит ее подождать на улице его и Ирену.
Он должен еще попрощаться с главой учреждения, который как раз целует руку Ирене и потом дольше чем следует задерживает руку Тео, назначая ему последующую аудиенцию.
– Пожалуй, она будет, если вы не возражаете, довольно принципиального характера.
– Какие очаровательные люди, – говорит Ирена на лестнице. – Я очень хорошо себя там чувствовала.
– Когда тебя почитают, – не без горечи отвечает Тео, – легко чувствовать себя хорошо.
16
Последние лучи заходящего солнца падают через открытое окно на мать и дочь, демонстрирующих в девичьей комнате свои шляпы. Они находят друг друга красивыми, но незнакомо-забавными. Они смеются, кидаются друг другу в объятия – и вдруг плачут, молча, не скупясь на слезы. Однако являемая ими картина близости обманчива. Плачут они вместе, но по разным причинам.
Дочь плачет об утраченных любовных иллюзиях, из-за собственной слабости, от страха перед неопределенным отныне будущим – и от радости по поводу возвращения домой, которое вновь дарит ей то, что она потеряла: привычное. Отныне, решает она, на вновь обретенное она будет смотреть так, словно все видит впервые: эту комнату, этот сад и эту неизменно веселую мать, на груди у которой можно выплакаться, не рассказывая о всей мере перенесенного горя. Слезы провожают прошлое, начинают смывать остатки отчаяния, дают ей способность принять то новое, что ее уже ждет. Мокрые пятна на материнском плече отмечают поворот: конец детства. В слезах матери тоже смешиваются радость и боль. К ним прибавляется страх. Радость вызвана так неожиданно изменившейся дочерью, боль – теряющим веру в себя мужем, а страх – Паулем, который одним лишь словом может разрушить рассчитанное на всю жизнь счастье семьи.
Она счастлива, что еще так много значит для дочери. Она обнимает взрослую девушку и хочет, чтобы та была маленькой, еще меньше, совсем крошкой. Она мечтательно вспоминает то время, когда у них была одна судьба, когда ребенок еще целиком зависел от ее любви, от ее забот, от молока, которым вспаивало его ее тело.
Их пути теперь все больше и больше расходятся – это одна причина для слез, другая – воспоминание о времени, когда обе они были единой плотью. Это было время страха и отвращения.
Страх она испытывала перед обоими мужчинами, отвращение – к самой себе. В то время как в ней росло дитя Пауля, она полюбила Тео и обманула его, чтобы сохранить ребенку отца, а себе – счастье. Рвота, месяцами ее мучившая, вызывалась причинами душевного, а не физического свойства. Спокойная радость беременности, знакомая многим женщинам, ей не была дана. Часто она ненавидела ребенка в своем чреве, ребенка, ради которого стала лгуньей.
Даже многолетнее счастье бывает причиной слез, если оно построено на лжи, которую могут раскрыть случай, неосторожность, месть.
– Глупые мы бабы, – говорит она, выпуская дочь из своих объятии. – Надо же нам лить слезы именно тогда, когда придут гости и мы должны быть красивее, чем обычно. К счастью, есть средства от зареванного вида.
Ирена редко устраивает званые вечера, но знает в этом толк. Она умеет так распределить гастрономические радости, что при отсутствии темы для разговора они и сами могут ею служить. Она умеет вовремя вводить в действие алкоголь, который развязывает языки и, если полить им горячие угли, вздымает пламя; она не впадает в панику при неизбежных долгих разговорах о болезнях, детях, водопроводчиках, кулинарных рецептах, автомобилях, потому что убедилась, что обремененные ответственностью хозяева более взыскательны, чем гости, наслаждающиеся хотя бы уже своей безответственностью.
Кроме того, она, в отличие от Тео, не такая уж противница подобных разговоров, потому что в них могут участвовать все. Болезни есть у каждого, а рассказы о водопроводчиках так же похожи один на другой, как разговоры о любви, которые, однако, никому не надоедают. Конечно, она предпочитает разговоры о людях – сплетни, как пренебрежительно и понапрасну говорят, новости, касающиеся чужих домов и чужих сердец, семейные драмы; персоналии – но без реалий; рассказы о знакомых – но без их профессиональных проблем; об авторах – но не об их произведениях; о политиках – но без политики. Ее интересуют люди; разговоры, касающиеся дел, науки, литературы, истории, она считает свидетельством профессиональной узости и их не любит.
Чтобы предотвратить их, нужно распределить места за столом, что Ирена делает с помощью карточек. Гости, обычно смущающиеся, когда входят, безропотно подчиняются. Она посадила Краутвурста между Тео и фрейлейн Гессе, профессора Либшера рядом с фрау Краутвурст, а себя между чествуемой парой, между господином и госпожой Шустер, чтобы воспрепятствовать образованию интимных фракций, что было излишне, ибо супруги Шустер не пытались обменяться друг с другом хотя бы словом. Могут ли они и без слов объясняться или им нечего друг другу сказать?
Пауль участвует в разговоре об автомобилях. Он не может привыкнуть к переключению скоростей в новом «вартбурге». Из-за своего веса он отказался от торта и объясняет свое прежнее и нынешнее отрицательное отношение к кофе.
– А к пудингу?
– Начисто исключается.
– Правда?
Молчаливая фрау Улла пугается, когда с ней заговаривают. У нее большие детские глаза, постоянно влажные, с поволокой, за которой может скрываться и задумчивость, и пустота.
– Ну конечно же, – говорит она и снова молчит, пока следующий вопрос Ирены не вспугивает ее: – Ну конечно да! Ну конечно нет! Ну конечно же!
Бедный Пауль, думает Ирена. Но эта сочувственная мысль относится не к чисто выбритому, озабоченному своим весом мужчине рядом с ней, а к Паулю ее воспоминаний. Она не задумывается сейчас о том, что страдания, как некоторые южные плоды, после длительного хранения становятся сладкими и потому через много лет почти неотличимы от радостей. Ее Пауль был бородатым Паулем, и его-то ей и жаль, когда она слышит эти бесконечные «ну конечно же!» и видит испуганно сжатые колени, между которыми, ладонь к ладони, спрятаны руки.