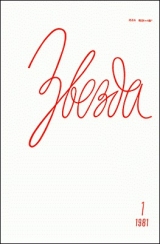
Текст книги "Ночь и вся жизнь"
Автор книги: Григорий Глазов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Над ухом Гурилева в щели заунывно пел сквознячок. Слюдяно мерцал в свете луны снег. Спала земля, скованная ночной стужей. И где-то далеко, в глубине ее темного и холодного чрева, спал его сын Олег, которого не пробудить ни криком, ни тихой мольбой…
В эти минуты одиночества и неизвестности он вспомнил – и не случайно – людей близких, дорогих, памятных тем, что своей праведностью или ошибками помогли ему понять жизнь… Жена… Сыновья… Вардгес… Брат… Да, и брат…
Было это уже потом, в эвакуации, в Джанталыке. Жена работала счетоводом в госпитале. Однажды после обхода в финчасть вошла медсестра Гуля Давлетова и, склонившись, тихо сказала на ухо Гурилевой:
– Вера Васильевна, ночью привезли новеньких… Среди них один… Фамилия, как ваша…
Лицо Гурилевой ожгло изнутри, горячая боль ударила в виски, руки и ноги онемели, попыталась встать – не могла. Поняла, что обморочно бледнеет, заметила, что все уставились на нее. Деревянными губами произнесла, думая об Олеге:
– Молодой?
– Нет, совсем старый, – сказала Гуля. – Но фамилия ваша. В четвертой палате…
Поняв, что испуг был напрасен, что раненый – однофамилец, слабыми пальцами пошевелила бумаги на столе и вышла вслед за Гулей.
Четвертая палата для особо тяжелых. Войдя, Гуля показала на кровать у печки…
Медленно приближаясь к раненому, Вера Васильевна издали всматривалась в него. Он лежал, почти плоский, укрытый до подбородка синим одеялом с пристегнутой к изнанке простыней. И белый ее край касался лица, оттеняя серовато-сизый подбородок, наскоро выбритый неловким госпитальным парикмахером. Голова, тоже кое-как обритая, тяжело лежала в мягком лоне жиденькой подушки. Лицо, с закрытыми глазами, остро худое, изможденное, было незнакомо. Она смотрела в эту неподвижную маску то ли глубоко спящего, то ли умиравшего, на синие, покойницки выпуклые веки, плотно закрывшие глаза, и пыталась хоть что-то, что было в ее памяти, соотнести с чертами этого человека. Но ничего не вспоминалось. Тихонько она вышла из палаты.
Перед уходом, в конце рабочего дня, все же заглянула в сестринскую, где Гуля что-то писала в разграфленную школьную тетрадь.
– Гуля, вы уверены, что его фамилия Гурилев?
– Ну конечно! Зачем бы я вас тревожила. – Гуля достала регистрационную книгу, полистала. – Вот: «Гурилев Георгий Борисович, 1890 года, железнодорожник…»
«Это Жорж. Жорж… – Она нервно свела пальцы. – Откуда? Как он сюда попал?»
Видела она его всего два раза, первый, кажется, в 1924, второй – в 1936. Из осторожных рассказов мужа сложилось представление, что брат его человек со странностями, трудный… Был против их брака. Догадывалась, почему… Поддерживать отношения не желал, но она не особенно печалилась, ощущая внутреннюю неприязнь к нему. Считала, что по его вине муж не получил образования: тогда, в сложные двадцатые годы, иметь брата, служившего в 1918 году в Верховном управлении в Архангельске, оккупированном англичанами, было большой помехой… С тех пор все перегорело, остыв, улеглось, и она просто забыла о существовании этого человека…
Вечером сообщила новость Гурилеву. Взволнованный, растерявшийся, он порывался тут же идти в госпиталь, но она отговорила его – час поздний, не пустят, тем более к тяжелораненому. Побежал, едва наступило утро. В палате еще от двери увидел, узнал источенное страданиями лицо. Пока приближался, брат следил за ним серыми сосредоточенными глазами, потом выпростал из-под одеяла легкие от худобы руки. И Антон Борисович, едва присев на белый стул, нежно накрыл эти две слабые руки своими теплыми ладонями, почувствовав чужую сухость кожи и холодок ногтей.
– Ты можешь разговаривать? – спросил Антон Борисович.
Брат утвердительно шевельнул веками.
– Мне Вера сказала… Она работает тут…
– Знаю. Она вчера была… Мне сестра милосердия сказала…
– Вера подумала, что ты спишь.
– Я не спал… Я понял – это она…
– Ты не хотел?..
– Я не мог… – В уголках глаза, горячо смотревшего на Антона Борисовича, шевельнулась слеза.
– Ну что ты, Жорж, – гладил Антон Борисович руку брата. – Она давно все забыла.
– Такое – нет… Так не бывает. – Губы его чуть сползли в кривую улыбку.
– Все бывает, Жорж… Все бывает… Так должно быть… Сейчас война… Прошло столько лет… Все мы изменились…
– Как Олег? – вдруг спросил брат.
Антон Борисович вздрогнул, показалось, что сузившийся в луч воспаленный взгляд брата видит во внутреннем кармане его пиджака паспорт, где меж страничек спрятана пришедшая месяц назад похоронка на Олега.
– Он под Сталинградом, – быстро ответил Антон Борисович.
– Воюет… Хорошо… С ними надо воевать… Расскажи о себе, – и поправился: – о вас…
– Лучше ты о себе… Как это случилось?
Георгий Борисович слабо развел руками, мол, что говорить. И все же сбивающимся голосом, часто умолкая, чтоб отдохнуть и чтоб вышло покороче, рассказал.
Из города он уходил почти последним с несколькими путейцами. Сперва ехали в вагончике-дрезине, затем на телегах с каким-то колхозом, угонявшим скот на восток. Добрались к Дону. Явился в военкомат. По возрасту в армию не взяли, направили как специалиста по мостам и тоннелям в железнодорожный отряд. Кочевал с ним по прифронтовым полосам, строил мосты, укреплял насыпи, укладывал колею. И вот – железнодорожная катастрофа под Калинином; их рабочий поезд – паровоз, три платформы с рельсами и шпалами, жилой вагон – пошел под откос. Какая-то труба вонзилась в живот, разворотила все внутри, повредила позвоночник. Почти месяц возили по разным госпиталям, наконец, довезли сюда, в Среднюю Азию.
– Хорошо, что ты здесь, – устало закончил Георгий Борисович. – Хоть знать будешь, где я умер…
– Что ты, Жорж! Поправишься, вот увидишь… Время только нужно… Мы тут, выходим тебя…
– Антон, – позвал брат. – Когда-то… давно… ты рассказывал… Будто наш отец усыновил меннонита… Будто это я… Ты шутил, правда?
Антон Борисович ахнул: вот что вспомнилось! Неужто в холодном несуетливом рассудке брата все минувшие годы сидело это?! Ужели трезвый, уравновешенный ум Жоржа усомнился, что была это всего лишь метафора, притча… Сидело занозой столько лет!.. И, пораженный исповедальностью его вопроса: «Ты шутил, правда?», Антон Борисович успокаивающе улыбнулся:
– Разумеется… Просто нужен был аргумент…
Вошел врач со свитой, и Антон Борисович удалился, сидел в коридоре, дожидаясь конца обхода…
– Ничего утешительного, – быстро идя к следующей палате, говорил ему потом хирург. Антон Борисович едва поспевал за ним. – Безнадежен. Подробности вам не нужны. Сделано все, что возможно, но – увы…
– Может быть, что-нибудь… Я прошу вас… – растерянно говорил он хирургу.
– Нас просить незачем. Я прикажу, чтоб вас пускали к нему все это время… До конца. Это – единственное, чем я могу еще помочь ему… И вам…
Брат прожил еще четверо суток. Похоронили его на новом кладбище, возникшем с той поры, как появился госпиталь, положили его в ту же землю, где покоилась теща, умершая в первый год их жизни в эвакуации…
* * *
Внизу послышалось какое-то движение. Звякнуло. Гурилев притянул к себе автомат, замер. Что-то тихо перемещалось. Потом умолкло. Он осторожно посмотрел вниз. То ли волк, то ли большая бездомная собака, задрав голову, видимо, почуяв человечий дух, глядела на Гурилева недвижными угольками глаз, подсвеченных лунным отблеском. Сперва он хотел крикнуть, что-нибудь швырнуть, отпугнуть, но раздумал, боясь обозлить. Решил выждать. Животное заскулило, прошло вдоль стены и исчезло в проломе…
Гурилев полез за часами. Половина одиннадцатого. Час, как уехал Анциферов…
Гурилев уже понял, что если тот и вернется, то нескоро, в лучшем случае к утру. Вельтман тоже, наверное, где-то затаился… А он должен – тут. Ради чего?.. Да и обязан ли? Скорей бы утро… Что-то определится… За какой-то ничтожно малый отрезок времени он успел еще раз прожить памятью кусок прошлой, исчезнувшей жизни, преодолеть огромные расстояния и десятилетия… А решить: оставаться ли здесь стеречь корма – от кого?! – или все-таки уйти – он не успел, хотя на это нужны лишь секунды… Не успел?.. Или не хотел, отдалял это решение?.. Но может, это и было уже решением… Он понял, что Анциферов солгал… Зачем?.. На труса Анциферов не похож… До утра, конечно, тут, на холоду, не выдержать… Кто вправе его упрекнуть, если он уйдет отсюда? Но куда? Просто на восток… И, сжавшись, привалившись к ледяной стене, он с тоской посмотрел на пустынное ночное поле, открывавшееся за рухнувшей стеной.
Дуло в затылок. Гурилев затолкал выбившийся шарф. Жена называла его «кашне». Он не любил этот шарф, не умел его носить, раздражался: при ходьбе шарф вылезал сзади над воротником, а спереди – к подбородку, тогда шея оставалась голой. Сколько раз жена учила надевать его! Если куда-нибудь шли вместе, много раз по дороге поправляла, аккуратно засовывая за ворот и борта пальто… Но сейчас Гурилев был рад этому теплому плотному шарфу, даже понюхал его конец с пышными кистями, будто там могли сохраниться тепло и запах пальцев жены, так часто прикасавшихся к толстой шерстяной пряже. Но сохранилась лишь пришитая к изнанке залоснившаяся уже фирменная бирка: овца и золотыми буквами надпись по-польски: «Яцек Глоговский. Сатурн. Лодзь».
Шарф этот Гурилеву подарила Ганка Байцар. Супруги Байцары – Ганка и Юзеф, беженцы из Польши, уже раздавленной немцами, – появились в городе незадолго до войны. Все имущество этой четы умещалось в наспех набитых рюкзаках, они протащили их на спинах от Люблина до Белостока, но память о пожарах, облавах, расстрелах погнала Байцаров дальше, на юг Украины.
За стеной у Гурилевых в двухкомнатной квартире жила одинокая портниха, которую вся улица называла «мадам Лимбут», – в молодости она пела в оперетте и имела псевдоним Жозефина Лимбут, хотя была она просто Женя Липовенко. Ее уплотнили, подселили Ганку и Юзефа. Было им лет по тридцать. Но ужас пережитого, казалось, навсегда парализовал этих молодых еще людей. Движения их были пугливыми, они старались не производить шума, чтобы не привлекать к себе внимания, торопливо прижимались к забору или стене дома, уступая встречным дорогу, даже между собой разговаривали тихими вкрадчивыми голосами, боялись лишний раз потревожить кого-нибудь из соседей необходимыми вопросами или просьбами. Незнание языка затрудняло им быт, речь их состояла из спутанного набора польских, немецких, еврейских и русских слов.
Для всех во дворе эта пара казалась явлением из незнакомого и таинственного мира, называвшегося «заграницей». Все в них было неясно, любопытно: и робкие голоса, и то, что ботинки они называли «буты», а галстук – «кроватка», и беспрерывное «пан» и «пшепрашем» – простите. Странной казалась и одежда: короткие, из грубоватого сукна полупальто с прямоугольно приподнятыми плечами. Ганка носила к тому же плотные, зауженные книзу брюки, заправленные в высокие тупорылые ботинки на толстой подошве, а Юзеф – суконное, военного образца кепи.
Соседи долго присматривались к Байцарам, остро хотелось знать о них все, знать, как там, откуда они явились, что такое эта их «заграница» и что такое немцы.
Боязливо, как бы оглядываясь, Ганка и Юзеф рассказывали об ужасах войны, о страданиях, обрушившихся на людей, о глухой жестокости немцев. Рассказы эти вызывали у одних недоумение, у других – тягостное предчувствие беды, а кое-кто просто не понимал, как такое может происходить на виду у всех и почему не дать этим немцам по морде. После таких рассказов Ганка и Юзеф выглядели еще загадочнее, а тот мир, из которого они пришли, – непостижимее…
Четырнадцатилетний Сережка однажды спросил:
– Папа, а они не шпионы?
– Кто? – не понял Гурилев.
– Ну эти, наши новые соседи из Польши? Они похожи на шпионов.
– Они не шпионы, Сергей, – серьезно ответил Гурилев. – Они работают на швейной фабрике.
– Ну и что? – удивился сын. – А кто они?
– Просто люди. Несчастные люди, бежавшие от войны.
– А почему они бежали? Испугались немцев или войны?
– Что-то вынудило их покинуть свой дом, – подыскал ответ Гурилев. – Ты думаешь, это легко и просто? Познакомься с ними поближе, поговори. Они тебе лучше объяснят, чем я.
– Я не понимаю по-ихнему.
– Захочешь – поймешь, – сказал Гурилев сыну.
Пока Байцары обзаводились скарбом, Ганка, случалось, заходила к жене Гурилева попросить сковороду или кастрюли, а то и корыто для стирки, при этом, застенчиво краснея, долго объясняла, почему ей так необходимо то или иное.
С Юзефом Гурилев по вечерам иногда пил чай с вишневым вареньем. Вишня была без косточек, Юзеф хвалил, и теща Гурилева, сварившая это варенье, начинала ворчать, что оно могло быть еще лучше, но ей попался не тот сорт вишни. Она тут же уходила и приносила банку со сливовым или айвовым джемом собственного изготовления и заставляла Юзефа все пробовать.
– Старики разборчивы, – сказал Юзеф, когда Анна Степановна вышла в очередной раз. – Любят проявлять свой характер.
– Может, проявление характера – это проявление их желания жить, – ответил Гурилев.
– Мои старики уже ничего не проявят, – вздохнул Юзеф. Он видел, что Гурилев деликатно молчит, но понимал, что у Гурилева много вопросов к нему. И начинал рассказывать, сперва вяло и общими словами, но постепенно все подробней и точней, сам уже испытывая потребность в собеседнике: хотелось, чтоб кто-то услышал и понял, одному нести в себе тяжесть пережитого невмоготу, а надо начинать новую жизнь, создавать кров, обретать привычки и правила нового, незнакомого прежде уклада.
Гурилев слушал внимательно, обхватив ладонью подбородок и поглаживая пальцами щеку. Слушая, он понимал, а Юзеф, рассказывая, видел. И эта разница иногда мешала Гурилеву оценивать услышанное, примерять его к себе, к своей семье, случись им такое.
Подробности в исповеди Юзефа были страшные и неотвратимые. Он рассказывал о женщине у руин дома, где только что погибли ее близкие. Камни еще исходили сизым дымом, а она стояла и держала подобранную в развалинах взбивалку для яиц и крема – единственное, что осталось от всей ее жизни…
– Нелепо?! Смешно?! – шептал Юзеф. – Н-е-т! Война не признает юмора…
Юзеф говорил о мелком, ничтожном, подлом, что с войной вдруг выплыло на поверхность, вселяя в людей страх; о том, что испуганная людская молва не должна наделять ничтожества властью, иначе они тут же начинают верить в то, что обладают ею. И, слушая Юзефа, Гурилев мысленно подсчитывал ошибки отдельных людей и целых поколений, простые и вроде ясные всегда и всем, каких, казалось, можно избежать. Но ими пренебрегли. И человечество уже начало расплачиваться. За все ошибки надо платить. Но плата всегда выглядит непомерно и оскорбительно завышенной… «Неужели это – уже начало?» – думал Гурилев, слушая Юзефа, вспоминая слова брата и Погосяна о немцах и войне… Желтые клыки немецкой овчарки под белой бородой на горле старика… Пес только еще вкусил человеческой крови. И она пришлась ему по вкусу…
– Я слышал, у вас сын в армии? – спросил Юзеф. – Их остановите вы, правда? Когда вы сможете их остановить?
– Я всего лишь бухгалтер, Юзеф…
– А человечество и состоит из бухгалтеров, трубочистов, инженеров, портных, гимназистов, акушеров, золотарей! И вешают, травят собаками их же, а не слова «человечество», «общество», «народ»!.. Что вы на это скажете? – Он отхлебнул остывший чай.
– Увы, ничего, кроме того, что вы правы.
– На земле несчастных больше, чем счастливых, – с отчаянием глядя в глаза Гурилеву, сказал Юзеф. – Среди счастливых подлецов больше, чем порядочных. Среди несчастных – наоборот. Наверное, в той же пропорции.
– Страшный подсчет, Юзеф. Вы не ошиблись? Просто добро менее броско, менее заметно. С этим вашим балансом хоть в петлю лезь – так все безотрадно, – возразил Гурилев.
– В этом, как вы сказали, балансе ваши бухгалтерские познания ничто в сравнении с моим опытом.
– На моей стороне опыт всей жизни.
– А на моей – год войны.
– И тем не менее… – Гурилев пожал плечами, понимая, что спор бесполезен. Какие бы аргументы он ни приводил, все они могут звучать либо пошло, либо бестактно из его уст – человека, не побывавшего ни в шкуре солдата, ни в рубище беженца…
И, как бы подводя багровую черту под их разговором, Байцар сказал:
– Где-то я вычитал, что и добро, и зло имеет своих героев. Вот что самое ужасное – не только добро, но и зло имеет.
Это была еще чужая война. И все-таки запахи ее руин, голоса ее жертв, цвет ее зарева на дребезжащих стеклах принес в дом живой конкретный человек, принес в себе и разделил с ним, Гурилевым…
А он не подозревал, как все уже близко. И то воскресенье. В пыльном и душном маленьком городе жаркое лето тянулось медленно и спокойно. Заботы людей были просты, но, поскольку это были все же заботы, они казались значительными и необходимыми.
На базарной площади, где все продавалось с подвод, сметану покупали только такую, чтобы ее можно было резать ножом, а масло – обязательно в свежем капустном листе с росой, и чтоб было оно желтым и пахло сливками; кур брали только живых, долго ощупывали, дули под перья, где пушок, чтоб поглядеть, не синие ли. Базар ломился от молодых овощей и ранних фруктов. Стоял галдеж, ржание коней, жевавших новое сено и отмахивавшихся хвостами от аспидно-синих ожиревших мух, визг поросят в мешках, требовательный гусиный крик. Пахло болотом от близкой реки, навозом и жареными семечками. И никому не могло прийти в голову, что это вдруг исчезнет. Слишком долго и надежно все это длилось, составляло саму жизнь, создано было людьми и для людей.
А Гурилев в то воскресенье, как обычно в конце квартала, сидел у себя в конторе и готовил квартальный отчет. На столе – гора бумаг, папок и скоросшивателей. Под рукой – счеты и арифмометр. За спиной на белой стене висела черная тарелка репродуктора с выдернутым из розетки шнуром. Гурилев, ничего не зная, сидел один в бухгалтерии, щелкал костяшками, сверял колонки цифр, составлял какие-то сметы, делал все, к чему привык, не предполагая, что все это уже лишено смысла, не будет иметь никакого результата: та жизнь, для которой все же что-то значили мизерные цифры маленькой провинциальной мебельной фабрики, кончилась еще на рассвете этого знойного вечного дня…
К августу в трехэтажном здании партшколы развернули госпиталь, и жена пошла туда работать счетоводом. Первое время к госпиталю наведывался чуть ли не весь город: поглазеть на непривычное – на раненых как на первых живых героев, хотя некоторые из них и выстрелить не успели; кое-кто приходил в надежде встретить сына или брата, поспрашивать о них. В распахнутых окнах всех трех этажей было бело от нательных рубах, гипсовых кукол и панцирей, бинтов, темнели лишь загоревшие лица. Свесившись с подоконника, раненые улыбались горожанам, заигрывали с девушками. То жуткое, что испытали эти молодые парни, не забылось, а как бы отпустило их сюда, в этот навсегда, казалось, тыловой городок, отпустило, оставшись где-то там, почти в нереальной жизни, которую отсюда человеку хотелось видеть без страшных ее реальных подробностей…
Занятия в школе кончились. Сережа с утра до вечера где-то пропадал с ребятами. Являлся лишь к ужину – голодный, запыленный, счастливый, с исцарапанными локтями и коленками. Он с приятелями таскал раненым гостинцы – горячую вареную кукурузу, черные вишни в кульках, зеленовато-желтые диски подсолнечников, терпкие, с налетом матовой пыльны, яблоки. Все это, конечно, добывалось в чужих огородах и садах не самым честным способом. По просьбе раненых мальчишки бегали в ларек за папиросами, ситро и пивом, получая за услугу одну-две папироски на всю ораву или несколько стреляных гильз, чудом сохранившихся у кого-нибудь в кармане.
С вечера компания подростков начинала шастать по чердакам и сараям – искали шпионов-парашютистов, про которых уже сюда заносило слухи, или, таясь за забором, следили, не попытается ли кто взорвать единственный на всей улице важный объект – маленькую трансформаторную будку с трафаретным черепом и костями на дверце.
Иногда по ночам над городом высоко в темном звездном небе проползал самолетный гул. Все прислушивались, пытаясь угадать, чей – наш или немецкий. Но гаданья эти были еще пустые, в них не жил опыт, который придет попозже…
В один из походов по чердакам Сережа нашел ржавый кавалерийский клинок. Костяные щечки на рукоятке давно отбились, торчали лишь некогда державшие их медные заклепки. Несколько дней сын усердно шкурил наждаком сталь, сдирая ржавчину. С лезвия она почти сошла, но осталась в продольной ложбинке, будто не стекшая когда-то и засохшая в ней кровь…
В другое время эту находку сына Гурилев бы, возможно, и не заметил, как не замечал многие другие его забавы. А тут поймал себя на том, что с серьезностью тайком наблюдал, как Сережа чистил клинок – когда-то чужое, но настоящее оружие…
В октябре госпиталь опустел. За две ночи всех раненых увезли куда-то глубже в тыл, новые уже не прибывали. Город забеспокоился. Каждый искал объяснение этому. И все сходились на одном, понятном, о чем вслух говорили только дома, с близкими. И Гурилев вдруг ощутил, как исподволь в него вселяются тревога и чувство ответственности – еще смутной, непонятной – за что! Оно накапливалось в нем всякий раз вроде случайно: оттого что видел, как, завернув клинок в промасленную тряпку, Сергей прятал его под шкаф; оттого что теща однажды вечером сказала: «В магазине на Благовещенской нет спичек и мыла»; оттого что жене предложили в госпитале представить список членов ее семьи… Чувство это пугало, поскольку он не знал, что должен исполнить, чтобы избыть его, или чем удовлетворить, ибо ничто конкретное прямо пока не было названо, не требовало от него каких-то поступков, чтоб защитить себя и семью. И эта неопределенность была мучительней всего. С нею он вставал, уходил на работу, жил там и с нею возвращался, подавленный, домой.
В октябре возникло слово «эвакуация» – в разговорах со знакомыми, слышалось в очереди в магазине, в шепоте сослуживцев на работе. Оно прокралось в город со станции, через нее уже проходили эшелоны, увозившие куда-то платформы с демонтированными станками и теплушки, набитые детьми и женщинами, чьи мужья когда-то стояли у этих станков…
Однажды вечером жена, вернувшись из госпиталя, сказала:
– Мы сворачиваемся. Уже сколачивают ящики для рентгенаппаратуры. – Замолкла, напряженно глядя ему в лицо.
– Ты думаешь… – начал было он.
– Да. Политрук сказал, что я должна заполнить эваколисты на себя, тебя, маму и Сережку.
– Неужели ехать? – опешил Гурилев.
– Не знаю, – пожала она плечами, хотя знала, что он сам не в силах будет принять решение.
Гурилев тем временем думал, что, выскажись он определенно, что-то должно рухнуть, может, вся прошлая жизнь, а может, и будущая. Вроде какая-то высокая стена возникла, ничего не видно ни по ту, ни по эту ее стороны, стена раскачивается, и не поймешь, куда она завалится. Но что-то так или иначе погребет под собой. И давно глодавшее его чувство ответственности вдруг закричало в нем, требуя исхода. Он спросил:
– Ты думаешь, они скоро будут здесь?
Но она, видимо, ответила своим мыслям:
– Другой возможности у нас уже не будет.
Гурилев посмотрел на жену, разом охватив ее лицо, смуглое, с темными печальными глазами, потом оглядел комнату, где столько лет все незыблемо стояло на своих местах и где к скромно нажитому однажды скарбу больше уже ничего почти не прибавлялось, разве что по одной-две книги на этажерке. Это было как прощание, чувствовал он…
– Поговори с мамой, – сказал Гурилев.
И тут вбежал Сергей.
– Папа, Витька Чубенко уезжает! Эвакуируются! И мы поедем? – спросил сын с ожиданием мальчишки, просто жаждавшего перемен.
– Возможно.
– Вот бы вместе с Чубенко! – подпрыгнул Сергей..
Вечером они объявили Анне Степановне, что должны эвакуироваться вместе с госпиталем.
– Мне незачем ехать, – строго сказала мать. Ее полные руки, с не по возрасту натянутой ровной кожей, разглаживали скатерть – от середины к краям. – Я родилась здесь. Ехать искать смерть куда-то – дурость. Ишь, придумали!
– Мама, но разве ты не слышала радио? А Байцары, их рассказы?
– Я не верю им. Мелют, лишь бы оправдать свое бегство. Не паникуйте, Антон, – повернула она седую голову к Гурилеву. – Куда мы потащимся? Бросить все это?! – Она указала за спину. – В надежде на какую такую вашу прыткость? Вы всю жизнь, как тот мастер, что сеном воду запружает. А она себе течет… Сидеть надо дома в такое время… Только прикажите Сереженьке выбросить эту саблю…
Гурилев нервно приподнялся и придвинул стул ближе к столу, но жена, упреждая, сказала:
– Мама, мы должны ехать. – Она знала: начни он возражать, что-то доказывать, спору не будет конца. Мягкость и спокойные аргументы мужа обычно лишь подзадоривали мать.
– Анна Степановна, вы во всем абсолютно правы, – сказал вдруг Гурилев. – Можно остаться, рискнуть собой, всем этим. – Повторив ее жест, он обвел комнату. – Но можем ли мы рисковать Сережей? Если даже в том, что пишут и говорят о зверствах немцев, есть хоть один процент правды. Понимаете – даже один! Разве этого не достаточно, чтобы увезти Сережу? – Он знал: теща помешана на внуке.
И она, хоть и не сразу, сдалась…
Сборы были печальные, немногословные, с частыми вздохами, особенно когда, опорожняя чемоданы от старья, натыкались на забывшиеся, отношенные и давно не нужные вещи. Они вдруг вызывали щемящие воспоминания об ушедших годах, о молодости. Вещи эти грустно откладывали в сторону, расставаясь навсегда, как с чем-то живым, а в опустевший чемодан напихивали самое необходимое: простыни, наволочки, пододеяльники, теплое белье, все, что было поновей, без заплаток и штопок. В старые покрывала укладывали подушки, а в них – посуду и стекло, перепеленатые полотенцами, стягивали концы покрывала и весь тюк перевязывали бельевой веревкой.
За два дня обе комнаты стали тоскливо чужими, без гардин казенно обнажились окна, а опустевший буфетик вдруг голо забелел покоробившейся внутренней фанерной стенкой и плохо полированными полками. Все вдруг выставило свою старость: и диван с потрескавшимся дерматином, и допотопный умывальник с мраморной доской, куда было вправлено тусклое круглое зеркало, и тарелка репродуктора с вмятой черной бумагой, из которого звучали невеселые сводки и еще бодрые довоенные песни…
По комнатам ходили, переступая через чемоданы и узлы, словно вытеснившие внезапно воздух и пространство, в котором свободно обитала прежняя жизнь.
– Мама все-таки настаивает, чтоб ты выбросил эту саблю, – сказала жена Гурилеву.
– Но Сережа не даст.
– Сделай так, чтоб он не видел.
– А если он обнаружит и спросит?
– Объясни ему.
– Что объяснить? Что боюсь держать в доме кусок старого железа? Или выбрасываю потому, что это – оружие. Тогда как объяснить ему, почему его отец боится оружия? В такое время.
– Мать не отстанет, ты же знаешь ее.
– Хорошо, – согласился нехотя Гурилев.
– Ты знаешь, о чем жалею?.. Что вечные болезни Сережи помешали мне в тридцать пятом пойти на курсы фельдшериц. Помнишь, райком партии предлагал? А сейчас формируется санпоезд. Фельдшеры нужны.
– Только я никому не нужен со своей ногой, – нахмурился он.
– Не говори ерунды… Да и твой возраст пока не призывают…
Когда стемнело, он вынес завернутый в тряпку клинок, в конце двора была сколоченная из неструганых досок уборная, и Гурилев швырнул клинок в зловонную дыру, над которой всегда жужжали мухи. Сереже пришлось солгать: приходил милиционер, потребовал: если у кого есть оружие, сдать. В зтой вынужденной лжи было что-то унижающее…
Потом жена напомнила:
– Не забудь у Вардгеса забрать ботинки.
В тот же вечер Гурилев пошел к соседу. Вардгес сидел на своем табурете, работал. Поверх синей слинявшей майки на нем был широкий темный фартук, прикрывавший колени.
– Садись, Антон-джан. – Вардгес отложил иглу с дратвой. – За ботинками пришел? Готовы. – Сильной волосатой рукой он вытащил из кучи обуви и поставил перед Гурилевым два блестевших наново накатанными рантами ботинка. – Уезжаешь, Антон-джан?
– Собираемся, – смущенно ответил Гурилев. – Вы считаете, что зря? А сами не думаете эвакуироваться?
– Даже хотел бы – кому нужен кустарь Вардгес Погосян? Ты на станции был? Видел, сколько сидят на чемоданах? А кто их берет? Эшелоны идут мимо. Всех не увезешь в такое время, дорогой. Тебе повезло, что Вера в госпитале работает. – Он взял дратву и стал протягивать ее через катышок темного воска. – Как могу уйти отсюда без Сэды? Куда потащу мать?
Гурилев знал, что жена Погосяна еще в мае уехала в Ереван к брату, у которого умерла жена и осталось четверо малышей.
– Буду Сэду ждать, – сказал Вардгес. – Буду сына ждать – Ашота. Но я не дам себя зарезать, как барана, Антон-джан… И дай бог нам увидеться…
С чувством вины и неловкости уходил Гурилев из этого дома…
* * *
Он задремал и очнулся, будто кольнуло. Услышал чьи-то шаги, сбившееся дыхание. Не понимая, всматривался со страхом в маячившую в затененном углу мастерских фигуру и, когда она вышла на млечную лунную полосу, вдруг узнал: Лиза! Он молча следил за ней. Словно уверенная, что здесь никого нет, Лиза громко поставила звякнувшее о кирпич пустое ведро, потопталась, озираясь. Что-то искала. Заметив бочки, подхватила ведро, сбросила с первой жестяную круглую крышку, заглянула внутрь и погрузила ведро в бочку. Обратно тянула за дужку с трудом, переломившись, двумя руками, широко расставив ноги. Набрала, видно, с лихвой: через край выплеснулась темная густая жижа. «Надо же, черт…» – озлилась она, тяжко опуская ведро. С боков его стекало. И когда Лиза подняла его снова, как бы пробуя вес, на снегу остался черный, круг от днища…
Ушла она не сразу. Пошевелив ботинком, выколупнула в закоулке придавленный упавшим стропилом кусок рогожи. Обтерла им ведро, присела на груду кирпичей и заплакала – негромко, спазматически всхлипывая, часто шмыгая носом. Наконец, успокоившись, вздохнула по-детски глубоко, со всхлипом, поднялась, сказала себе или кому-то с давней решимостью: «Я дотащу… дотащу…»
Гурилев хотел было окликнуть ее, спросить, кому она берет горючее, но передумал. Боялся напугать, угадывал, что свое дело Лиза вершит тут тайно. Да и себя выдавать не видел резона, заопасался вдруг чего-то…
С ведром в руке, кренясь, Лиза уже медленно шагала прочь.
Сверху Гурилев видел бочки у боковой опоры, истоптанный снег, черный круг от донышка, расплывшиеся пятна. А дальше – в недвижном свете округлившейся луны – заметил, как вдоль неутоптанной Лизиной стежки, по которой она теперь удалялась, по снегу отчетливо потянулась темная вязкая нить: в ведре была дырочка. Он понял, что останется не только этот след, но и более явный: дальше Лиза чаще начнет передыхать, опускать ведро на снег, оставляя на всем пути черные круги и густые натеки. И все это не затоптать, не смахнуть со снега, разве что метель покроет, но небо было чистым, звездным, и медленная луна все сочнее наливалась платиновым морозным сиянием…








