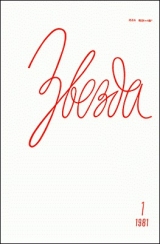
Текст книги "Ночь и вся жизнь"
Автор книги: Григорий Глазов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
– Ну что ж, – откашлялся Анциферов. – Обстоятельства будут такими… – Он не сказал «складываются так», а именно «будут», словно спланировал их сам. – Немцы тут долго не задержатся. В крайнем случае – до рассвета. Сами, небось, мечтают ноги унести… Вы, Антон Борисович, пересидите тут ночку, вроде охранником. Я с Ниной махну в райцентр. Сообщу куда следует. На всякий случай возьмите мой автомат. Я останусь с наганом. – Он протянул Гурилеву автомат. – Стрелять умеете?
– Нет, не приходилось, – ответил Гурилев.
– Как же так? – укоризненно-удивленно сказал Анциферов. – Все равно берите. Тут просто. Эту штуку, затвор, оттяните на себя. А потом пальцем жмите на крючок. Вот запасной диск. – Он говорил торопливо, делал руками суетливые движения, все время оглядываясь на Доценко, стоявшую с Ниной у грузовика.
На все быстрые слова Анциферова Гурилев лишь послушно кивал, не успевая что-либо спросить или возразить. Но вроде и возражать было нечему. Все, что сказал Анциферов, выглядело целесообразным, логичным: и что немцы здесь не задержатся, и что вряд ли они сунутся сюда, так что риску никакого, и что оставляет он Гурилева здесь просто для порядка, чтоб местные под шумок не разворовали, и что в райцентр ехать надо, конечно же, ему, Анциферову, поскольку он там человек свой, к тому же напористый, поворотливый…
– Ну все! Я поехал. – Анциферов дернул кепочку за козырек.
– Петр Федорович, – остановил его Гурилев. – Есть ли смысл вам гнать машину порожняком? Нас четверо. Может, хоть сено увезете?
– Да какая разница?! Долго это, – махнул Анциферов недовольно. – Завтра все сразу и заберем, Антон Борисович. Раздобуду «студебеккеры», пригоню, заберем… Делайте, как говорю… – Он заспешил к машине.
Гурилев остался, где и стоял, неумело держа автомат, с трудом заталкивая в карман запасной диск в чехольчике, вслушивался, как, чертыхаясь, Анциферов крутил заводную ручку, срывавшуюся с изношенного храповика. Наконец машина завелась, тускло-желто ожила фарами и покатила…
Подошла Ольга Лукинична.
– Уехал, – сказала она, вроде обнадеживая Гурилева.
– Упрямый человек, – отозвался Гурилев то ли ей, то ли своим мыслям.
– Они быстро обернутся, – сказала Ольга Лукинична. – Тут верст тридцать.
– Тридцать до райцентра? – переспросил Гурилев.
– До воинской части, автобат там.
– Какой автобат? Он поехал в райцентр! Что он вам сказал?
– Что в автобат. Я ему еще дорогу рассказала.
– Мы что-то путаем. Я или вы… Но он поехал в райцентр, – чувствуя, как сохнет во рту, сказал Гурилев.
– Это как же? – Она непонимающе водила взглядом по его лицу. – Зачем? До райцентра сто сорок верст. Ночью по этой дороге да на такой машине… Это же, считай, часов пять в один конец… А тут – под рукой… За час бы сгонял… Что же мне-то не сказал?
– Не знаю… не знаю… – Гурилев вдруг ощутил, как зазнобило внутри, в душе. – Может, встретите Вельтмана и Володю…
– Я пришлю их к вам, – спохватилась Ольга Лукинична. – Им пора бы уже. Схожу к лесу… – И, пятясь, медленно пошла, а потом, повернувшись, широко шагнула в темноту…
* * *
Он вошел под крышу. Хаос и запустение. В боковых стенах чернели проломы – трехтонка свободно бы въехала. Гуляли сквознячки. Задутый ими давний снег осел на обвалившихся балках, кирпичах, кусках штукатурки, на рваных листах кровельного железа. Сквозь дыры в потолке свет луны отбрасывал крестообразные тени от стропил. В углу стояли две железные бочки, прикрытые жестяными кругами. «Одна с соляркой, другая – с маслом», – вспомнил Гурилев. С поперечного швеллера, еще державшегося на боковых опорах, свисала талевая цепь, во время ремонта на ней подвешивали двигатели…
Бетонные ступени без перил вели наверх. Там, на цементной площадке под самым скатом уцелевшей части крыши, Гурилев и устроился. Отсюда была видна рухнувшая торцовая часть строения, дальше за ней шло открытое поле.
Гурилев зябко съежился, прижался плечом к белой от изморози штукатурке. Дохнуло холодом. Все, что за день оттаяло, сейчас вновь костенело, ночные морозы еще брали свое. И оттого, что Гурилев был одинок, а темень промыта безжизненным лунным сиянием, казалось еще холодней. Уже не хотелось считать деньги, главное, что они были при нем, стало как-то все безразлично, он только притянул мешок поближе, положил между собой и стеной.
Ему было страшно. Он пытался понять шкалу риска, найти ту отметку на ней, где обозначено его место сейчас, но не мог. Гурилеву всегда были интересны люди, либо глухие к ощущению риска, либо расчетом сводившие его до минимума. Самому же, как полагал, не приходилось рисковать – так складывалась жизнь. Все, что говорил, делал, казалось ему, было лишено того высокого, что в его представлении могло быть отнесено к риску. И он подумал: не есть ли его страх просто чувство одиночества? «Впрочем, чему быть – того не миновать», – успокоил он себя… Всю жизнь он укутывался в эту свою поговорку. Но жена догадывалась, в чем дело, оберегала от чьей-нибудь бестактности, сглаживала прямоту, с какой ее мать, Анна Степановна, норовила выговорить ему: «Вы, Антон, человек образованный, а жизни не понимаете. Все ждете, чтоб судьба на вас глянула, нет, чтоб самому ее перехватить. А ей на вас – тьфу! Один вы у ней, что ли? Тысячи! Тут только и успевай вперегонки за той судьбой – жар-птицей…» Грубоватая простая женщина, она рано овдовела. Муж ее, котельщик на электростанции, погиб от ожогов во время взрыва… Гурилев терпеливо прощал ей выпады. Она вела в доме все хозяйство, была заботлива, когда дело касалось своих, домашних. К весне он иногда ложился в больницу с обострением язвы желудка, тогда Анна Степановна сама бралась за его диету: не разрешала есть казенную пищу, готовила свою, особую, и носила в судочках разные желе, тыквенные и геркулесовые каши, протертые супы… «Вот видишь, – смеясь, говорила жена, – она и обидит, и пожалеет. Дома будет тебя поругивать, а на людях грудью заслонит». И темно-карие ее глаза с легкой коричневой тенью вокруг век счастливо щурились…
И, вспомнив жену, Гурилев забеспокоился: как там она одна? Он мягко смежил веки, чтоб памятью вглядеться в далекое лицо жены. Увидел ее почему-то совсем молодой: чернявая хохотушка в красной косынке – такой он увидел ее впервые на курсах счетоводов, куда его пригласили прочитать несколько лекций по бухгалтерскому учету. Она задавала толковые вопросы, а когда он уходил, подошла, сказала: «Вы такой молодой, а уже лекции читаете». Протянула руку. «Меня зовут Вера Чубарева». Рука у нее была маленькая, горячая, крепкая… И еще он вспомнил жену: смуглолицая, с заметным пушком по сторонам губ, лоб высокий, чуть прикрыт челкой – тогда в моде была стрижка «под мальчика», – плотная, с отблеском загара на гладкой коже полных рук, она сидела босая в высокой траве на берегу Северного Донца в синем, с белыми горошинами, сарафане, едва прикрывавшем тугие колени, а рядом стояли ее маленькие, тридцать пятого размера, прюнелевые туфли, он купил их, будучи в командировке в Харькове. Уже подрастали сыновья – Олегу было девять, Сереже пять…
И, увидев жену так близко, он испугался мысли, что с ним здесь может что-то случиться, стало страшно за нее. «Она не переживет этого, – думал он. – Сережу вот-вот отправят из училища на фронт… Может быть, уже… Совсем ребенок… Узнаешь ли ты, мальчик, что происходит здесь с твоим отцом?.. Или как Олег?.. Олег, сынок… мама даже не знает… Я скрыл…»
Вроде только что, осенью сорокового, старший – Олег уходил в армию. Только что… Три с половиной года назад… Их было шестеро: четыре парня и две девушки. Стол был застлан лучшей скатертью – белая-белая, с желтыми нежными полосами по бокам, плотно накрахмаленная, сохранившая ровные складки после глажки. Они пили красное массандровское вино, ели ветчину, дунайскую селедку и малиновые тугие помидоры. Дверь на кухню была распахнута, входили теща и жена, вносили блюда с едой. Вбегал и выбегал возбужденный четырнадцатилетний Сережа. Шутка ли, брат уходил в Красную Армию служить срочную!
Гурилев сидел с ними за столом, вслушивался в разговоры, шутки, смех. Они не замечали его, увлеченные своим делом, своим временем, своим пониманием его. Лишь Олег иногда схватывал лицо отца быстрым веселым взглядом, как бы уверяя, что все нормально, все прекрасно, только так может и должно быть. Гурилев отвечал сыну улыбкой, но Олег ее уже не видел: голова его была повернута к худенькой раскрасневшейся блондинке. Она сидела между Олегом и Ашотом Погосяном… Гурилев был застенчиво счастлив. Еще сегодня утром он знал их мальчишками. Сейчас в его доме сидело четверо мужчин, с которыми прощались две женщины, не зная, что прощались наверняка навсегда. И он этого не знал. И уже не эти юноши были с ним наравне, а вроде он с ними – равно пил вино, прикуривал от спички, которую нестеснительно запросто подносил ему Женька Горенко, бывший одноклассник Олега, державший справа от себя на столе пачку ростовских папирос «Наша марка»… Но что-то во время застолья иногда тревожно покалывало Гурилева, новое ощущение счастья как бы окуналось в нечто темное, отстраняло его от смеха и шума голосов. Однако объяснить себе или назвать эту тревогу ее истинным именем Гурилеву не удавалось, он не мог сосредоточиться: то входила жена, просила разжечь примус, то кто-то за столом обращался к нему с вопросом… Женька несколько раз вскакивал, пытаясь произнести тост, но его перебивали, шутили, и он сокрушенно садился, а когда наконец уловил паузу и вновь поднялся с рюмкой в руке, в комнату вдруг вошел важный белый петух с огромным свалившимся набок красным гребешком. Он независимо простучал коготками по половицам, обошел стол и принялся склевывать крошки у Женькиных ног. Раздался хохот, Женька обескураженно сел, а петух, возмущенный шумом, недовольно задрал голову, повертел ею и спокойно удалился…
Вечером Гурилев с женой неожиданно были приглашены в гости к Погосянам. В том же дворе, в низеньком одноэтажном доме, Погосяны за тридцать лет небогато, но уютно обжили маленькую двухкомнатную квартиру. Деревянное крыльцо, в котором одна плаха совсем прогнила, вело в небольшую кухню, отделенную от комнатушек проемом, занавешенным выцветшими ситцевыми полотнищами. В чаду кухни смешались дух лука, перца, лаврового листа, кинзы и еще каких-то трав. Но они не могли растворить в себе острый запах кожи, пропитавший за многие годы эти стены: Вардгес Погосян, отец Ашота, был самым знаменитым в городе чувячником. Сидел он обычно в кухне, в углу, у низкого окна, с улицы всегда виднелась его седая курчавая голова. На приземистом прямоугольном столике в своем порядке лежали картонные лекала, белые лосевые стельки, шильца, клубки дратвы, катыши черного воска и заточенные до бритвенного блеска ножи, которыми Вардгес кроил материал… Рабочий табурет Погосяна в тот вечер был пуст. Кухня оказалась во власти жены Вардгеса, толстушки Сэды. В широкой темной кофте и длинной юбке, обвязанная белым полотенцем, Сэда отбивала телятину, расстелив ее на плоском камне. Гурилев понял: готовилась кюфта – большие, с апельсин, тефтели, которые будут вариться в бульоне. На жаркой плите, разогретой антрацитом, что-то булькало в кастрюлях и кастрюльках. Сэда умела вкусно готовить, потому что любила гостей…
У стены на топчанчике сидела мать Вардгеса, семидесятипятилетняя Амаспюр. Древнее лицо ее, наполовину скрытое черным платком, напоминало сухую персиковую косточку – коричневое, в трещинках морщин. Старуха не обращала внимания на гостей, по-русски она почти не понимала и была занята своим делом – из тройной шерстяной нити вязала носок…
В первой просто побеленной комнате их ждал Вардгес: в свежей синей косоворотке, подпоясанный тонким ремешком с мелким набором серебряного орнамента, в серых коверкотовых брюках, заправленных в высокие мягкие сапоги из шевровой кожи.
– Заходите, Антон-джан, заходи, Вера-джан, – шагнул он навстречу. – Садитесь, гости… Сэда, поторопись! – крикнул жене.
На столе, прикрытая салфеткой, тепло дышала горка лаваша, в центре стояли бутылка коньяка, миска с травой и тарелка с тонкими ломтиками жгуче проперченной бастурмы.
Ужинали вчетвером. Обняв задубевшей ладонью бутылку, Вардгес аккуратно налил коньяк, встал, легко держа рюмку:
– Мы с тобой, Антон-джан, и с тобой, Вера-джан, знакомы много лет, мы соседи. Сыновья наши выросли здесь, вместе пошли в школу. Завтра вместе они уходят в армию. Одной дорогой. Пусть же эта дорога вместе и возвратит их нам! – Он выпил стоя, утер усы, осторожно взял двумя пальцами кусочек бастурмы, завернул в лаваш несколько веточек травы, откусил и сел, сосредоточенно жуя крепкими зубами высушенное теплыми сквозняками мясо…
Потом выпили за здоровье гостей и хозяев, за благополучие и покой, за доброту, которая не должна покидать людей. Женщины даже прослезились, вспоминая, как росли их дети, выросли, и вот сейчас…
Гурилев хотел успокоить жену, дал ей платок, а Вардгес задумчиво посмотрел на них и сказал:
– Пусть поплачут. Человек с сухими глазами, не познавший слез, – несчастный человек. «Чтоб у тебя не было слез» – самое плохое пожелание, Антон-джан, как проклятие…
Сидели поздно. Женщины ушли на кухню мыть посуду. Разливая остатки коньяка, Погосян прищурил глаз под колкой лохматой бровью.
– Тем, что на дне, – покрутил он рюмку в заскорузлых пальцах, – смывают тревогу, что на дне души. Чтоб не было войны, Антон-джан. За это!
– Вы думаете?..
– Дорогой, я старше тебя на сто лет!
– На десять, Вардгес, – улыбнулся Гурилев.
– На сто, – покачал головой Погосян. – Я видел резню 1915 года…
Домой вернулись за полночь. Не зажигая света, тихо прошли первую комнату, где на узкой железной кровати спал Сергей. Промятый диван с высокой спинкой, стеганной большими квадратами, был пуст – Олег еще не вернулся, белела горка его постельного белья…
Лежа рядом, еще долго вспоминали всякие мелочи этого длинного дня, мелочи, вдруг показавшиеся важными.
– Та беленькая девушка, по-моему, Валя, как ты думаешь, она – Олега или Ашота? – шепотом спросила жена и сама же ответила: – Наверное, Олега, она все время на него смотрела, – счастливо вздохнула.
Он в темноте улыбнулся. Потом вспомнил слова Погосяна: «Чтоб не было войны…»
Они еще долго в ту ночь шептались с женой. Рядом с лицом Гурилева теплело обнаженное полноватое ее плечо. От него шел запах земляничного мыла и даже, казалось ему, утренний запах речной воды, будто только что, а не месяц назад, она искупалась в Донце – летом они снимали комнатушку у одних и тех же хозяев в Святогорске… Уже засыпая, он слышал, как вернулись Олег и Ашот – во дворе раздавались их голоса; потом сын вошел, пил воду, стелился, звякнули пружины старого дивана, Олег зевнул и затих…
Вечером следующего дня Олег, Ашот и их друзья уехали к месту службы, куда-то под Борисов. Домой с вокзала Гурилев возвращался один – жена пошла навестить больную сотрудницу.
Теплый октябрь начался сухим шелестом сожженной за лето, бурой от пыли листвы акации. Все стояло обвялое, колючее, рытвины засыпала мягкая пыль, по ней неслышно перекатывались окованные колеса бричек и тугие, из гусматика, шины линеек; мальчишки забавлялись, вышибая усохшие кругляки сучков в сосновых досках заборов; а по утрам ветерок вносил в город из степи чистый настой пропекшейся полыни и чабреца.
Гурилеву было грустно. На вокзальном перроне в шуме голосов он стеснительно молчал, предоставив жене возможность торопливо высказать Олегу все пожелания и советы, и сейчас сожалеюще думал, что ограничился лишь словами «пиши чаще» и унес обратно многое, наверное, важное, что следовало бы сказать сыну, и еще такое, что только сейчас приходило на ум…
Он уже подходил к воротам своего двора, когда его окликнули по имени. Оглянулся. На противоположной стороне на лавочке под палисадником сидел брат. По-прежнему сухощавый, загоревший, голова знакомо обрита, в кремовом чесучовом костюме и в белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком. В жилистой руке он держал платок и все время утирал шею.
– Жорж? – удивился Гурилев, переходя дорогу.
– Здравствуй, Антон. – Брат поднялся.
Они не обнялись, лишь коротко соприкоснулись ладонями, хотя виделись последний раз лет пять назад.
Развела их давняя размолвка еще в 1923 году.
Прапорщик с 1915 года, Георгий четыре месяца провел в немецком плену, бежал, с любопытством встретил Февральскую революцию, не понял и не принял Октябрьскую, добрался до Архангельска, там поступил служить в аппарат Верховного управления Северной области, однако после того, как англичане прибрали к рукам Верховное управление, разочаровался, уехал, мыкался по стране, приглядываясь, перебивался случайными заработками, не желая служить ни белым, ни красным. Вернувшись после гражданской войны из странствий по взбудораженной, голодной, омытой и кипевшей стране, Георгий – инженер-путеец – устроился на железную дорогу в Юзовке, в восьмидесяти верстах от родного города, куда изредка наезжал. Человек прямолинейный, вспыльчивый, работал он много, честно, не суетясь, самолюбиво боясь чьих-нибудь подозревающих взглядов – намека на его прошлое…
К тому времени, когда Георгий вернулся в родные края и уже работал в Юзовке, Антон служил счетоводом в финчасти штаба 80-й стрелковой Донбасской дивизии и был уже женат на дочери котельщика Верочке Чубаревой, конторщице Особой продкомиссии 1-й Донецкой трудовой армии.
Ничего этого Георгий Борисович не знал, а случайно узнав, был обескуражен, потрясен и, не медля, поехал к младшему брату за объяснениями. Прибыв, домой к нему не пошел, а долго в ожидании конца рабочего дня торчал у проходной штаба, где часовой-красноармеец стал уже на него настороженно поглядывать.
– Нужно объясниться, – сухо сказал Георгий Борисович вышедшему Антону. – Через сорок минут я уезжаю рабочей дрезиной. На станции и поговорим…
Они устроились в пристанционном скверике под высокими тополями, все вокруг было устлано их пухом, он раздражающе лез в глаза, за ворот. Стояли четыре столика, куда подавали мутное и невкусное пиво с солеными ржаными бубликами. Взяли по кружке пива.
– Зачем тебе нужна была эта женитьба? – без обиняков спросил Георгий Борисович. – И почему ты не сообщил мне? Скрыл?
– Свадьбы не было, – засмеялся Антон, – поэтому ты и не был уведомлен.
– Не паясничай, – строго перебил брат. – Я задал тебе вопрос и жду ответа.
– Какого отчета ты от меня ждешь? – спросил Антон. – И по какому праву? Тебя смущает, что Вера из простой семьи?
– Меня не смущает! Меня возмущает твоя женитьба на ней.
– Но и мы ведь с тобой не голубых кровей. Откуда в тебе эти амбиции? Ты что, оцениваешь людей в зависимости от их происхождения? – спросил Антон, чувствуя, как немеют губы, как их щекочет лопающаяся пивная пена.
– Не в том смысле, какой ты имеешь в виду. Я не перебегал на другую сторону улицы, если навстречу попадался провонявший потом грузчик. И чтоб тебе было понятно до конца и навсегда, знай: я ненавидел двор Романовых – сплошь немецкая сволочь. Они прикрывались русской фамилией, дабы удобней устроить свои задницы в русском троне. Я презирал Корнилова и Деникина, клянчивших у французиков и англичан снаряды, патроны, пушки, штыки, чтобы рвать на куски тела русских мужиков…
– Позволь, но ты был в Архангельске, а потом умыл руки…
– Минуточку… А, черт! – Георгий Борисович раздраженно снял прилипший к мокрым от пива губам тополиный пух. – Это безнравственно – унижаться и просить французскую пулю, чтобы выпустить кишки русскому мужику.
– Значит, отечественной – нравственно?! – улыбнулся Антон.
– Это была наша, русская свара, и не их ума дело, как и чем мы бы ее решили.
– Революцию ты называешь «сварой»?! Ты – интеллигентный человек?! – Антон мелко барабанил пальцем по краю кружки.
– Нам не нужна была эта революция. России было достаточно Февральской.
– Опомнись! Не нужна была революция?!
– Что получил от нее лично ты? Женился на комсомолочке и остался недоучкой. Ты погряз в узеньком мире этой семьи, для которой чья-то духовность – повод для презрения… На ком ты женился, Антон? Разве нашей семье грозило вырождение, разве она нуждалась в этаком обновлении?..
Пожалев тогда брата, Антон не сказал ему, что отчасти именно он, Жорж, виноват в том, что Антон воздерживается от поступления в институт, где пришлось бы без утайки высказаться о странной жизни Жоржа в годы революции и гражданской войны и о его взглядах, прошлых и нынешних… Отставив кружку и усмехнувшись, поманил брата пальцем, зашептал:
– Хочу тебе открыть одну нашу семейную тайну. Я случайно узнал ее от покойной мамы. – Он выжидающе посмотрел на брата. – Недалеко отсюда, в Селидовке, живут переселенцы-меннониты. Очень давно они пришли туда из Северной Германии. В 1890 году во время ночного пожара в своей хате погибла семья крестьянина-меннонита, муж и жена. Чудом уцелел двухмесячный мальчик. Его усыновил директор реального училища. Дал ему свою фамилию, и мальчик, родившийся в семье немецких сектантов-анабаптистов, стал православным. Директор училища – это наш с тобой отец, Жорж… – Антон сделал паузу.
– А мальчик? – покусывая губу, спросил брат.
– Ты, Жорж.
– Врешь, – тихо сказал Георгий Борисович, упершись грудью в стол. Побледневшее лицо его было так близко, что Антон увидел маленький спиральный волосок, проросший из родинки.
– Почему? – приблизив и свое лицо, спокойно спросил Антон. – Разве в этой истории что-то сверхвозможное?
– Нет, конечно… Но я… не мог… я…
– Значит, этот вариант тебя не устраивает? Есть другой, третий, пятый, десятый!.. Скажем, усыновленный двухмесячный мальчик мог оказаться сыном бердичевского шорника, который погиб с семьей во время погрома… Этот вариант тебе больше подходит? Или ты отказываешь нашему отцу вообще в благородстве?
– Ты врешь… Врешь, Антон… Понимаю тебя, понимаю…
– Вот и хорошо, мой единокровный, – отодвинулся Антон. – Это тебе ответ на все и, в частности, на вопрос о моей женитьбе. В доме я тебе не отказываю, все-таки – брат. Если, конечно, захочешь прийти и познакомиться с моей женой. – Он встал, глянул сверху на брата: – Прощай. – И ушел…
С тех пор они виделись всего несколько раз, да и то случайно и накоротке: на кладбище в годовщины смерти матери или отца, а однажды Георгий Борисович приезжал с просьбой поискать среди семейных бумаг его аттестат об окончании реального училища.
С тех пор прошло много лет.
Переходя дорогу, Гурилев гадал, что опять привело брата к нему. Он видел, как постарел Жорж, худое костистое лицо, иссушенное загаром, было иссечено мелкими трещинками морщин, воротник рубашки апаш стал вроде слишком широк и открывал жилистую шею со старчески мятой кожей. Ему ведь уже пятьдесят, подсчитал, и что-то жалостливое колыхнулось в душе и тут же осело, он сдержанно спросил:
– Ты давно приехал?
– Вчера. Я в командировке, – ответил Георгий Борисович.
– Ты в гостинице?
– Да… А ты как живешь?
– Только что проводили Олега в армию.
– Я, собственно, ради этого… Мне Палевские сказали, что он уходит в армию… Надеялся повидать племянника. Попрощаться… Жаль, опоздал… У меня ведь своих детей нет… Ему воевать придется… Скоро, Антон… С немцами. Эта сволочь нас в покое не оставит.
– У нас договор с ними.
– Ерунда! Они его нарушат в любой день… Хотел напутствовать Олега…
– Не понимаю твоего порыва, – сказал Антон и пожалел.
– А мы с тобой никогда не понимали друг друга… Я ведь с Олегом чаще виделся, чем с тобой… Мы вроде дружили…
– Знаю.
– И ты не возражал, не боялся?
– Нет, мой сын меня ни в чем не разочаровал… Может, все-таки зайдешь? Вера тебя давно простила.
– Нет, нет, – поспешно отказался Георгий Борисович. – Да и не нуждаюсь я ни в чьем прощении.
И по этой поспешности Антон понял, что брат ломал себя, свое желание принять приглашение.
Георгий Борисович сунул в карман кулак с зажатым в нем платком, переступил с ноги на ногу, сказал:
– Когда от Олега придет письмо, перешли мне, пожалуйста, его адрес… Прощай. – И, дернув угластым плечом, на котором свободно сидел великоватый чесучовый пиджак, зашагал прочь, ровно и напряженно держа спину, как человек, чувствующий, что ему глядят вслед…
И была еще одна, последняя, встреча через два с половиной года, самая, пожалуй, памятная и щемящая за все время, что знал он Жоржа…
* * *
Машину трясло на вздувшихся черноземных буграх, промерзших, присыпанных снегом. Выпиравшая в старой подушке сиденья пружина толкалась в ляжку, и Анциферов ерзал, пытаясь сесть поудобней. Его раздражало неприязненное молчание Нины и тарахтенье ведра, подвязанного под бортом, хотелось сосредоточиться, окончательно укрепиться в мысли, что все сделано правильно, поскольку привык всегда ощущать неуязвимость своей позиции.
Конечно, можно было отправить шофершу в автобат за подмогой, а самому остаться с бухгалтером… Но черт его знает, чем дышит… Соглашатель какой-то… Наверное, из бывших… Не верю я ему… Всем этим бывшим не верю… Случись немцы – ткнул бы на меня пальцем, спасая свою шкуру: этот, мол, из райнаркомзага… И разговор короткий – к стенке… Оно неплохо было бы и в райцентр прибыть с грузом, дескать, удалось спасти, остальное Гурилев охраняет. Но опять же: пока загружались бы, немцы могли нагрянуть… И все – то же самое… Да и баба эта, Доценко. Разве ее проверили как следует после оккупации?.. Злом пышет на меня. Выдала б за милую душу. Я ведь ей горячего сала за шкуру залил… Нет, правильно, что в райцентр еду! Это не трусость! Разумная осторожность. В райцентре я свой… Сообщу про немцев… Там военком. Кого-нибудь поднимут по тревоге… Поймут: корма спасаю… Главное, чтоб мужики не растащили, покуда немцы в селе…
– Слушай, отцепи ты это проклятое ведро, – не выдержал Анциферов. – Тарахтит, тарахтит, мочи нет, заткни его куда-нибудь.
– Что вы нервный такой стали? – безразлично спросила Нина, выкручивая баранку.
– Станешь с вами!..
– Некуда мне его. В кузове еще больше громыхать будет.
– Вредная ты.
– Это как кому…
Дорога пошла под уклон. Лунный свет освещал сползший с откосов снег, обнаживший бурую мертвую траву, напоминавшую о скором времени, когда ее забьет свежая мурава, сливаясь с зеленой щетинкой озими, пробьющейся на этом размахнувшемся черноземном отлоге.
Вскоре они выехали к перекрестку. Вправо дорога вела к фронту, влево – к райцентру. Не выезжая с перекрестка, Нина вдруг остановила машину, открыла дверцу.
– Ты чего? – спросил Анциферов. – С машиной что-нибудь?
– Сколько километров до лесничества?
– До какого?
– Куда поехал старший лейтенант с этим Володей.
– Черт его знает… Отсюда далеко. Зачем тебе?
– Я еду туда, – решительно сказала Нина. – Вышло, что я его бросила. А он про немцев ничего не знает.
– Ты что, с ума спятила?! Это ж в противоположном направлении! Это ж возвращаться надо!
– Значит, надо!
– Времени у нас нет! Тогда мы только утром сможем уехать в райцентр!.. Немцев упустим!.. Ведь беды они наделают, если не сообщить о них вовремя!.. Понимаешь, чем может обернуться твоя затея?! – разволновался Анциферов. – И ради чего?
– Я знаю, ради чего, – твердо стояла на своем Нина.
– Предупредят твоего Ивана. Доценко знает, как это сделать. Я ей сказал. Пошлет людей к лесной дороге. Ну?!
– А если не удастся, и он, не зная, заявится в село? Что тогда?
– Говорю тебе, распорядился я, чтоб ждали их на выезде. Там и предупредят.
– Смотрите… – Нина захлопнула дверцу.
– Ну ты и стервоза, – вздохнул Анциферов. – С тобой нахлебаешься.
– Нахлебаетесь. – Нина выжала сцепление. – Если обманули и с Иваном что-нибудь случится, я вас под землей найду.
– И что будет? – усмехнулся Анциферов, довольный, что машина уже выбралась с проселка и свернула в сторону райцентра. – Что же будет? – повторил он.
– Пристрелю, – просто сказала Нина.
– Эх ты, я ведь пуганый.
– А я не пугаю, Хочу, чтоб знали, что вас ждет.
– Под трибунал пойдешь.
– Пойду. Зато вы уж никуда не пойдете.
– Веселая у нас дорога, – покачал он головой. – Я ведь тебе в отцы гожусь, а ты меня пристрелить грозишься.
– Нет, в отцы вы мне не годитесь, – отрезала Нина.
– Это как же?
– Не годитесь… Порода не та… – Она прибавила газу, ярче кинулся на дорогу свет фар.
Забыв о тарахтевшем ведре, Анциферов откинулся, прикрыл глаза, не желая больше думать ни о чем…
* * *
Бок у Гурилева онемел – то ли от стужи, то ли от неподвижного сидения под скатом крыши. Что-то распиравшее карман пальто давило в бедро. Он пошарил в том месте, нащупал твердый кругляк, вспомнил: запасной диск к автомату… Нелепость… Получилось, что Анциферов, оставляя ему автомат, как бы безоговорочно определял в сторожа здесь… Глупо все вышло… А если он не выдержит холода и захочет уйти отсюда?.. Он не обязан… Он штатский… Что может помешать ему уйти?..
Автомат лежал под стеной. Немой блеск металла пугал Гурилева. Никогда он не держал оружия в руках и обращаться не умел, хотя давно разменял пятый десяток… Осторожно придвинув к себе автомат, Гурилев ощутил непонятные ему холодные изгибы стали, вспомнил слова Анциферова: «Вот это – затвор, оттяните к себе и жмите на крючок. Пойдет, как по маслу…» Он мягко отложил автомат к стене, сдвинул в сторону запасной диск, топыривший карман, уселся поудобней и, вздохнув, опять подумал: «Чему быть – того не миновать».
В памяти, как в агонии, еще трепетали слабевшие видения прошлого. О чем просил брат на прощание?.. Адрес Олега… Нет уже адреса!.. Нет Олега!.. Нигде. И не будет никогда!.. Прости, сын, что я скрыл от мамы и Сережки…
Он полез за пазуху, достал спрятанную меж страничек паспорта бумажку. Ее дал ему приятель их, Тимофей Алексеевич Крылов, работавший в военкомате. С тех пор Гурилев не расставался с нею – желтоватой, грубой, с шелухой завальцованной древесины, с отчетливо выбитыми пишущей машинкой жуткими словами: «Управление по персональному учету потерь сержантского и рядового состава Действующей Армии. Военному комиссару Джанталыкского района… области… Известие гр. Гурилеву А. Б. Старший сержант Гурилев Олег Антонович погиб 29 сентября 1942 г. в поселке „Красный Октябрь“ (г. Сталинград). Похоронен там же».
Похоронен… Кем?.. Как?.. Похоронен… Не стало… В сущности, какая разница, известно мне или нет, где он находился в то мгновение, когда его не стало?.. Оказывается, это важно мне – и когда его не стало, и где зарыли… Уму необходимо это утешение… Разве не жажду знать, как он погиб? Мучаюсь ведь, что не знаю. Хотя у слов «погиб» и «похоронен» смысл всегда один: человека нет…
Когда пришла похоронка на Олега, Гурилев подумал, что боль и скорбь теперь навечно будут с ним. Это странным образом даже успокаивало. Хоть что-то получил взамен, хоть неравноценную долю чего-то, чем смерть охотно делится, когда забирает детей, оставляя родителям еще долгую жизнь. Лишь времени он боялся. Знал, что имеет оно столько лукавых возможностей пробуждать в человеке его защитную способность утешаться. Он заранее страшился этого утешения, стыдился, что такое может и с ним произойти. Не раз за минувшие месяцы подозрительно вслушивался в себя, сокрушенно отмечал, что острота первого удара медленно и незаметно угасает, вязнет в сутолоке нелегкого быта и служебных хлопот трудного и горестного времени. Горестного для всех. Вот, пожалуй, в чем дело…








