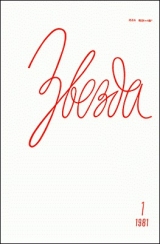
Текст книги "Ночь и вся жизнь"
Автор книги: Григорий Глазов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
– Сколько верст до хутора Бабкина? – спросил он.
– Четыре.
– Сходить туда, что ли? – вроде себя спросил.
– Может, завтра? – усомнилась Доценко, видя, как он безмерно устал. – Ты же вон, как выдоенное вымя.
– Меня всего не выдоишь, Доценко, – усмехнулся.
– Поел бы чего.
– Сыт, – глянул он на ходики. – Не врут?
– Семнадцать лет по ним живу.
– Отдохнули? – Он повернулся к Гурилеву.
– Вполне. Вам бы тоже не мешало, Петр Федорович.
– Некогда. Успею после войны. Если такие, как я, сейчас отдыхать станут, фронт без мяса и молока останется. – Он почти без усилия встал, натянул свою кепку с пуговкой. – Ночевать я буду у Лещуков. Вместе с пацаном… Значит, до завтра. – Он вышел.
– Его энергии позавидуешь, – сказал Гурилев.
– Свету только мало от энергии этой, – вдруг ответила Доценко. – Купили мы колхозом до войны движок, чтобы электричество давал. Работал с утра до ночи. Весь ходуном ходил. А свету – на копейку. Одно слово, что энергию посылал. На двадцать хат едва хватало. Керосиновая лампа и та потеплей горела.
– Положение его, наверное, такое, – сказал неуверенно Гурилев.
– У всех у нас теперь положение… Хлеб – вот кто всему начальник. Народ наш не может без хлеба, – крутила она в пальцах бахрому платка. – Немцы – те для блезиру хлебом пользуются. А для нас он – все… В сороковом в область на совещание животноводов ездила. Кормились в ресторане. Уж на что дома хорошо и вкусно ели, но и в ресторане этом, скажу вам, не откажешься: и рыба всякая соленая, салаты разные, ветчина городская. Потом, помню, борщ подали. Красивый, жирком светится, кусочки сала плавают. Как домашний, как сама делала. А вот хлеб официантка подать забыла. Сижу, жду. Все наши уже отобедали, а я все смотрю на еду, дожидаюсь хлеба, борщ стынет. Обидно, холодный борщ – сами знаете. А позвать девушку, напомнить стесняюсь. Перерыв кончается, одна я осталась. Попробовала несколько ложек борща. Вкусный, пахучий, а без хлеба не идет: то укусить надо, то под ложку подставить, чтоб не капало… Так, не поевши, и ушла. Вот что оно – хлеб! Жили перед войной, конечно, что и говорить… Хлеб ко всему шел… Да что вспоминать, – вздохнула она. – Вчера не догонишь, а от завтра не убежишь. Посеяться в срок бы. Весна стучится, пахать скоро. У нас примета: жабы закричат – пора сеять.
– А есть чем? – спросил Гурилев. – Зерно?
Доценко сделала вид, что не расслышала, только бровь чуть шевельнулась, и понял он, что повторяться с вопросом не следует – не ответит.
– Сеять на наших землях сортовым хорошо бы. Да где его взять теперь столько? – Она пальцами скребла по скатерти. – И трактор нужен. Подсказали бы в районе. Горючее у меня есть: бочка солярки и полбочки масла. Немецкое. Бросили они, убегаючи. В МТС, где корма вам складывать, храню.
– Вряд ли мое слово вес будет иметь, – ответил Гурилев.
– А пустых слов и не надо, не то время…
* * *
Проснулся Гурилев, едва рассвело. Какое-то время лежал, прислушиваясь, но из половины, где оставалась на ночь Ольга Лукинична, не доходило ни звука. Однако, когда встал, почувствовал, что в комнате тепло, а приложив ладонь к побеленной, в черных трещинах стене, понял, что печь уже топилась.
В кухне у печного угла над оцинкованным тазом висел сиявший медью бачок старого рукомойника, на табурете лежал обмылок. Зная, какова теперь цена мылу, Гурилев вынул из мешка свое, завернутое в марлю. Ополоснувшись, вернулся, стал одеваться, потуже зашнуровывая ортопедический ботинок, когда за окном, выходившим во двор, раздался отзванивавший стук топора. Отодвинув занавеску, Гурилев увидел Лизу. Она выносила из сарая березовые кругляки и колола их возле валявшегося бревна. Топор, наверное, был тяжел для ее тонких рук, она с трудом взмахивала им и, когда он падал вниз, клонилась следом. И тут во двор со стороны огорода через поваленный тын вошел Володя Семерикин. Лиза выпрямилась, стояла, не выпуская топора, вытянув руки вдоль тела. Остановился и Володя. Лиза всматривалась в его обезображенное одноглазое лицо, потом они что-то сказали друг другу и сели на бревно. Заговорили. Больше говорил Володя, согласно покачивал головой, часто курил, нервно вдавливая окурки в сырую кору бревна. Потом Лиза поднялась и пошла огородами, а Володя стоял, не решаясь двинуться за ней, окликнул дважды, но она не оглянулась, и он, горестно махнув рукой, вышел за ворота…
За ночь подморозило. Сыпала снежная крупка, ветер сдувал ее с ледяной корочки, затянувшей лунки. И Гурилев подумал: не переобуться ли, в ботинках не вытерпит, замерзнет за день, хотя в валенках из-за хромоты ходить тяжелей. Валенки были старые, с лысинами на внутренних сторонах – кустарные катанки с тугим негнувшимся подъемом, иногда натиравшим ногу.
Переобуваясь, слышал, как отворилась дверь, холодком качнуло занавеску.
– Входи, – раздался голос Ольги Лукиничны. – Замерзла я. Март вроде без рук, а щеки хватает… Сними шинелку, Володя, в хате тепло… Ну, какие у тебя дела-новости?
– Если не нужен вам, хочу в автобат наведаться. Насчет ремонта трактора. Остап Иванович коня дает, – ответил Володя.
– Давай лучше с воскресенья. Может, нужда будет в тебе, пока Анциферов в район не отъедет… А ты что такой хмурый?
– Нет, я ничего…
– Не бреши. Случилось что?
– С Лизой встретился…
– Вот как… Поговорили? – тихо спросила Доценко. – Чего молчишь? Ты уж правду мне… Брехать не умеешь, с люльки тебя знаю… Мечтала, зятем будешь…
– Сказала она мне, тетя Оля.
– Что сказала?
– А все.
– И что ж?
– Все равно люблю я ее, тетя Оля.
– Со всеми теми ее богатствами?
– Тут делить нельзя, не получится: это – кому-то, а это – мне. При человеке и жизнь его вся. Это когда мануфактуру выбираешь, тут – что тебе больше подходит…
– Не много ли хочешь взвалить на себя? Унесешь ли?
– А что делать, тетя Оля? Жалко мне ее.
– Жалеть – мое дело. Дочь моя. А она-то что? Хоть сказала чего?
– Сказала: обещаний никаких не давала и не даю. Подумай, говорит, на что идешь. А пока – оставь меня в покое, время покажет, кому какая и с кем дорога…
– Сам смотри, Володя, – вздохнула Ольга Лукинична.
Они помолчали. Затем Доценко спросила:
– Завтракал? Тогда разом будем. Картошка уже подоспела. – Она подошла к занавеске, позвала: – Антон Борисович! Иль спите еще?
– Нет, нет, обуваюсь, – отозвался Гурилев.
– Ждем вас…
После завтрака вместе с Володей Гурилев вышел на улицу ждать Анциферова: Володя по просьбе Ольги Лукиничны согласился проводить Гурилева к мастерским МТС.
Вскоре подошел Анциферов. По-деловому кивнул обоим.
– У вас все с собой? – глянул на инкассаторскую сумку под мышкой у Гурилева.
– По-моему, все, – пожал плечами Гурилев.
– Место надежное? – спросил Анциферов Володю.
– В каком смысле?
– Смысл один: надежное или ненадежное. Для временного заготпункта. Может, охрана на ночь нужна?
– Это дело ваше. Поглядите, сами решите. – Володя достал кисет, нахмурившись, стал крутить цигарку.
– Вот подворный список, Антон Борисович. – Анциферов подал бумажку. – Против фамилий сдатчиков – галочку. Помните: квитанции и денежный расчет на месте. Ценник у вас есть. В дискуссии не вступайте. У вас ощущается склонность к этому.
– Что, собственно, вас беспокоит в дискуссиях, Петр Федорович?
– Да вы не обижайтесь. Я человек прямой. Что думаю, то и говорю. Ведь брать-то нам все, под метлу.
– Что значит – под метлу? – пыхнув дымом, спросил Володя. – А народ с чем хозяйство поднимать начнет?
– Это я уже слышал. Народ – это армия, фронт.
– Тут, значит, где не фронт – все во второй сорт пошло? – Володя ощупывал лицо Анциферова единственным глазом.
– Хоть бы и так. Я могу двое суток не жравши, а солдат или командир на передовой не может. И не должен! Ему под пули идти. А кто веселей пойдет? Сытый или голодный? Ему кусок мяса или сала нужен. А в госпиталях? Сам знаешь, хлебнул.
– Но и в обстановку вникать полагается. Фрицы сколько скота побили! Особливо свиней.
– Во! Опять это слово – обстановка, ситуация! – насмешливо скривился Анциферов. – Мы этой обстановкой управлять должны! В поддавки с нею играть я не могу и не стану, иначе она мигом скрутит. Мне отсюда не обстановку вывезти надо, а корма.
– Ну-ну, – сплюнул Володя. – А тыл, город в смысле, не от нашего ли личного хозяйства получать должен и сало, и то же мясо?
– Доценко где? – отмахнулся Анциферов.
– В хате, – буркнул Володя.
Анциферов двинулся было к крыльцу, но его остановило тарахтенье мотора. Из конца улицы катил грузовик. И когда был уже близко, за мутным в трещинках стеклом Гурилев различил лицо Вельтмана, баранку вертела Нина. Подъехали.
– Что ж, Антон Борисович, свели нас интендантские дороги? – . выскочил из кабины Вельтман.
– Значит, и вы сюда? – Гурилев пожал протянутую руку.
– Я всюду. Полковой заготовитель Фигаро.
– Заготовитель? – спросил Анциферов. – Рад коллеге. Я от райнаркомзага. – Он уже решил не идти к Доценко, прищурив глаз, хитровато приценивался к Вельтману.
– Не много ли нас на эту житницу, – смеясь, показал Вельтман на осевшие сельские хаты, вытянувшиеся вдоль улицы. – Как делить этот пирог будем? До дуэли не дойдет?.. Ладно. Пошутили. Я-то по конкретному делу. Убегая, немцы вроде оставили здесь небольшой склад: мука, оливковое масло в бочках, шоколад, что-то еще. Склад где-то в лесу. Не слыхали?
– Пока нет, – ответил Анциферов. – Про такое мужики объявлений не дают.
– Уточнить бы… У кого можно?
– А вам никто не скажет. Трофейное – оно ничье, раз не оприходовали. Народ растащит по хатам. Или уже растащили.
– Правильно сделали, если так, – засмеялся Вельтман. – Но может, еще не успели?.. Уточнить бы, где этот склад.
– Мертвое дело, – махнул рукой Анциферов. – Тут мужики – молчуны. Кто вы им? А никто. Сегодня здесь, а завтра убыли. Так что страху у них никакого. Но мне скажут! С ними надо уметь говорить! Найду я вам этот склад. Но с условием: дайте на два дня машину. Корма свезти надо отсюда и еще из нескольких сел. На санях не развернешься. Да и пацан мой, кучер, совсем плох. Всю ночь спать не давал – кашлял, хрипел.
– Далеко возить? – спросил Вельтман.
– За день по две ходки можно сделать.
– Надо посоветоваться с начальством. – Вельтман надул языком щеку.
– Долгая история, – разочаровался Анциферов.
– Я начальство с собой вожу, вон – в кабине. – Вельтман повернулся к машине: – Нина!
Подошла шоферша.
– Слушай, Нина, тут такое дело… Надо помочь товарищам. Несколько ходок сделать, корма. Нам за это с тобой обещают склад тот самый на блюдечке поднести, – весело глядя на нее, сказал Вельтман. – Как смотришь?
– А горючее чье? – спросила Нина.
– Ладно тебе торговаться, – улыбнулся Вельтман. – Шоферская психология. – Здоровой рукой он обнял девушку, привлек к себе. Чуть подняв плечо, Нина сделала попытку отстраниться, но Гурилев подметил, что жест этот был пустой, больше похожий на игру, снизу вверх глаза ее ласково метнулись по лицу Вельтмана.
«Ужели все так просто? – подумал Гурилев. – Ведь три дня, как познакомились! Или нынешнее время все уплотняет, убыстряет, не меняя существа дела? И чувства, и поступки, и саму жизнь…»
– Тогда езжай с товарищем Анциферовым, – сказал Вельтман.
– А ты куда? – не стесняясь, на «ты» спросила она.
– Не потеряюсь, найдешь.
Она поднялась на цыпочки, что-то шепнула Вельтману на ухо, затем коротко бросила Анциферову:
– Садитесь… Скажите – куда.
Они уехали. У Вельтмана были еще какие-то дела в селе.
– Увидимся, – сказал он Гурилеву и ушел.
– Пойдем, что ли? – нетерпеливо спросил Володя, шагнул к дороге.
– Да-да. – Гурилев двинулся за ним.
* * *
– Теперь куда? – спросила Нина.
– Вправо, к лесу, – ответил Анциферов.
– Увязнем там.
– Давай, давай. По просеке. Она прямо к Бережанке выведет.
Они въехали в плотный лиственный лес. Черные деревья с жесткими промерзшими ветвями и спутанные густо кустарниковые заросли слились в одну, почти не пробиваемую взглядом стену. Лес был старый, с буреломами, валялись легкие, пустотелые, давно сгнившие ольховые и березовые стволы, обглоданные муравьями и зверьем, зараставшие с весны высоким буйным папоротником. За годы войны лес бесприглядно дичал, даже поперечные просеки, некогда делившие его на участки, вроде сузились, обжатые с боков нависшими цепкими ветвями.
Дорога шла наезженная, кое-где с глубокими заснеженными колеями, и, боясь посадить в таких местах машину, Нина норовила ехать одной стороной грузовика по бугру над колеей. Тогда машину клонило, и Анциферов тревожился: не сползут ли в кювет. Но когда привык, болтаясь от этих маневров то вправо, то влево, стал похваливать Нину и молча радовался, что пофартило раздобыть грузовик.
– А этот старший лейтенант понятливый малый. Выручил. Я в долгу не останусь, – сказал он, чтоб сделать Нине приятное.
– Конечно, понятливый. Воюет с сорок первого… Во, зараза, опять, – задергала она ручку переключения скоростей.
– Ты чего ругаешься?
– Ругаюсь? – удивилась Нина. – Да на такую машину и матюгов не жалко.
– Не к лицу. Тебе сколько лет?
– Двадцать два.
– А с ним роман у вас?
– А что такое роман?
– Ты не придуривайся. Любовь, значит.
– А что такое любовь?
– Ну вот… Наблюдал я за вами.
– И что?
– Нравится он тебе, вот что.
– Нравится, – согласилась Нина.
– А ты ему?
– И я ему.
– Давно знакомы?
– С начала войны, – соврала Нина.
– Тогда еще ничего, – согласился Анциферов.
– А если три дня как знакомы, тогда что?
– Так не бывает, чтоб за три дня – и уже любовь.
– А что бывает, если за три дня?
– Сама знаешь, как это называется.
– Я-то знаю… И знакомы мы точно три дня. Понятно? И называется это не так, как вы подумали. Я замуж выйду за него.
– Захочет?
– Захочет.
– А вдруг он уже женатый?
– Кто? Иван? Нет, не женатый.
– Может, сбрехал тебе.
– Мне?! Да я насквозь вижу человека. Во-вторых, такие, как он, не врут.
– Всякие врут, Нина, – вздохнул Анциферов.
– И вы тоже?
– И я тоже. Но только ради большой общей пользы.
– Никакой общей пользы от вранья быть не может. Потому что кому-то все равно это вранье во вред.
– Молода ты еще… Есть высшая польза, ради которой многое простить можно.
– А я бы не простила никому… Смотрите, смотрите, что это?! – вскрикнула она, быстро глянув вбок.
– Что там? – дернул головой Анциферов.
– Промелькнуло… На просеке, слева… Какие-то фигурки… В зеленом… Это немцы! – Нина притормозила.
– Какие тут немцы? Ты что!
Слева от дороги в лесную глушь уходила заброшенная просека. Анциферов притянул к себе автомат, но сколько ни всматривался в серую от легкого тумана глубину просеки, ничего не видел: мертво по бокам ее, не шелохнувшись, торчали черные ветки.
– Поехали, – сказал он. – Мерещится тебе. Откуда тут немцы? Шуганули их так, что не скоро очухаются.
– Нет, что-то зеленое промелькнуло, – настаивала Нина, отжимая сцепление.
– Может, баба какая или мужик хворост собирают.
– Так далеко? – усомнилась Нина. – Давайте вернемся, глянем на следы?
– Поехали, поехали, некогда мне забавляться, – приказал Анциферов, откинувшись спиной. И вдруг спросил: – А вы откуда знаете Антона Борисовича? Давно знакомы?
– Он с Иваном вместе в поезде ехал. В Ольховатке сели разом. А потом в моей машине до райцентра… А что?
– Да так…
Следя за дорогой, Нина теперь все чаще тревожно косила по сторонам, где шла – справа и слева – нескончаемая стена леса.
– Мы когда вернемся? – спросила Нина погодя.
– Как управимся, – неопределенно ответил Анциферов.
– А что вы там делать будете?
– Заготавливать корма.
– Откуда же теперь корма?
– Поищем – найдем, то, что надо, возьмем, – пропел рифмованную прибаутку Анциферов. – А найти надо! – уже резко сказал он.
– Вы и для армии заготавливаете? Вы же гражданский.
– Не имеет значения. И для армии, и для тыла.
– Получается, что у одних забираете, чтобы другим давать?
– Путаница у тебя в голове, милая. Ты сало ешь?
– Ем.
– Где взяла? Сама хряка вырастила?
– Выдали.
– То-то, что выдали. А тот, кто выдал, сам кабана кормил? Деревня его поставила. А город производит другое, то, чего деревня не может. Машину ты хорошо водишь, а в политэкономии – слабовата. Учиться тебе надо, а не замуж.
– Странный вы. Не пойму я вас. Иван лучше мне все объяснит.
– Кто это? Старший лейтенант твой? Пусть объяснит, если знает.
– Он все знает. Он археологом работал до войны…
Дорога пошла в гору. На макушке подъема лес внезапно кончился, и внизу, в широкой заснеженной долине, зачернели хаты села Бережанка с вялыми дымами над крышами…
* * *
Первые сани потянулись к мастерским МТС вскоре после ухода Володи. Тягла в Рубежном и ближних селах, где побывал вчера Анциферов, было мало. Делали несколько ходок, три-четыре семьи везли свое на одних санях. Сидели на них в основном бабы и подростки. Везли кто что мог: проросший картофель, отруби, кукурузу, похожие на жернова круги макухи, от которых пахло подсолнечным маслом, тюки спрессованного немецкого сена, уворованного при немцах или припрятанного после их бегства.
Гурилев спрашивал фамилии, ставил в списке крестик. Весов не нашлось, принимал он на глазок, определив себе считать картофель в мешках вкруговую – по четыре с половиной пуда. Выписывал квитанцию, тут же платил наличными. Бабы прятали деньги в тряпицы, заталкивали куда-то глубоко за пазуху, сносили мешки и макуху с саней под крышу: в углу у стены был люк с лесенкой в просторный зацементированный подвал. Там и складывали.
За тару люди справедливо хотели отдельную плату. Мешок в хозяйстве всегда ценился, а по нынешним временам – особенно. Гурилев платил. И лишь один старик, привезший два небольших мешка картофеля, требовал возвратить мешки, денег не хотел. Уговаривали и Гурилев, и односельчане: не высыпать же картошку на цемент! Уломали после того, как Гурилев накинул ему лишнюю бумажку. Слюнявя черные, плохо слушавшиеся пальцы, не привыкшие к пересчету денег, старик медленно отделял купюру от купюры.
– А они-то хоть в силе еще? – спросил он под конец Гурилева. – Ходют? – поцарапал он ногтем по пачке денег.
– Ходют, дед, ходют. Поживей тебя. А сумлеваешься – отдай мне, я им быстро ноги приделаю, – крикнула весело молодая бабенка, вынув изо рта шпильки и закалывая ими волосы.
– А чего за них купить можно? – не унимался старик, всовывая деньги в большой брезентовый карман, пришитый на извороте истрепанного овчинного полушубка. Карман застегивался на большую изящную перламутровую пуговицу, сохранившуюся бог знает с каких времен.
– Все купишь Лексеич, – шумела молодуха. – Только унести сумей. Не то вторую килу натянет.
– Ты за мою килу не переживай, Шурка. Гляди, чтоб тебе чего не натянуло, покуда Аркашка на войне, – отбивался старик.
Бабы смеялись.
– От тебя, что ли? – веселилась молодуха. – Ты, Лексеич, небось годов двадцать уже постишься.
С трудом просунув перламутровую пуговицу в петлю из белой тесьмы, старик, махнув рукой, присел на сани и полез за кисетом.
После полудня вернулся Анциферов с неполно груженной трехтонкой.
– Ну-ка, народ, помоги разгрузить, – скомандовал он, выламываясь из кабины. – Как дела у вас? – спросил Гурилева. – Сколько? Чего?.. Всего-то! – недовольно удивился, услышав ответ.
– Вы что, красный обоз ждали?!
– Ничего, я их взнуздаю! – дернул головой Анциферов.
– Нас, что ли? Меня, к примеру? – спросила молодуха. – Гляди, какой наездник!
– Ты язык втяни, – погрозился Анциферов. Он отошел к Гурилеву; и тихо спросил: – По скольку вы считаете в мешке?
– По четыре с половиной пуда.
– Да что вы, Антон Борисович! По четыре – максимум! Там больше песка и гнили, чем картофеля.
– Весов у меня нет. Но я и на глаз не ошибусь. Зачем же обсчитывать людей?
– Не получится ли, что обсчитаем государство? Меня это больше волнует. Так что – четыре! Вот вам моя установка.
– Нельзя так, Петр Федорович.
– Ответственность за все несу я. Свое несогласие вы сможете высказать потом, когда мы сделаем дело. – Он отвернулся, нервно переставляя ноги в широченных галифе…
Вытирая ветошью испачканные в машинном масле маленькие руки, подошла Нина.
– Старший лейтенант не возвращался? – спросила она Гурилева.
– Пока нет.
– А вы не знаете, где он может быть?
– Он ничего не говорил.
– Мне опять надо ехать с ним, – кивнула она на Анциферова.
– Куда же?
– В Гуртовое…
Когда машину разгрузили и колхозники уехали, Анциферов сказал:
– Полчаса передышки. Перекусим сухим пайком и поедем. Так, Нина?
– Дело ваше. – Она пошла к машине, села на подножку.
Анциферов развернул пакет с едой, отрезал ломоть хлеба, кусок серой ливерной колбасы и отнес Нине.
– Ешь, – подал он.
– Спасибо. Я не очень голодна, – но взяла.
Ели молча. И по лицу Анциферова Гурилев видел, что жует тот как-то механически, словно по необходимости, наморщив лоб, что-то прикидывал, обдумывая при этом.
Они еще не успели доесть, когда показались сани. Правила ими баба, до бровей укутанная платком. За ее спиной развалились мужик и Вельтман.
– Вот пшеничку отдаю, – сказала баба, развязывая мешок.
Анциферов запустил руку, вынул горсть зерна, подул, сметая мусор.
– Это пшеничка называется? Суржа у тебя. Ты что думаешь, слепой я?
– Тут больше пшеницы, товарищ начальник. Жита почти нет. Запишите как пшеницу. – Углом толстого платка она прикоснулась к глазам. – Запишите, а? Все ж денег поболее будет. Вдова я, ребятишки поизносились, одежа нужна.
– Всем нужна, – отрезал Анциферов. – Пишите суржа и платите как за суржу, – велел он Гурилеву.
– Но, может, здесь действительно в основном пшеница. Какие у вас основания не верить? – спросил Гурилев.
– А вы, Антон Борисович, по зернышку, по зернышку рассортируйте. Налево пшеничное, направо – ржаное… Что вы, в самом деле!
– Хорошо, – тихо ответил Гурилев. – Но этот мешок я помечу. Вернемся, я проверю в лаборатории. И если окажется, что женщина права, вам придется…
– Ничего мне не придется, Антон Борисович, – перебил Анциферов. – Какая лаборатория? Откуда? Район всего пять дней, как освобожден… А это кто такой? Муж твой? Что за сено? – повернулся он к бабе и указал на сани, где сидел мужик.
– Сосед, безлошадный он.
– Картофеля или отрубей нет у меня. – Мужик сошел с саней. – Сено бери. – Он хмуро повел глазами на тюки.
– Немецкое? – хмыкнул Анциферов.
– Оно.
– Что ж ты, трофейным хочешь отчитаться перед властью? Где взял?
– Где взял, там уж нет. Не гнить же ему. А у меня ни коня, ни другой скотины.
– Все трофейное, бесхозное и так принадлежит государству.
– Ты мне правила не читай. Хошь бери, не хошь – ей за так отдам, – указал он на бабу.
– Сгружай, – уступил вдруг Анциферов. – Засчитайте ему, Антон Борисович…
Вельтман сидел рядом с Ниной в кабине.
– Ты где был, Ваня? – соскабливая с его шинели засохшую грязь, спросила она.
– Крутился в окрестностях. Мед нужен для госпиталя.
– Наверное, голодный? Я покормлю тебя. – Она заглянула ему в глаза.
– Да нет, я перекусил… Ты как съездила?
– Съездила. Он собирается в Гуртовое.
– Надо, Нина, помочь. Его дело тоже невеселое.
– Да уж видела… Глухой он какой-то.
– Глухой?
– Себя только слышит.
– Ты у меня психолог, – засмеялся Вельтман и погладил ее шершавую, в царапинках, узкую кисть. – Пальцы у тебя красивые, смотри, форма ногтей прямо аристократическая. Маникюр бы сделать!
– Сейчас в самый раз, – грустно сказала Нина, отстранив руку и разглядывая ее. – А потом в карбюраторе копаться… Иван, мы когда ехали в Бережанку, что-то на просеке мелькнуло. Не немцы ли? Вроде ихние шинели…
– Ты просто устала… Стрельнули по вас? Нет?.. Откуда им тут взяться, в тылах?
– Не знаю… Анциферов идет. Соскучился по мне.
Вельтман отстранился, выпрямился.
– Ну что, Нина, – подошел Анциферов, – в путь-дорогу? А с тебя магарыч, старший лейтенант. Нашел я твой склад.
– Неужели?
– Плохо меня знаешь… В лесничестве, по дороге на Бережанку, Я там предупредил: если хоть грамм чего пропадет – под суд…
– А как вы узнали?
– Я еще вчера знал. Антон Борисович отдыхать изволили, а я на разведочку ходил. Хотел сегодня оприходовать, да ты подвернулся.
– Отчего ж не сказали сразу?
– Чтоб ты машину дал, чтоб интерес у тебя был.
– Вы не из купеческого сословия? – засмеялся Вельтман, выходя из машины. – Как же вы унюхали этот склад?
– Просто. Взял одного старика на хуторе за бороду: «Ты, говорят, немцам свинью свою заколол, подношения делал?» А он рот раскрыл от страху: «Было такое». Я ему и говорю: «Если не хочешь неприятностей, выкладывай, что и где немцы оставили».
– Кто же вам сообщил про свинью эту?
– Я и понятия не имел. На арапа: ведь немцы многим приказывали свинину им поставлять. Вот и весь фокус. Психологический расчет. Я всегда учитываю, что у каждого грешок какой-нибудь за душой, каждый в чем-то виноват. Совсем чистых не бывает. Один больше грешен, другой меньше. Вот на эту мозоль и жму. Учитывая, конечно, общую обстановку.
– Занятный вы индивидуум. – Вельтман с серьезным любопытством разглядывал Анциферова. – Значит, и на вас таким способом давить можно при необходимости?
– Наверное. И я не святой, – по-деловому согласился Анциферов. – Ладно, пора мне…
* * *
Холодный мартовский день, убывая, менялся: небо стало ниже, как бы разделилось – прополоскалось светлым на западе, тенью затянулось на востоке. Анциферов и Нина давно уехали в Гуртовое.
Прихрамывая сильнее обычного, чувствуя, что натер валенком ногу в подъеме, Гурилев присел на валявшуюся балку. Вельтман, томясь, ходил по разрушенному зданию мастерских, цепляя ведра с примерзшими остатками извести, пустые добротные ящики с немецкой маркировкой. Звук его безразлично громыхавших шагов раздражал Гурилева. Он понимал, что Вельтман меньше всего повинен в его дурном настроении… Не совершил ли он, Гурилев, ошибку, согласившись на эту поездку и вообще затеяв переезд из Джанталыка на Украину? Может, проще было досидеть в Средней Азии до конца войны, а потом уже, более осмотрительно, искать возможность перебраться в родные места? Получилось же вовсе нелепо, далеко от того, на что рассчитывал.
После ухода Сережи в армию, оставшись одни, они с женой стали подумывать о возвращении из эвакуации. Судили-рядили, и Гурилев по совету жены написал в Москву в наркомат старому приятелю Шарыгину, что хотел бы вернуться в освобожденный осенью Донбасс. Написал, почти не надеясь на ответ: не переписывались они прежде. Жив ли Шарыгин? Не на войне ли? Затея отозвалась спустя пять месяцев телеграммой из Киева, приглашавшей приехать для переговоров о трудоустройстве в системе потребкооперации. Рассудили с женой, что он едет, устроится на работу, решит вопрос с жильем, а там и ей вышлет вызов.
В освобожденном три месяца назад Киеве ему сказали: «Люди нам очень нужны. Куда бы вы хотели?» Гурилев хотел, конечно, в Сталино, но ему уклончиво сказали: «Мы имели в виду другое. Вот, выбирайте, есть три города. Все одинаково пострадали. С жильем, сами понимаете… Но надеемся, жизнь наладится… В каждом из этих городов нам нужны бухгалтера».
Он выбрал старый город, бывал в нем до войны, помнил невысокие, по-южному побеленные дома за палисадниками, красивый парк, плотно мощенные улицы с акациями, на окраине большое озеро с деревянными купальнями.
«Езжайте, мы сообщим туда о вас. Явитесь в облисполком к товарищу Калиниченко», – сказали ему.
Из Киева он добирался шесть суток. Приехав, был потрясен разрушениями. Товарищ Калиниченко оказался женщиной. Немолодая, в расстегнутой телогрейке, она сидела спиной к растрескавшейся голландской печи; из-за плохой тяги из щелей просачивался дымок, стоял горьковатый чад, хотя вьюшка была открыта полностью. Посмотрев бумаги Гурилева, Калиниченко смущенно сказала: «Вы уж извините, произошло недоразумение. Пока вы к нам добирались, вернулся наш прежний главбух. Из госпиталя, без ноги… Но вы не волнуйтесь, вы нам очень нужны, найдем хорошее место, сейчас вакансий много», – вздохнула она. «Что же мне делать?» – стараясь скрыть растерянность, спросил Гурилев. «Вы смогли бы нам помочь. Вчера полностью освобождена наша область. А сегодня уже пришла телеграмма, что к нам перегоняют с востока большое количество скота. У нас ведь раньше было сильное животноводство… Срочно нужны корма – весна. Особенно плохо у нас с кадрами в Бортняково. Это самый дальний район. В прифронтовой полосе. В райисполкоме там есть товарищ Маринич. Помогите ему… Самим им там не осилить. Учет, финансовые операции, расчеты с населением. Очень прошу вас… Временно, конечно. К вашему возвращению подыщем подходящую службу, что-нибудь с жильем придумаем… У вас семья большая?» – «Я и жена», – ответил Гурилев, обескураженный таким поворотом. И тут же суеверно встревожился, что не назвал в составе семьи Сережу, ушедшего в армию…
Выбора не было. Гурилев вынужденно согласился. Упоминать о своей хромоте было не к месту… Затем дал уговорить себя и в Бортнякове, согласившись поехать сюда, в Рубежное, с Анциферовым, уступив его напору, жесткой, как бы парализовавшей воле, не допускавшей никаких сомнений или обсуждений.
Глядя, как Вельтман ковыряется носком сапога в каких-то смерзшихся железках, Гурилев осознавал между тем, что исподволь возникавшие в его душе за истекшие сутки возражения и несогласие с Анциферовым натыкались всякий раз на неуязвимую правоту слов Анциферова, в которые тот облекал чуждую ему, Гурилеву, суть. И раздражала собственная беспомощность, невозможность обосновать свое несогласие, поскольку это можно было сделать лишь в обстоятельном разговоре, тогда как Анциферову на все доказательства хватало минуты и нескольких лаконичных общеупотребимых формул, бывших нынче в ходу и в большой цене…
Он не заметил, как рядом присел Вельтман, положив на колени автомат и опершись о него локтями, как о деревяшку.
– Устали? – спросил Вельтман.
– Ногу натер.
– Я где-то вычитал, что до Наполеона солдаты носили одинаковую обувь: башмаки не делились на правый и левый. То-то было удобство!
– Вы думаете?
– Конечно! Все в равном положении. А сейчас, бывает, наденет человек правый штиблет на левую ногу, мучается, но делает вид, что все в порядке.
– Вы это в каком смысле?
– Больше в переносном… Вы довольны?
– Чем? – не понял Гурилев.
– Сегодняшним днем. Успели что-то?
– В известной мере.
– Все-таки вы ищете нюансы, просто «да» или «нет» вас не устраивает? – усмехнулся Вельтман.
– А вы? – задело Гурилева.
– Война требует однозначности и императивности… Привык. А в общем все условно… Все применительно к чему-то… Вы видите вогнутое там, где кто-то видит выпуклое. В одном и том же предмете. Вот и все.
– Удобно, утешительно. Но иногда опасно… Почему вы не поехали в лесничество?
– Не на чем. Отдай жену дяде… Завтра Володя Семерикин обещал сани и кобылку достать… А чего вы ждете? Конец дня, вряд ли кто-нибудь еще привезет. Да и нечего, наверное, им везти уже…
– Анциферов должен вернуться сюда.








