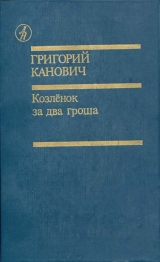
Текст книги "Козленок за два гроша"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Авнер здоровается с Эзрой, кланяется Дануте, оглядывает ее с головы до пят и усаживается за стол с Эфраимом. Усаживается и начинает (некстати) хвалить поскребыша Эзру. Какой красавец! Какой парень! И жена его – ого-го! Сразу видно – счастливая пара. Он, Авнер, счастливую пару тут же выделит, покажи ему тысячу пар. Что, что, а глаз у нищих наметанный. Дважды на монету не смотрят, в миг различают, гривенник подали или жалкий грош. Поздравляю, Эзра! Нахес (счастья) тебе!
– Мы, отец, пожалуй, пойдем.
Старик Эфраим молчит.
Авнер тараторит, как заведенный.
– Я тебя, Эзра, помню вот таким… Ты прибегал в мою бакалейную лавочку за леденцовыми петушками… Помнишь мои леденцовые петушки?
Эзра кивает головой: помню.
И от этого подаяния, от этой негаданной милостыни Авнер расцветает. Представь себе, Эзра, когда мне бывает очень плохо, а плохо мне бывает каждый день, я беру с полки такой леденцовый петушок и сосу, сосу, сосу. И жизнь кажется не такой горькой, как на самом деле, и я как бы молодею лет на сорок. Береги свою бакалейную лавку!..
– У меня нет лавки. – Эзру томит долгий разговор с нищим, но прослыть грубияном ему не хочется.
– Не говори так, Эзра. У каждого есть своя бакалейная лавочка со своим изюмом и корицей. У каждого. Даже у твоего отца. Его изюм и корица – его камни. Камни, Эзра, тоже можно сосать.
Эфраим сидит в прежней позе, умаявшийся от пляски, выпотрошенный, сумрачный, как этот вечер за окном, который поедает последние ломти зачерствевшего света.
– Чем ты, Эзра, сердце мое, занимаешься?
– Пою… пляшу…
И Эзра с Данутой уходят.
Почуяв недовольство Эфраима, Авнер после ухода счастливой парочки молчит, молчание дается ему с превеликим трудом, оно просто душит его, и, наконец, Авнер решается повторить тот же вопрос.
– Чем он занимается?
– Врет.
Эфраим не хочет обижать Авнера. Скажешь, что Эзра такой же побирушка, как он, Авнер, тот до смерти обидится. Больше никогда не придет. А кроме Авнера да Шмуле-Сендера, у Эфраима никого нет. Нищий и Шмуле-Сендер хоть обмоют его, хоть в саван завернут и, может быть, слезу уронят. На детей рассчитывать нечего. Как ни напрашивайся в медведи, в попугаи или свинки, ничего у тебя не получится.
– Вранье – не работа. Вранье – удовольствие, – перечит Розенталь.
– Эзра клянется, что за правду меньше платят и чаще бьют.
Авнер качает головой, вытаскивает из кармана краюху хлеба (он всегда приходит к Эфраиму со своим хлебом; своим хлебом он называет не тот, который сам пек, а тот, который ему подали в другом доме), переламывает ее надвое, протягивает Эфраиму; они макают хлеб в молоко и вгрызаются в размокшую корку своими искрошившимися зубами.
– Знаешь, Эфраим, о чем я вчера весь вечер в молельне думал?
Эфраиму невдомек, о чем Авнер вчера весь вечер в молельне думал. Наверно, снова о своей бакалейной лавочке, снова о пожаре, снова о своей жене, которая не вынесла позора и утопилась в Немане сразу же после того, как Авнер вышел на свой горестный, свой унизительный промысел.
– Я думал: почему нет нищих-птиц или нищих-зверей? Или нищих-деревьев?
Эфраим поворачивается к нему лицом.
– Думал, думал и придумал. – Авнер макает хлеб в козье молоко и продолжает: – В небе нищих не бывает, потому что оно все твое, от той вон тучки до этой. И лес весь твой – расти, гоняйся за добычей, пасись сколько угодно… Например, твоя коза… Она во сто крат богаче тебя. Чтобы добыть себе корм, ей камни ворочать не надо. И унижаться не надо… Вот я, Эфраим, и подумал: велика ли радость, что господь сотворил нас людьми? Сотвори он нас козами, мы были бы куда счастливей. Что из того, что козий век недолог? Лучше прожить пятнадцать лет козой, чем сорок лет нищим.
Мудрец! Право слово, мудрец! Рабби Авиэзер ему и в подметки не годится. Авнеру не по миру ходить, а советы богомольцам давать. Самые несчастные твари на земле, Авнер, это родители. Потому что никто так быстро не нищает, как они, потому что не было никого на свете богаче их, покуда дети их были малолетками и жили бок о бок с ними. Но вдруг прошумел, пронесся пожар, а время, Авнер, костер, гора огня, пронесся пожар и сожрал все, и остались ты, отец, и ты, мать, погорельцами из погорельцев, нищими из нищих, побирушками из побирушек, попрошайками из попрошаек. Живут, бедняги, и день-деньской только и делают, что побираются то доброй вестью, то дурной, то славой их детей, то их позором, то их величием, то их низостью. Побираются крохами, объедками и довольны, ибо за один стол им уже вместе никогда в жизни не сесть! Ты вот, Авнер, ничего не слышишь, макаешь себе свою корку в молоко, похрустываешь, как кролик, рассуждаешь про всякую всячину, а ничего, ничегошеньки не слышишь. Ты не слышишь, а мой слух, Авнер, точно рана, весь полыхает, кровянит от каждого скрипа там… наверху… на чердаке… на кровати моей единственной дочери Церты, познавшей не в родном доме, а где-то на чужбине, в Барановичах или Киеве, радость проснувшейся плоти, таинство проникновения семени в почву, муки набухания плода. Я прислушиваюсь, Авнер, и да простит меня господь, уподобляюсь раненому зверю. Мне хочется ворваться к ним, к сыну моему Эзре и этой Дануте, оторвать их друг от друга, опрокинуть кровать, разлучить их навсегда. Я знаю, Авнер, это гнусно, это гадко, но я схожу с ума от этого звука пружин, от этой яркости пера на шляпе, от этой снедающей меня обиды.
Куда не поспевает взгляд Эфраима, туда поспевает его мысль.
Она отчаянно и ревниво отрывает Эзру от Дануты, Данусеньки, она отменяет его ярмарочное житье, его песни и куплеты, его шутовство и скоморошество, его паясничанье и кривлянье в угоду толпе, она уводит его от соблазнов, кидает за тридевять земель, за океан в благословенную Америку к сыну водовоза Шмуле-Сендера, белому счастливому Берлу, торгующему лучшими часами в мире.
Мысль Эфраима уравнивает Эзру с теми, кто покинул родной край и – если верить письмам – нашел свое счастье. В самом деле, чем он, поскребыш Эзра, хуже Берла Лазарека? Берл Лазарек открыл в Нью-Йорке собственное дело. Часы его фирмы показывают самое точное время в мире. Говорят, белый счастливый Берл за каждую точную минуту берет по доллару. К сорока годам он, конечно, станет богачом. А Эзра? Эзра мечтает о медведе!
Скрип на чердаке затихает.
Эфраим прислушивается, пялит глаза в потолок, словно закоптившийся от невеселых мыслей, Авнер ерзает на лавке, похоже, блохи его кусают (а может, они и впрямь его одолели). Ему невдомек, почему Эфраим все время глазеет на потолок. Боится, что обвалится? Или собирается его побелить? Зачем? Ведь и под беленым потолком его мысли веселей не станут.
Авнер растягивается на лавке, подкладывает под голову правую – рабочую – руку, ту, в которой перебывало столько чужих, замусоленных монет и которая сама как бы превратилась в большую, вышедшую из употребления, монету. Авнер привык спать на твердом. Когда спишь на твердом, видишь хорошие сны.
– Помнишь, Эфраим, как ты соорудил мне каменное крылечко. У всех лавочников – деревянное, а у меня – из камня. Помнишь?
Эфраим что-то бурчит в ответ.
– Я, бывало, поднимался по каменным ступенькам не в лавку, а на само небо… Ты еще не хочешь спать? Не хочешь. Ну ладно. И я не буду. Выспимся в могиле. Говорят, там, на том свете, бог возвращает всем то, что он у них на земле отнял. Если это правда, я попрошу его, чтобы он вернул мне мою жену и мою бакалейную лавку… молодость пусть не возвращает, но бакалею пусть вернет… Ты снова соорудишь мне каменное крылечко… Только на сей раз я заплачу тебе за работу не деньгами, а изюмом и корицей.
– Зачем мне твой изюм и корица? Все равно некому печь.
– Как некому? У кого там три жены? У меня? Ты, Эфраим, бога за какую жену попросишь?
– Спи!
– За Лею.
– Ну что ты привязался?
– Конечно, за Лею. Из всех твоих жен она была самая сто́ящая. До самой своей смерти говорила мне: «Господин Розенталь». Только для твоей Леи я был господином… Только для нее.
До чего же сегодня Авнер болтлив! Мелет и мелет, словно старается заговорить его, Эфраима, тревогу. Странный человек! Пока держал свою бакалею, на всех волком смотрел, а погорел – и его как будто подменили. Страшно вымолвить, но нищенство ему на пользу пошло. Так небось никогда бы к Эфраиму не пришел ночевать. Никогда. Как там сказано у мудреца: «Те, которые спали на ложах из слоновой кости, легли в другую кровать – в сырую землю, те, которые ели лучше других, сами стали пищей для червей, те, которые носили богатую одежду, облачились в глину, кишащую червями; губы, которые шептали тайны, с которых слетали слова любви, лобызают землю. Ноги не связаны, руки не скованы, а пошевелиться человек не может».
Авнер, однако, не унимается:
– А в раю есть нищие? Как ты, Эфраим, думаешь?
– Попадем – увидим.
– Бакалейщиков там хоть пруд пруди. Только из нашего местечка трое – Капер, Гринблат, Поляков… А нищих, наверно, там и вовсе нет, чтобы вида не портили.
– Я, Авнер, сейчас не про рай, а про ад думаю.
Эфраим снова прислушивается.
Наверху ни звука.
Ни скрипа.
Мертвая тишина, какая стоит в поле после посева.
– Совсем забыл, Эфраим… у меня для тебя новость.
Авнер переворачивается на другой бок, глаза его в темноте пытаются найти Эфраима, но темнота делает его неразличимым; гладь мрака мерцает ровно и нерушимо, и Авнер тычется в него, как муха в стекло.
– Знаю.
– Ну и что?
– Что «ну и что»?
– Небось рад…
– На седьмом небе!..
– И я бы был на седьмом небе, если бы кто-нибудь и мне написал.
– Написал?
– Видто, зовет тебя к себе или домой просится.
В темноте слово звучит, как в лесу, – отчетливо и гулко, но Эфраим никак не может сообразить, кто зовет его к себе и кто собирается – даже просится – восвояси.
– Кто? – спрашивает Эфраим.
– Дочь твоя – Церта… Мне Хася-Двосе сказала. Она же тоже Дудак…
– Да, – отвечает Эфраим, все еще не понимая, о чем говорит нищий.
– Встретил почтарь Нестерович Хасю-Двосе и говорит: тебе письмо!
– Покороче, Авнер, покороче!
– Словом, ошибка вышла. Письмо не Хасе-Двосе, а тебе.
– Что ж ты до сих пор молчал?
– Совсем из головы вылетело…
Ну и денек! Одна весть за другой. И эта, из Киева, наверно, ничуть не лучше той, что пришла из Вильно.
Год, а может, больше Эфраим от дочери ничего не получал.
В последнем письме написала: жива-здорова… работает белошвейкой… внуку, Давиду, шестой годик пошел…
Эфраим прочитал то письмо и сразу же заподозрил что-то недоброе. Ни слова про этого фармазона, который сманил ее из дому, женился ли он на ней или, полакомившись, бросил. Эфраим вертел письмо в руке, разглядывал на свету, обнюхивал, стараясь учуять Цертин запах, а учуял душок беды. В том, что с Цертой беда, он нисколько не сомневался. Беда – немногословна, радость болтлива. Что с ней? Эфраим сел и тут же ей отписал ответ. Он писал его до глубокой ночи, корпя над каждой строчкой, с трудом втискивая свои мысли-камни в белый прямоугольничек бумаги, допрашивал Церту, как становой пристав, сетуя на судьбу, покаравшую его, отца, одиночеством и неутоленной родительской любовью. Он умолял Церту приехать хотя бы на могилу матери – любимицы Леи, но ответа тогда не получил и ужасно расстроился.
Если с ней, Цертой, стряслось какое-нибудь несчастье, то он и минуты не станет раздумывать, остановит первую попавшуюся телегу, выезжающую из местечка, попросит, чтобы его довезли до Киева – пусть две версты, пусть одну, только бы поближе к ней, только бы поближе.
Но вести от нее приходили редко – раз в год, – и не были они ни добрыми, ни дурными.
В том, что все – и покушение Гирша, и приход Эзры с этой Данутой, и письмо Церты – таким странным и таким роковым образом совпало и сопряглось, Эфраим видел чуть ли не предначертание свыше.
Жизнь – волчица, думал Эфраим, разодрала на части, растаскала по норам его агнцев, самое дорогое, что у него было, оставив с тенями и могилами, с безмолвными камнями, с погорельцами-нищими, с водовозами, которые либо побираются воспоминаниями, либо развозят по домам тусклую, вонючую, неизбывную старость. Перед смертью, перед тем, как он соорудит самому себе надгробие, думал Эфраим, всевышний решил послать ему последнее и самое тяжкое испытание – сделать несчастными его детей и лишить его возможности им помочь. Эфраим это понимал и вместо того, чтобы убояться, принял вызов вседержителя и затеял с ним тяжбу. Ведь в чем-то их силы были равны: бог был отцом для всех живущих, Эфраим же – для четверых; пусть малая песчинка, пусть только жалкий побег на древе жизни, но в своей любви и он был всесильный, всевидящий и всезнающий бог.
Всей своей неприкаянностью, всем своим одиночеством, которое тоже равняло его с богом, Эфраим был готов к состраданию, участию, союзу.
Если надо (надо, конечно!), он завтра же на рассвете пустится в дорогу – к Гиршу – Гиршке-Копейке в Вильно (ему труднее всего, его ждет виселица), а потом к Церте, в Киев (бросил ее этот фармазон на произвол судьбы с маленьким ребенком на руках), потом, может, с Эзрой – к сибирским охотникам за бурым таежным медведем… Лучшее надгробие родителям – их живые и счастливые дети.
И еще небо.
Небо – это надгробие для всех.
Дожить бы до утра! Скорей добраться бы до почты в Мишкине и взять у Нестеровича письмо.
Эй, Шмуле-Сендер, запрягай свою клячу!
Эй, Авнер, принимай козу! Не забудь ее в полдень подоить!
Неужели Церта и впрямь просится домой?
То-то было бы радости!
Церта напоминала Эфраиму любимицу Лею, третью его жену, – такая же проворная, такая же стройная, только крепче матери и выше. Эфраим сам подыскивал для нее женихов и, заранее завидуя им и презирая за кражу (разве муж не крадет жену у ее отца и матери?), не мог остановиться ни на одном парне и всех постепенно отваживал.
Может, потому, что он так ее берег, так холил и лелеял, бегство Церты ошеломило его.
Он-то, старый дурень, надеялся, что хоть она не бросит его, останется вместе с ним, пока он не помрет, выйдет за какого-нибудь местечкового парня замуж (больше всего ему нравился степенный лесоруб Ицик Магид), наплодит кучу детей, у него, у Эфраима, их было четверо, а у нее с этим лесорубом будет вдвое больше.
Авнер похрапывает на лавке.
Спит у себя дома и возница – Шмуле-Сендер.
Эфраим все про них знает – он даже знает их сны.

Шмуле-Сендеру снится его удачливый белый Берл, открывший в Нью-Йорке собственное дело. Берл не водит медведя, не пляшет и не поет на рыночных площадях, не валяется на чердаке с иноверками. Белый Берл ходит во сне Шмуле-Сендера в белом чесучевом костюме и в белых гамашах. Белый Берл считает белые доллары. У белого Берла – белые-белые дети.
А Авнеру – Эфраим готов поклясться! – снится его бакалейная лавочка, далекие, допожарные, допотопные времена. Ему снятся изюм и корица. Он зачерпывает изюм из мешка и сыплет себе на голову.
Себе и своим покупателям!
Ему, Эфраиму!
На лысину Шмуле-Сендера!
На рыжие кудри маленького Эзры!
На вьющиеся пейсы Гирша!
На богоугодную ермолку Шахны!
Хлещет щедрый изюмовый дождь!
Все местечко залито, засыпано, заметено изюмом!
И Шмуле-Сендер, водовоз и черный бедняк, и Гиршке-Копейка в наручниках, и Эзра, обессиленный запретной лаской, и его подруга Данута, распластавшая руки, как западню, и беглянка Церта со своим сыном Давидом, и Шахна, строгий, подтянутый, советник самого губернатора, раскрывают руки и ловят эти юркие, эти желанные, эти застывшие капли!
О, этот сладостный ливень, смывающий все дурные вести, возвращающий свободу всем узникам, воодушевляющий всех нищих! Исцеляющий всех раненых и увечных, всех истекающих кровью, даже если они губернаторы!
Лейся! Лейся!
Лейся и в мои глаза!
Старик Эфраим смыкает веки.
И сон под веками всходит, как дрожжевое тесто, начинает бродить, и бродильный звук, словно голос свирели, плывет над деревянной выщербленной лавкой, в густой и непроницаемой, как мысль, темноте.
Эфраиму снится, будто попал он на небо, будто встретили его ангелы, взяли под руки и повели к божьему престолу. Ведут, ведут, а дороге нет конца, и престола не видно, в ногах у Эфраима тяжесть, от света рябит в глазах, глаза слезятся, слезы собираются вместе, сперва в тучку, потом в огромное облако, закрывающее от взгляда землю, еще миг, и облако прольется дождем на нивы и пашни, но ангелы вытирают своими крыльями Эфраиму лицо и сметают с небосклона тучи. Вот и престол. Весь в золоте, в бархате, с дубовыми резными ножками, непокрытый, даже скатерти нет. Садись, говорят ангелы Эфраиму, отныне ты будешь богом на белом свете! Карай и милуй! Ангелы подвигают Эфраиму престол, расчесывают ему бороду, и борода становится длинной и перистой, как облако. Карай и милуй, повторяют ангелы. Эфраим садится, откидывается поудобней на дубовую спинку, завешенную парчой и шелками, взгляд его рассекает пространство, как нож пирог, и от необозримого простора отваливается маленький прямоугольник мишкинского леса, узенькая лента Немана, заросший ракитами берег и крохотная фигурка женщины… Стоит и полощет в реке белье. Бог-Эфраим вглядывается в нее и кричит: «Лея! Лея! С сегодняшнего дня ты больше не жена каменотеса, а богиня. Жене бога не подобает ни стирать белье, ни полоскать». И в ответ Эфраим слышит: «Ишь, какой умник… А кто за меня Цертины пеленки постирает… штанишки Гиршеле… А ну-ка, Эфраим, слазь! Надо дров наколоть, надо печку протопить! Хватит тебе лодырничать на небе!» Бог-Эфраим переводит взгляд с берега Немана на свой двор и видит голопузого Гирша, видит Церту, плывущую в люльке, подвешенной под потолком. Церта пищит, а бог-Эфраим качает люльку, пытается ее успокоить; ангелы глядят на него, ждут его приказаний. Особенно тот, у которого два черных крыла, как две головешки, – ангел смерти. «Я не хочу быть богом… не хочу, – говорит Эфраим. – Пустите меня, пустите». Но ангелы, особенно тот, у которого крылья, как головешки, не пускают, держат его (и откуда у ангелов такая сила?), а он вырывается, что-то им объясняет, пытается баюкать Церту, но люлька ускользает от него, и ангелы снова усаживают его на престол и снова просят: «Карай и милуй!» – «Да неохота мне никого ни карать, ни миловать. Мне надо дров наколоть и печку протопить, мне надо Церту усыпить и Гиршке одеть». И вдруг он опрокидывает престол и прямо с облака падает вниз, к мосткам, к Лее, ангелы гонятся за ним, но он летит быстрей, чем они, летит и, как бы заклиная их, приговаривает: «Лучше дрова на земле колоть, лучше печку для детей своих топить, лучше белье в реке полоскать, чем карать и миловать и быть на небе богом».
IIПроизводство следствия по делу Гирша Дудака, покушавшегося на жизнь его высокопревосходительства генерал-губернатора Северо-Западного края, было поручено жандармскому полковнику Ратмиру Павловичу Князеву, состоявшему (через жену) с пострадавшим в каком-то дальнем, но тем не менее важном в делах службы родстве.
Еще нестарый, осанистый, с безвозрастной наружностью, Ратмир Павлович слыл в столице Северо-Западного края либералом, человеком нового времени, был следователем многоопытным и хитроумным, весьма ценимым властями. Он не без основания рассчитывал на скорое продвижение по службе – перевод не то в белокаменную Москву, не то в звонкий и достославный Петербург.
Но годы шли, а желанного продвижения не было. И не потому, что Князев его не заслуживал (перевели же его из Томска в Вильно!), а потому, что в руки все время попадалась мелкая, вертлявая рыбешка, от которой, как Ратмир Павлович шутил, ни мясца, ни ухи – одна вонь.
Выстрел Гирша Дудака в генерал-губернатора возбудил в Князеве прежние честолюбивые надежды.
Как только ему сообщили о покушении, он потребовал к себе толмача следственной части Семена Ефремовича Дудакова, переводившего показания подследственных евреев, не умевших или по какой-либо причине отказывавшихся изъясняться по-русски, и, пока Дудаков поднимался с первого этажа на второй, Ратмир Павлович перелистал утренний выпуск ялового «Виленского вестника».
– Читал? – спросил Князев, когда Семен Ефремович вошел в комнату, и навел на него свои бинокли. Так не то в шутку, не то всерьез полковник называл свои цепкие, нестерпимо голубые глаза.
– Что?
У Семена Ефремовича от дурных предчувствий перехватило дыхание.
– Имя и фамилия – Гирш Дудак – тебе что-нибудь говорят? – уставился на толмача Князев, прикрыв своими тяжелыми волосатыми руками половину всех газетных новостей.
Дудаков не дрогнул.
Казалось, давно, может, год, а может, и два – ждал он этого вопроса. Брат Гирш должен был попасться. Разве могло быть иначе? Должен был попасться, и наконец попался.
Семен Ефремович вспомнил, как случайно позапрошлым летом на Русской улице в окне сапожной мастерской увидел Гирша. Они договорились встретиться, но брат вдруг бесследно исчез.
Маленький, легкий, как перышко, старик, видно, хозяин мастерской, на вопрос Семена Ефремовича, куда девался рыжий подмастерье, ответил, что этот горлопан, этот задира, этот лодырь, слава богу, ушел от него.
– Куда? – спросил Дудаков.
– Не знаю. Я его не выгонял. Но скажите, пожалуйста, Идель Гольдин похож на этого… я даже не могу выговорить это слово… на этого экспу…
– А Идель Гольдин – это, простите, кто?
– Вы еще спрашиваете? Такой солидный, такой прилично одетый господин приходит в сапожную мастерскую на Русскую улицу и не знает, кто такой Идель Гольдин. Это все равно, прошу прощения, что прийти к Николаю и спросить, кто такой Николай.
– А кто такой Николай?
– Вы только посмотрите на него! Он не знает, кто такой Николай… Это, если верить вашему братцу, наш главный экспу… я даже не могу выговорить это слово… Николай – это наш царь. А Идель Гольдин – это я.
И Идель Гольдин принялся жаловаться на Гирша – что́ это, мол, за работа, если все время смотришь по сторонам и ищешь несправедливость? Ваш братец все время смотрел по сторонам. А когда смотришь по сторонам, разве можно прибить каблук или набойку? Не спорю… Руки у него золотые. Но язык!.. Я вас спрашиваю – похож я на этого… я даже не могу выговорить это слово… на этого экспу..?
– Эксплуататора.
– Пусть будет по-вашему! Послушать вашего брата – так первый экспу… – это я, а второй – царь Николай…
– А что он, ваше высокоблагородье, натворил? – как бы очнувшись от воспоминаний и стараясь не выдать своего волнения, пробормотал озадаченный Семен Ефремович, не сомневавшийся в том, что главная неприятность – впереди. Ратмир Павлович обожал сюрпризы.
– Отвечай не по-вашему, а по-нашему: вопрос – ответ, вопрос – ответ.
И Ратмир Павлович снова уставился на своего толмача.
Это разглядывание, этот приподнято-торжественный голос, от которого веяло панихидой, этот нестерпимо голубой взгляд, прожигавший, как увеличительное стекло, не только одежду, но и кожу, это слащавое и корыстное панибратство всегда внушали Семену Ефремовичу страх и даже отвращение.
Он понимал: отрицать свое родство с Гиршем Дудаком бессмысленно. Князеву уже, наверное, все о нем известно. Ратмир Павлович просто играет с Семеном Ефремовичем в прятки.
– Имя и фамилия – Гирш Дудак – тебе что-нибудь говорят? – снисходительно повторил свой вопрос Князев.
– Ваше высокоблагородье, – твердо сказал Дудаков. – Гирш Дудак – мой сводный брат. Мы от одного отца, но от разных матерей.
Князев сидел в задумчивости и с почтительным удивлением смотрел на Семена Ефремовича. Не толмач, а клад! Никогда не соврет, не поступится своими убеждениями, ни перед кем травкой не стелется. Ратмир Павлович не ошибся, когда выскреб его из раввинского училища, за годы совместной службы не только привык к нему, но и привязался.
Имея всю жизнь дело с закоренелыми лжецами, с угодливыми лицемерами и двурушниками, сталкиваясь на каждом шагу с увертками, утайками, умолчаниями, трусливыми шепотками, полковник ценил своего толмача за смелость и правдивость в суждениях, за независимость и свободу там, где иной изгой – а Семен Ефремович в глазах Князева все-таки оставался изгоем – предпочитает поджать хвост или поднять вверх руки.
Ратмир Павлович не раз ловил себя на мысли, что, подфарти ему, он Семена Ефремовича с собой в Москву или Петербург возьмет – пора и еврейскому племени понемногу приобщаться к заботам и славе России.
– Ваше высокоблагородье! Полагаю мое дальнейшее пребывание в должности и невозможным, и нежелательным.
– Полно, Семен Ефремович! Подумаешь – сводный брат! Легко бравировать своей преданностью, когда караешь чужих. Чужие вроде бы и не люди… они без глаз, без ртов, без костей. Сворачивай им челюсти, выколачивай зубы! Другое дело – свои. Своему всегда больно. Но истинная преданность только на своих и проверяется.
– Преданность чему?
– Как чему? Отечеству.
– Да, но кроме отечества еще существует бог.
– Бог – выше, отечество ближе. Это оно нам, Семен Ефремович, жалованье платит.
– Любовь к отечеству не должна подпираться червонцами, ибо заплатить можно и за виселицу.
Высокие слова Семена Ефремовича не вязались, враждовали со скромной обстановкой князевского кабинета, с громоздким дубовым столом, за которым Ратмир Павлович сидел, нагнув голову, как в окопе.
– Ваше высокоблагородье! Вы требуете от меня того, что выше моих сил. Я не могу присутствовать на допросах своего сводного брата… Гирша Дудака.
– Но почему?
– Я не смогу быть правдивым.
– Надо, голубчик, смочь… – Князев посмотрел на Семена Ефремовича чуть ли не с обожанием.
– Понимаю, понимаю, – процедил он. – Но ты докажи, что Платон, то бишь Гирш Дудак, тебе брат, а истина дороже.
– Ваше высокоблагородье! Я не разделяю ни его истин, ни… – Семен Ефремович замолк, вдохнул всей грудью воздух и добавил, – ни ваших.
Ратмир Павлович на миг растерялся, но взял себя в руки и тем же приподнято-торжественным тоном сказал:
– Боюсь, Семен Ефремович, это единственная возможность увидеть Гирша Дудака живым… еще живым…
– Что он сделал? – спросил Семен Ефремович.
Князев пододвинул газету, разгладил ее и по-ученически прилежно, помогая себе кончиком языка и обжигая Семена Ефремовича своими нестерпимо голубыми увеличительными стеклами, принялся читать:
– Вчера у входа в цирк Мадзини неизвестный злоумышленник открыл огонь по генерал-губернатору, прибывшему на гала-представление вместе с супругой и детьми. Преступник выпустил две пули, из коих одна угодила его высокопревосходительству в ногу, другая – в руку. После короткого сопротивления покушавшийся был задержан и доставлен в Виленскую политическую тюрьму. При задержании террорист назвал себя Гиршем Дудаком, сыном каменотеса Эфраима Дудака, уроженцем Россиенского уезда, местечка…
И он, Шахна Дудак – или, как его теперь величали, Семен Ефремович Дудаков – был сыном каменотеса Эфраима, только от первой его жены Гинде. Когда-то юный Шахна мечтал поступить в виленское раввинское училище поступил туда и, наверное, стал бы вероучителем, пастырем, если бы не странное стечение обстоятельств, перевернувших всю его прежнюю жизнь и сделавших его собеседником не пророков, а жандармского полковника Ратмира Павловича Князева.
Еще там, в Мишкине, в местечке на берегу Немана Шахна обратил на себя внимание своими недюжинными способностями, особенно по части языков. Он лучше всех своих одногодков – и не только одногодков! – говорил по-русски, самостоятельно изучал литовский и польский, интересовался даже чопорной латынью. Однажды мачеха поймала его на паперти костела, надрала неслуху уши: мол, языки языками, но зачем в чужой храм повадился? Двойре всплескивала руками и на все местечко орала: «Горе мне! Горе! Выкреста вскормила! Выкреста!» Но Шахна и не думал креститься, просто обожал слушать, как престарелый ксендз Рымович, размахивая кадилом, зычным голосом превозносил Христа: «Лаудатур Езус Кристус! Лаудатур Езус Кристус!»
Особенно Шахна преуспел в древнееврейском и русском. Русский, считал он, язык сильных и несметных числом, а жить с сильными и не понимать их – вздор, пагубный, непростительный вздор.
Уже в хедере он знал больше, чем его учитель, глуповатый, но добродушный меламед Лейзер.
Меламед Лейзер первым и выпорол Шахну за то, что тот знал больше других.
– Чтоб не зазнавался!
Хрясь розгой.
– Чтобы уважал старших!
Хрясь розгой.
– Чтобы не был образцом для других, ибо нет образца выше господа!
Хрясь, хрясь, хрясь.
Шахна все время мечтал выпороть меламеда Лейзера своими знаниями и однажды, приехав на побывку в местечко, вызвал старика на спор.
Проходил спор в молельне.
Вопросы задавали столпившиеся у амвона богомольцы, а меламед Лейзер и Шахна отвечали.
– Что такое солнце? – спросил синагогальный староста Зусман Кравец.
Почесывая свою пегую бородку, покрывавшую, как дикорастущее растение, его бледное лицо, меламед Лейзер, ничтоже сумняшеся, сказал:
– Солнце – это печь господа.
– А ты, Шахна, что скажешь? – обратился к юнцу Зусман.
– Если солнце – это печь господа, то почему он летом топит ее жарче, чем зимой?
Богомольцы с восторгом внимали юному Давиду, одолевавшему Голиафа.
– Все очень просто, – не растерялся Лейзер. – Летом дрова суше и подвозить их легче.
В молельне рассмеялись.
– Солнце, ребе, топят не дровами. Солнце – это огненный шар, светило. Вокруг него земля вертится.
– Как же она, умная ты голова, вертится, если я стою на месте. И водовоз Шмуле-Сендер стоит на месте. И Авнер. И почтенный Зусман Кравец. И твой отец каменотес Эфраим… И исправник Нуйкин. Исправник не позволит, чтобы им зря вертели.
– Только глупость стоит на месте. Стоит и пытается загородить солнце, – сказал Шахна.
Он томился в местечке, тяжело переживал невежество своих близких, клялся достичь когда-нибудь славы и озарить темноту.
В Вильно Шахна попал не сразу. Отец Эфраим устроил его в Вилькию, в торговый дом Маркуса Фрадкина письмоводителем. Он, Эфраим, когда-то из чистого мрамора надгробие отцу Фрадкина – Тевье Фрадкину соорудил. Памятник Тевье Фрадкину был кладбищенским солнцем, вокруг которого вертелись все остальные могильные камни.
Маркус Фрадкин взял Шахну в свою контору, поскольку юноша обладал редким по красоте и ясности почерком (таким почерком переписывались древние священные свитки!). Переписывал, правда, юный Дудак не священные тексты, не танах и не талмуд, а купеческие бумаги, корпел над ними с утра до позднего вечера. Не чурался он и черной работы – мог наколоть и сложить на зиму дров, запрячь в бричку лошадь, заменить кучера. В свободное время Шахна прирабатывал тем, что писал прошения и жалобы исправнику Нуйкину, становому приставу, ходатайства на высочайшее имя в Петербург. Сердце у него замирало, когда он выводил на листе: «Ваше императорское величество! Осмеливаюсь нижайше и всепокорнейше просить…»
Обычно он прочитывал эти прошения вслух и на миг перевоплощался в царского сановника, министра двора, стоящего с ходатайством какого-нибудь Файнштенна или Вайнштейна перед троном, а иногда – господи, какое кощунство! – в самого императора.








