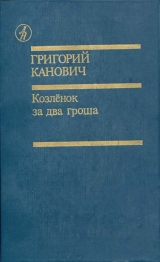
Текст книги "Козленок за два гроша"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Убили! Евреи, убили!
Поначалу все на базаре подумали, будто евреи совершили какое-то тяжкое преступление, окружили бочку, с которой разглагольствовал Шмуле-Сендер, стащили его с нее и чуть в клочья не разорвали. К счастью водовоза и еврейской общины, выяснилось, что убили царя-батюшку, того самого, что крестьянам свободу даровал.
В отличие от Эфраима, Шмуле-Сендер без слов не мог и минуты обойтись. Слова были его пищей. Он набрасывался на них, как голодный воробей на хлебные крохи. Порой казалось, что только ими, словами, Шмуле-Сендер и сыт. Он мог безостановочно говорить круглые сутки.
Что-то явно скрывая от Эфраима, Шмуле-Сендер снова принимается нахваливать графский камень:
– Пух лебяжий, а не камень… Чтобы мне под таким лежать… Легкий, красивый, с прозеленью… Только из-за него стоит сойти в могилу!
Словолей! Говорун! А все потому, что воду возит. Воду возить – не ремесло. Воду возить каждый умеет. А то, что умеет каждый, не работа, а развлечение. Он, Эфраим, хоть завтра, хоть сейчас – дай ему только лошадь и телегу – нальет бочку воды и развезет по домам. А вот Шмуле-Сендер надорвется, если вздумает камни ворочать.
В местечке дивились их дружбе – до того они были разные. Эфраим – молчун, увалень, ломовая лошадь, Шмуле-Сендер – словоблуд, хиляк, попрыгун. Однако дружили они с детства, с хедера, где их сек яростный меламед Гершен, который иногда, обленясь, доверял их зады и своей жене Малке. Ясное дело, кого вместе секут, те друг за друга всю жизнь держатся.
Эфраим не давал Шмуле-Сендера в обиду, приходил в ярость, когда над водовозом посмеивались, обожал слушать его побасенки о царе, которого он якобы своими глазами видел. «Как тебя вижу. Вышел из леса, в правой руке – подстреленный заяц, в левой – винтовка с золотым стволом!», о других странах и народах, например об Африке («Они там все черные и круглый год ходят в чем мать родила!»), об Америке («Там есть евреи-губернаторы! Чтоб я так жил! Если бы мой Береле не занялся бы там торговлей часами, и он бы стал губернатором!»). Эфраим никогда не принимал на веру его небылицы, но без них скучал и тянулся к Шмуле-Сендеру больше, чем к нищему Авнеру, с которым тоже издавна водил дружбу.
Шмуле-Сендер Эфраиму и Двойре, вторую жену, сосватал. Пришел однажды и выпалил:
– Есть у меня для тебя, Эфраим, невеста! Уж эта точно не умрет. Потому что все время околачивается на кладбище и оплакивает других. Зовут ее Двойре-Дада. Дада – прозвище. Она никогда не говорит «нет!», а только «йе-йе» – «да-да».
Что за наваждение? После того как стукнуло ему восемьдесят, все его жены начали ему сниться то в отдельности, то вместе. На прошлой неделе он видел такой сон:
приходит Гинде, первая его жена, ложится в постель, требует, чтобы и он, Эфраим, лег;
только лег – стук в дверь;
слезает с кровати, открывает, а там Двойре, вторая его жена, та, которую Шмуле-Сендер ему сосватал;
и она – в постель;
Двойре-Дада – справа, Гинде – слева;
и ждут;
а он не шелохнется – застыл на пороге, в одной сорочке, чешет голую грудь;
снова стук;
Лея!

И тут Эфраим проснулся.
Стыд и срам видеть такие сны. Да еще в его возрасте. Но жены словно сговорились – приходят в его сновидения, как покупатели в лавку, пялят друг на дружку глаза, делят его на три части, как воловью тушу:
Гинде, первой его жене, – руки.
Двойре-Дада – ноги.
Любимице Лее – грудь.
Тьфу!
Во сне они все молодые, а он – старый. Чего старому покоя не дают?
Эфраим сидит в молельне и вспоминает всех своих жен.
Двойре-Дада была хорошей женой, но занудой и скупой, как все старые девы. Но ни ее занудство, ни ее скупость так не донимали Эфраима, как это ее вечное «да-да!».
Хоть уши затыкай! Со всех сторон на голову бедного Эфраима обрушивалось «да-да», «да-да», «да-да». Словечко жены подстерегало Эфраима в каждом углу, в чулане, на чердаке, часы с тяжелым маятником тикали: «да-да, да-да», птицы на ветвях выводили: «да-да», половицы поскрипывали: «да-да». Паршивая присказка заменяла Двойре все глаголы и существительные.
Иногда и в постели до слуха обессиленного Эфраима ни с того ни с сего долетало:
– Да-да… Да-да…
То ли как просьба, то ли как укор.
Поначалу Эфраим проклинал тот день, когда поддался на уговоры своего друга Шмуле-Сендера и обвенчался с Двойре, хотя и признавал все ее достоинства (и немалые!). Она была удивительно чистоплотна, бережлива, предана до судорог, любила пасынка Шахну – первенца Эфраима, любила как своего родного сына, ничего не жалела для него, не делала различия между ним, сыном Гинде, и Гиршем, их общим с Эфраимом чадом, целыми днями Двойре не бывала дома, кого-то обмывала, оплакивала, пропадала на кладбище, ухаживала за всеми могилами, даже за теми, которые давным-давно мхом обросли, не пропускала ни одной похоронной процессии, всегда шла впереди вместе с родственниками покойника или покойницы, поддерживала их под руку, шептала свое непостижимое «да-да», обязательно заглядывала в яму и, примеряя ее к себе, искренне и громко причитала (слез у нее было больше, чем у любой другой местечковой бабы), потом возвращалась домой и на все вопросы домочадцев, начиная с материи, из которой сшит был саван, и кончая числом скорбящих, отвечала:
– Да-да… Да-да…
И свою смерть, как считал Эфраим, Двойре привела оттуда, с кладбища.
Ходила, ходила и привадила.
– Ты ее еще к Гиршу и Шахне приведешь, – разозлился однажды Эфраим.
А она взяла и ответила:
– Да-да… да-да…
Смертельно больная, она лежала в постели, отказываясь от пищи, не подпуская ни на шаг Эфраима, а Шахну и Гирша дребезжащим голосом гнала от себя, как будто они и впрямь могли заразиться смертью.
– Не приближайтесь! Не смейте!
Чувствуя свою вину перед ней, Эфраим изредка подходил к кровати, на которой она угасала, хватал ее, эту кровать, своими могучими ручищами, выносил во двор, ставил под дикую грушу, и тогда солнце золотило пепельно-серые волосы Двойре, и волосы вспыхивали, как пучок соломы, а Эфраим стоял в изголовье, держась за дубовую спинку, смотрел на спокойное, умиротворенное лицо жены, на котором земляничкой розовела родинка. Эфраиму непонятно почему хотелось ее сорвать, и от этого желания душу захлестывали не безропотная печаль, не дряблая жалость, которую обычно испытываешь при виде умирающего, а какой-то глухой рокот.
Раньше Эфраим никогда так не роптал на небеса. Раньше он покорно соглашался с кознями смерти-разлучницы. А тут не выдержал – взял и возроптал, не стесняясь и не боясь.
– Пошла вон, – сказал он.
– Пошла вон! – повторил он.
Двойре-Дада зашевелилась.
– Собака?
В доме собаки никогда не держали.
– Собака, – машинально ответил Эфраим.
И вдруг его осенило. Он даже съежился от догадки.
Смерть – бешеная собака, наделенная божественней властью. Бог через ее укусы испытывает нашу душу и пашу любовь к нему.
Доколе же ты, собака, будешь пытать меня, гудело у него в груди.
Доколе?
Тут, во дворе, под дикой душистой грушей, в изголовье умирающей Двойре, его второй жены, Эфраим внятно слышал, как обыденно, по-домашнему лает бешеная собака, которую нельзя прогнать со двора.
– Я могу взяться и за твоих детей… и за тебя, – слышалось ему в ее хриплом лае.
За себя Эфраим не боялся. Пусть берется за него, пусть вгрызается в него своими клыками. Но Шахну и Гирша, детей его, пусть не трогает.
– Чур их!
– Чур!
– Укуси меня! Меня-меня-меня!
Двойре о чем-то попросила, он склонился над ней, и рокот в его груди прекратился, лай замолк.
– Эфраим… скажи… только правду… ты меня да-да?
– Да-да.
– Ты меня… не забудешь… да-да?
– Да-да…
– И я тебя, Эфраим… да-да… – застонала и выдохнула, – очень… да-да… очень.
Нашла время объясняться в любви. Главное теперь любить не мужа, а его, чтобы он свою бешеную собаку на Шахну и на Гирша не науськал.
– Эфраим… А ты знаешь, почему я ходила на все похороны?..
– Да-да… то есть нет…
– Отец мой говорил: человек жив до тех пор, пока других хоронит… Неправда… На свете все неправда. Даже правда… да-да… Зачем она нам, эта правда, Эфраим, если надо умирать?
Что за чертовщина, думает Эфраим. Мелькают перед глазами, сменяют друг друга, снятся… жены… дети… и все это с недавних пор… с прошлого лета, когда ему стукнуло восемьдесят.
С тех пор он, Эфраим, как бы живет в разных временах – в настоящем, прошлом и будущем, переносится из одного времени в другое, переходит, как из комнаты в комнату, как из леса – в поле, как с поля на большак; времена путаются, большак врезается в поле, поле подступает к лесу; времена наплывают, сливаются, как облака, несутся вместе, и от их слияния, от их соприкосновения, от их столкновения грохочет гром, сверкают молнии, и на перекрестье между молниями живет человек, и, если ему невмоготу в одном времени, в детстве ли, в юности ли, в зрелом ли возрасте, он может переноситься в старость; старость всегда открыта, как богадельня. Всегда.
Только не по душе Эфраиму ни одно из времен, ни прошлое, ни настоящее, ни будущее, а четвертого времени нет, всевышний его не придумал или прячет его от смертных, чтобы они не осквернили его, не запоганили, не растратили попусту.
Старик Эфраим вздыхает, поворачивается к Шмуле-Сендеру (тот тоже ни для какого времени не годится), ждет, когда водовоз попотчует его новостью, которую пока держит, как голубя за пазухой. Эфраим готов биться об заклад, что это дурная весть. Добрые вести о счастливом белом Берле, торгующем в Нью-Йорке самыми лучшими в мире часами, или об окончании погрома в Гомеле или Меджибоже выпархивают из-за пазухи сами. А дурную весть надо сперва остудить, чтобы она своими горящими искрами сердце не выжгла, глаза не ослепила бы.
Что стряслось?
Царя убили?
Новая война с турками?
Персы полезли?
Японцы?
Чума в уезде?
Это, конечно, дурные вести, плоше и не придумаешь, но не для него, Эфраима, – царя он не заменит, в войско его не возьмут, персов и японцев он не остановит, чумы не боится, нет на свете чумы страшней, чем старость.
Погром?
Но Шмуле-Сендер о погромах рассказывает в первую очередь – раньше, чем о цареубийствах. Погромы могут с юга докатиться и сюда, до Литвы, до Мишкине, их родного местечка. Евреи о погромах должны знать заранее, чтобы к ним загодя приготовиться.
Сколько раз Шмуле-Сендер, нищий Авнер и Эфраим сражались здесь, за печкой синагоги, с захватчиками-персами, наглецами-турками, погромщиками, сколько раз косили врагов израилевых и государевых самым разящим своим оружием – храброй еврейской мыслью.
Может, Эфраим зря переполошился. Может, никаких вестей за пазухой у Шмуле-Сендера нет.
Да нет, водовоз что-то знает.
Знает.
По всему видно.
Камень графа Завадского – это только для отвода глаз. Эфраим сердцем чует. Оно его еще ни разу не подводило. По его ударам, как по буквам, Эфраим прочитывает то, что случается в других местах – в Киеве, в Вильно, в Минске.
Сейчас сердце что-то про детей подсказывает. Только Эфраим не может взять в толк, про кого именно – четверо их, слава богу, у него: Шахна, Гирш, поскребыш Эзра и Церта.
Он прислушивается к своему сердцебиению и, глядя на Шмуле-Сендера, шепчет имя своего среднего сына Гирша.
Что-то с Гиршем стряслось?
Эфраим не сомневается: первым в беду попадет Гирш. У Церты тоже беда. Но с той бедой, которая постигнет Гирша, ее беду не сравнишь.
Уж больно Гирш строптив, уж больно зол на весь белый свет.
Эфраим предлагал ему в каменотесы пойти: вечное ремесло и для здоровья полезное и платят сносно. Куда там!
– Не буду весь век на коленях ползать, как ты, – отрезал Гирш.
На коленях ползать! Да разве он, Эфраим, ползает? Он работает. В конце концов, чтобы честно копейку заработать, не грех и поползать. Грех – перед господином, перед купцом или подрядчиком ползать. А перед работой? Дай ему, Эфраиму, только бог еще годков десять перед ней поползать!
Хотел Гирша взять в ученики и Аншл Берштанский, парикмахер, и снова Гирш ощетинился, как еж:
– Брадобреем – никогда! К чужим болячкам и перхоти прикасаться! Лучше подохну с голоду.
И то ему нехорошо, и это.
Наконец решил в город податься, в Вильно.
Как и братья.
Как и сестра.
Эфраим умолял Гирша, чтобы разыскал в Вильно Шахну, старшего брата своего, тот, по слухам, большой там начальник, «ученый еврей при губернаторе», как уверяет всезнайка Шмуле-Сендер. Важно не при ком, а важно, что ученый.
– Он тебе и с жильем, и с работой поможет, – сказал Гиршу Эфраим.
Но средний сын и слушать про помощь не хотел.
– Не брат он мне. Не брат.
Как же так – не брат?
Отец ведь у них один – он, Эфраим. И росли вместе, сироты. Шахна его, Гирша, и ходить научил. Бывало, возьмет за руки и водит по дому, по двору, по мостовой. Водит и приговаривает:
– Мы с тобой всю землю обойдем. Только не падай.
Может, он его и в Вильно за руки возьмет и не даст упасть?
Что-то стряслось с Гиршем.
Или с Цертой. Давно от нее из Киева писем нет.
С Шахной ничего дурного случиться не может. Шахна живет, не тужит, посылает ему, Эфраиму, каждый месяц деньги. Видно, губернатор ценит его, иначе такое жалованье не платил бы.
И Эзра, поскребыш, здоров, птица перелетная, бродяга.
Пока Эфраим думает о своих детях, в молельню входит местечковый нищий Авнер Розенталь.
Авнер здоровается с Эфраимом, кивает Шмуле-Сендеру, садится напротив ковчега завета и, позевывая, начинает читать молитву.
Эфраим завидует Розенталю. Авнер на своем веку повидал не одну молельню, не одно местечко, не один город. Где только не бывал, в какие двери не стучался!
Чтобы приглушить свою тревогу за Гирша, Эфраим поддевает крючком своей мысли Авнера.
Хорошо ему – ни жены, ни детей. Детей у него никогда не было, а жена его утопилась. Не вынесла, как он говорит, позора, не захотела быть нищенкой.
Авнер долго стоял на берегу Немана и тыкал своим нищенским посохом в воду.
Тыкал и плакал.
И звал ее.
Плакал весь день. И всю ночь.
С тех пор чужие жены полощут белье в слезах Авнера.
– У человека два Немана слез. В каждом глазу по одному. Куда, Эфраим, впадают паши слезы?
Эфраим не знает, куда впадают наши слезы и зачем нужны нищие.
Все ответы плохи. Шмуле-Сендер считает, что попрошайки нужны, чтобы у счастливых не зачерствели сердца. Затем, чтобы счастливцы не забывали: кто-то в любую минуту может постучаться в их дверь и стуком разбудить от спячки их совесть.
Когда Авнер умрет, Эфраим сделает ему надгробье. Если переживет его, конечно.
Эфраим высечет на могильном камне посох и слезу.
Шмуле-Сендер продолжает расписывать прелести графского камня, но Эфраим его не слушает. Он таращится на Розенталя, как будто видит его впервые, потом, вздохнув, поворачивается к Шмуле-Сендеру и говорит:
– Это все твои новости?
Теперь за Шмуле-Сендером очередь вздыхать. Ну что за настырный старик, этот Эфраим? Как это он унюхал, учуял, что у него, у Шмуле-Сендера, есть еще одна каменная, еще одна могильная весть. Если бы не этот Эфраимов взгляд, который, похоже, булыжник дробит и сквозь толщу земли проникает, Шмуле-Сендер и дальше распространялся бы о графе Завадском и его владениях. Не может же Шмуле-Сендер просто так, с бухты-барахты, рассказать Эфраиму эту страшную, эту препечальную, эту воистину могильную новость. А вдруг враки? Ведь он, Шмуле-Сендер, там, у этого цирка, не был, «Виленский вестник» не читал (из всех языков на свете он знает только еврейский и солдатский русский), ему о покушении на генерал-губернатора поведал Шмерл-Ицик, дальний родственник Фейги; Шмерл-Ицик приторговывает зерном, человек грамотный, дотошный, в Вильно бывает чаще, чем дома. Так вот, Шмуле-Сендеру эту страшную, эту неслыханную новость рассказал он. А правда это или враки, проверить невозможно, поскольку Шмуле-Сендер в жандармерии не служит, из Вильно газет не выписывает, дальше Россиен никогда в жизни не забирался.
Хм! «И это все твои новости?» Другое дело, если бы Шмуле-Сендер там был, стоял рядом с генерал-губернатором или с преступником, если бы хоть в газете своими глазами прочитал: так, мол, и так, Гирш Дудак… сын каменотеса Эфраима Дудака… вчера у входа в цирк ранил генерал-губернатора… А теперь – из чужих уст! Расскажешь Эфраиму, а потом отвечай за свое вранье.
Вдруг и Гирш – не Гирш, а если и Гирш, то не Дудак вовсе, а если Дудак, то не из Литвы, а из Белоруссии, Мало ли Дудаков на белом свете.
Дудаков столько же, сколько их, Лазареков.
С другой стороны, и смолчать неловко.
Что, если этот преступник Гирш Дудак и впрямь родной сын Эфраима? Гирш-Копейка!
Шмуле-Сендер боится, как бы Эфраим от такой новости замертво не упал. Услышит и рухнет на пол синагоги.
В молельне, конечно, умереть – великая честь, но лучше не удостаиваться ее. Но Эфраим и вранья не простит. И будет прав. В самом деле: узнай он вовремя, и на суд успеет, и на похороны, не про нас да будет сказано. В Вильно у Эфраима живет его старший сын Шахна, глядишь, замолвит за Гирша словечко.
И говорить – плохо, и смолчать – плохо. Что за проклятая жизнь? Мог же этот грамотей, этот проныра, этот родственник Фейги Шмерл-Ицик, зерноед, не останавливаться в их местечке. Мог спокойно проехать, промчаться на своей пролетке мимо. Как минуют местечко добрые вести, так могли бы обходить его стороной и дурные.
Шмуле-Сендер жует свои мысли, как корова жвачку, морщит маленький лоб, ни с того ни с сего сдувает с молитвенника пыль, этот звук привлекает внимание нищего, Авнер оборачивается, смотрит на каменотеса, на его могучие плечи, руки, сложенные тележным колесом, и спрашивает:
– Ты когда-нибудь умрешь, Эфраим?
– Нет, – говорит каменотес и смеется.
– Почему?
– Я заплатил ей на сто лет вперед.
– Кому?
– Смерти, – говорит Эфраим, – Кто ей аккуратно платит, того она не трогает.
Шмуле-Сендер вздрагивает, закрывает молитвенник и, не дав вспыхнуть раздору, начинает успокаивать Авнера, убеждает, что придет время, и все умрут, господь бог никого не забудет, ибо чего-чего, а смерти – не добра, не богатства – у него полным-полно, смерти хватит на всех: и на должников, и на кредиторов.
– Я хотел бы умереть с тобой в один день, – гундосит Розенталь.
Что за муха его укусила?
– На том свете, Эфраим, мы снова станем молодыми. Ты научишь меня дороги мостить, а я тебя на всякий случай – побираться.
Уши у Шмуле-Сендера от таких разговоров вянут. Подсказал бы Авнер – все-таки бывший бакалейщик! – как Эфраиму эту дурную весть сообщить. Да что с него, с побирушки, взять? Он и на том свете будет просить милостыню, он и там не поумнеет. У него, у Шмуле-Сендера, у самого пять-шесть извилин, не больше. Господь бог недодал ему, да будет благословенно его имя в веках. Ничего не поделаешь. Не одни же умники нужны. Если всевышний создал водовозов, то разве они не такое же любимое его творение, как лавочники и ростовщики? И водовозов надо любить и уважать, все ж таки божьи твари.
Так рассуждая, Шмуле-Сендер поднимается с замусоленной синагогальной лавки, потягивается, разминает руки, бросает прощальный взгляд на лиловых львов, застывших на ковчеге завета, на Авнера Розенталя, шепчущего молитву, и выходит во двор.
За ним плетется и Эфраим.
Воздух чист и свеж. И нет на свете ничего слаще – до того он пахуч и прозрачен. Может, только в запорошенной снегами забвения молодости, в незапамятные, не заметенные печалью времена Эфраиму дышалось так легко и жадно. Из всех лакомств в жизни у него, как и у Шмуле-Сендера, осталось только одно – этот воздух, который пьянит, как шелест женского платья перед тем, как входишь в виноградник и срываешь первую гроздь. Вот, вот, воздух – это виноградник старцев, только без гроздьев, без лозы, но зато с бесплатными и бесплодными облаками, среди которых уже невозможно различить, где облако-женщина и где облако-мужчина.
Хорошо и вместе с тем тревожно. Эфраим не может взять в толк, откуда она взялась, эта тревога, из какой щели выползла, из какого закутка вылезла.
Тревожно на душе и у Шмуле-Сендера.
В такую погоду друг другу только бы что-то ласковое говорить, только бы добрые вести рассказывать, только бы вздыхать о минувших временах и не думать о будущих. Не им, старикам, это будущее принадлежит, не им, каким бы достославным оно ни было. Для кого, для кого, а для них что прошлое, что будущее – один черт. Разве прошлое-детство было сытней и счастливей, чем будущее-юность? Разве прошлое-юность подарило им больше светлых дней, чем будущее-зрелость? Как жили в бедности, так и живут. Как проклинали свою жизнь, так и проклинают. Потому-то ему, Шмуле-Сендеру, не хочется печалить своего друга. Печали и так достаточно. Печали никогда не бывает мало. Может, подождать с рассказом? Может, в местечко забредет скоморох Эзра. Придет и все поведает отцу. Он-то, Эзра, газеты почитывает. Он-то точно знает, какой Дудак стрелял в генерал-губернатора, взяли ли брата Гирша под стражу или нет.
Когда сын приносит отцу дурную весть, старому ее и перенести легче. Шмуле-Сендер по себе знает. Прошлым летом приехала из Олиты жена брата Брайне и вместо «здравствуйте» сказала сквозь слезы: «Шмуле-Сендер… брат ваш… муж мой Калман умер». Конечно, лучше, когда дурную весть сообщает родственник. Но Эзра в местечко что-то носу не кажет. В последний приезд повздорил с отцом, Эфраим чуть его не выгнал – не из-за шуток-прибауток Эзры, не из-за его вечных кочевий, а из-за девок.
– Ты чего их сюда возишь? – озлился Эфраим. – Дом отца – не дом терпимости.
– Может, и тебе какую-нибудь шатеночку привезти? – пошутил Эзра. – Ты еще, наверно, можешь…
Эфраим набросился на сына с кулаками. Спасибо Авнеру Розенталю – развел их.
Как же быть, думает Шмуле-Сендер.
Как сделать так, пощипывает он пейсы, как бы сделать так, чтобы, с одной стороны, сказать Эфраиму, а с другой стороны, ничего не сказать. Сказать и не сказать в одно и то же время.
Шмуле-Сендер воздевает очи к небу, к постоянному своему советчику, и постоянный его советчик, покровитель всех сотворенных им водовозов, подсказывает ему выход.
Шмуле-Сендер кивает легкой и гладкой, как куриное яйцо, головой, заглатывает для смелости упругий ком воздуха и, благословясь, начинает:
– Эфраим! Что бы ты, скажи на милость, сказал, если бы в один прекрасный день… ну такой, как сегодня… пришел бы я к тебе и рассказал, что в Вильно… ты только слушай, слушай!.. что в Вильно губернатора – чик!
И Шмуле-Сендер выстрелил пальцем себе в кадык.
– Я бы сказал: врешь, Шмуле-Сендер.
– А если бы тебе рассказал не я… другой… корчмарь Ешуа или лавочник Нафтали Спивак?
– Я бы сказал: да простит господь генерал-губернатору все его грехи и самый тяжкий из них – ненависть к нашему племени.
– И все?
– Ты что, хотел, чтобы я над ним еще слезы лил?
– Лил бы, не лил… Но неужели тебе совсем неинтересно, как его порешили или ранили?
– А мне все равно.
Шмуле-Сендер снова возводит очи к небу, и снова его постоянный советчик что-то шепчет ему на ухо.
– Если бы меня убили… тебя… Авнера Розенталя, и впрямь всем было бы все равно. Подумаешь – каменотеса ухлопали, водовоза уложили, нищего укокошили! Но вот когда укладывают губернатора, тут, Эфраим, все имеет значение: и как, и где, и кто?
Надо бы козу подоить, думает Эфраим, устав от трескотни Шмуле-Сендера. Надо бы еще раз жениться… Когда женщина появится в доме, Эзра перестанет приводить своих…
Шмуле-Сендер обижен – на своего постоянного советчика в небе, на своего друга на земле Эфраима, на самого себя. Рассказывает, рассказывает и до конца рассказать не может.
Обида подстегивает его тлеющую решимость.
– А что бы ты, Эфраим, сердце мое, сказал, если бы этого губернатора ухлопал твой знакомый?
– Кроме тебя и Авнера, у меня знакомых нет.
– Ну, не знакомый, сердце мое, ну близкий… очень близкий тебе человек…
Господи, наконец подобрался вплотную, Шмуле-Сендер вытирает испарину на лбу и смотрит на Эфраима, как прирученная ворона: диковато и в то же время пристально.
– И близких у меня нет, – говорит каменотес.
– А дети?
– Дети – это не близкие. Дети – это далекие.
Эфраиму такое признание дается с трудом. Но кому пожалуешься на свою судьбу, с кем поделишься горестями, если не со Шмуле-Сендером. Шмуле-Сендер – его последнее убежище, его последнее утешение. Он в доме Шмуле-Сендера и столуется, и порой, когда хворает, отлеживается. Жена водовоза – Фейга была подругой Гинде. Теперь, как шутит Шмуле-Сендер, у них одна жена на двоих. Вот только птенцов они уже не высидят – ни Дудаков, ни Лазареков.
– Есть у тебя близкие, – настаивает Шмуле-Сендер. – Шахна… Эзра… Гирш… Гирш, – повторяет он.
– Не хочешь ли ты сказать, что все они стреляли в генерал-губернатора.
– Я не говорю: все, – скороговоркой отвечает Шмуле-Сендер.
– Шахна?
Нет чтобы Шмуле-Сендеру ответить: Шахна – и все превратить в шутку.
– Не Шахна, а Гирш. Гиршке-Копейка.
– Гиршке убил губернатора? Этот сморчок, этот лоботряс, этот неслух убил человека?
Все вокруг дрожит от Эфраимова вопроса, и сам вопрос дрожит, кружится в воздухе, жужжит мохнатым шмелем.
– Разве я сказал: убил… Я сказал: ранил… в руку… и в ногу…
– Жаль.
– Кого?
– Обоих.
– Это все еще может оказаться брехней.
Шмуле-Сендер пытается все свалить на родственника Фейги Шмерла-Ицика, зерноеда (у них в роду – все врали и недотепы), остановившегося в местечке не для того, чтобы погостить у родни, а чтобы помочиться за углом. Вот и помочился дурной вестью, и струйка от нее потекла во все стороны.
– Я вчера сон видел, – говорит Эфраим. – Лежу, значит, в постели, заросший, старый… лет мне, пожалуй, еще больше, чем сейчас… и вдруг ко мне подходит Гиршке, малюсенький, в коротких штанишках, в фартуке, в руках дратва, шило… Я смотрю на него и спрашиваю: «Ты почему, Гиршеле, сердце мое, такой махонький, тебе же уже за тридцать?»– «А я, – говорит, – не расту». – «Все растут, ты один каким крохой был, таким и остался». – «У меня, отец, только душа растет, в груди не умещается, все наружу лезет. Я заталкиваю ее обратно, а она вылезает, и все ее топчут, топчут…» Понимаешь, Шмуле-Сендер?
– Ага.
Шмуле-Сендер слушает его, затаив дыхание. Теперь уже не один шмель, а целый рой кружится над его головой, которая еще совсем недавно была гладкой и легкой, как яйцо наседки.
– А я ему говорю: «Зачем она тебе, твоя душа?»
– А он?
– А он только улыбается.
Эфраим замолкает и, как Шмуле-Сендеру кажется, вытирает глаза. Может, соринка попала, а может, и слеза брызнула ненароком.
– А про графский камень я правду говорил. Попроси у Юдла Крапивникова.
– Спасибо, – говорит Эфраим.
– Лежит себе без дела… Вот я и подумал: чем не памятник.
Шмуле-Сендер вызывается тотчас свою лошадь запрячь и поехать с Эфраимом в имение графа Завадского. Там экономом служит Юдл Крапивников. Может, задарма отдаст. Ведь он, Эфраим, и для его, Крапивникова, родителей – отца-аптекаря и матери-повитухи – такие надгробия на россиенском кладбище сделал! Дай бог каждому еврею такие!
Графу Завадскому камень этот не нужен, графов хоронят в Вильно, у них там фамильный склеп и часовня, а покуда они живы, то по заграницам мотаются, в Париже сидят, пьют, гуляют, денежки транжирят. Эх, если бы и нам, Эфраим, такую жизнь! Ешь с утра до вечера всякие лакомства, пей напитки, с барышнями шашни води, а тут, в Литве, за тридевять земель на тебя спину гнут; какой-нибудь Юдл Крапивников твои доходы подсчитывает и складывает в кошелек, а те, что не складывает, в Париж барину шлет.
– У меня коза не доена, – говорит Эфраим.
– Эфраим! Не гневи бога! Такое случилось, а ты – коза не доена!
Эфраиму хочется побыть одному. Забраться куда-нибудь в угол, сесть на корточки и, не вставая, силой своей тоски, своих взбудораженных мыслей вызвать из тьмы забвения, из виленской сапожной мастерской (Шахна рассказывал, будто Гирш работает на Русской улице сапожником), из виленской тюрьмы (если он туда попал) маленького мальчика по прозвищу Гиршке-Копейка в коротких полотняных штанишках, со смешной стрижкой (мать Двойре всегда подстригала его овечьими ножницами) – раскрыть перед ним свои широкие, теплые, как дверь бани, объятия и прижаться к нему небритой щекой; небритой щекой к его огромной душе, которую все топчут и топчут и которую он никак не может спрятать.
Шмуле-Сендер, хоть и не быстр умом, угадывает желание Эфраима, условливается с ним о поездке в имение Завадского (надо успеть до возвращения графа из Парижа: когда тот вернется, у Юдла Крапивникова снега среди зимы не выпросишь), переминается с ноги на ногу, ждет, но Эфраим не спешит с ним прощаться. Горе у него, горе! Гиршке-Копейку за то, что стрелял в губернатора, по головке не погладят. Власти и смирных евреев по головке не гладят. Гиршке-Копейка, того и гляди, еще схлопочет пулю или виселицу. Для Эфраима все они – и Гиршке-Копейка, и Шахна (к нему так и не прилипло ни одно прозвище), и Церта – давно как бы на каторге. Сколько лет прошло, никто, кроме Эзры, к отцу не приезжал.
Да и в Эзре какой прок? Шалтай-болтай, чучело огородное, шут гороховый!
Водовоз прощается с Эфраимом, качает гладкой и легкой, как яйцо наседки, головой и сворачивает за угол.
Коза встречает Эфраима радостно-укоризненным блеянием. Подходит к нему, тычется белой мордой в живот, и Эфраим треплет ее своей могучей рукой и прячет от нее глаза.
Нет, он ей ничего про Гиршке-Копейку не скажет. Хоть Гиршке и верхом на ней ездил, и за хвост таскал, и чернилами пытался на ее белой шерсти свое имя и имя дочки рабби Авиэзера вывести, коза его любит. Она всех Эфраимовых детей любит.
У всех козы как козы. А у него, у Эфраима, не животина, а умница, пророчица, ревнивая хозяйка. Как только Церта сбежала со своим фармазоном из дому, Эфраим пришел в хлев и сказал:
– Будь мне, цигеле (козочка), дочерью, а я буду тебе отцом.
Коза служила Эфраиму верой и правдой, заменяя всех – живых, покинувших его по своей воле, и мертвых, оставивших его по воле смерти. Животина то взглянет на него глазами покойной Леи, третьей и самой любимой его жены, то бросится к нему с такой доверчивостью, как поскребыш Эзра, то прижмется к нему теплым боком, как Шахна.
Эфраим с козой и в гости ходит – боится, а вдруг и ее, бесценную, какой-нибудь фармазон сманит или голодный волк задерет (а волков в россиенском уезде уйма, рыщут по лесу и воют на луну).
Однажды коза его и от угара спасла – уткнулась ему, уже отравленному, в грудь и давай будить. И разбудила. Из благодарности повел он ее к рабби Авиэзеру, чтобы мудрейший из мудрых рассудил: обыкновенная она или чудотворная, есть у нее душа или нет.
Рабби Авиэзера и более простые вопросы повергали в уныние.
Приход Эфраима с козой, пусть не шелудивой, пусть белой, как пасхальная скатерть, и вовсе озадачил его. Еще бы! Что, если со всей округи к нему приволокут всех коз, всех овец, всех коров и начнут спрашивать. У господа бога ответов нет. Откуда же им взяться в избе Авиэзера?








