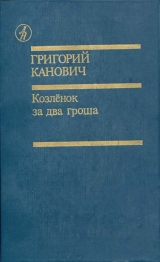
Текст книги "Козленок за два гроша"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Окна дома, где живет рабби Авиэзер, закрыты ставнями. Но к мудрейшему из мудрых можно пожаловать среди ночи, и он не обидится, откроет дверь. Рабби Авиэзер не спрашивает: «Который час?» Он всегда спрашивает: «Чем я могу помочь?»
В доме рабби всего полно: и фарфоровые чашки, и серебряные ложечки, и подсвечники, и большой комод из красного дерева, и ковер с изображением Юдифи, поражающей Олоферна, вытканный на какой-то ткацкой фабрике в Австрии (рабби Авиэзер родом из Граца), а часов нет. Никаких – ни ручных, ни стенных, ни напольных. Дочь рабби Авиэзера бегает в соседнюю лавку узнавать время.
– Что такое время? – говорит рабби Авиэзер. – Печаль, и только. Какая мне разница – полдень ли печали или вечер печали? Печаль, и только.
Эфраим и Авнер не станут будить почтенного рабби. Подождут. Посидят на травке за домом, послушают, как в пруду напротив синагоги квакают лягушки. По утрам они квакают так, что душа в ответ отзывается какой-то непонятной благодарностью.
Если рабби Авиэзер откажется приютить козу, ничего другого не останется, как просить водовозову жену Фейгу.
Может, все-таки взять ее с собой в дорогу? Привязать к телеге, и пусть плетется за ней аж до Ерушалаима да Лита – литовского Иерусалима.
Коза понимает не меньше, чем рабби Авиэзер, чем все эти виленские судьи. Понимает потому, что у нее, как и у Эфраима, столько лет отнимали самое дорогое – ее детенышей, ее козляток. А тот, у кого каждый год отнимают самое дорогое, никогда – посули ему хоть златые горы – никогда не лишит тебя ни сына, ни дочери, как бы они ни были виноваты.
Коза-пророчица, коза-мученица щиплет весеннюю травку, Эфраим и Авнер, борясь с дремотой, поглядывают на закрытые окна дома рабби Авиэзера и ждут, когда тучная, раздобревшая от домашних пирогов Нехама, та самая Нехама, из улья которой никто не вынимал еще сотов, выскочит из дому на босу ногу в шерстяной кофте матери и примется в сердцах, со стукотней и треском, открывать железные ставни, которыми, как она считала, закрывали не дом на ночь, а саму ночь с ее соблазнами, ночь, так и не ставшую для нее брачной.
– Хорошо-то как! – говорит, потягиваясь, Авнер.
– Хорошо, – вторит ему Эфраим.
– Это страшно, но даже сума нищего не портит всего этого.
– Чего – этого?
– Этой вот красоты… – И Авнер обводит рукой полукруг в воздухе, и мир как бы вкладывает в его ладонь свою щедрую милостыню – это голубое небо, эту, уже нескромную, майскую зелень, этот простор, утыканный деревьями, как подсвечник свечами, каждое дерево в отдалении и впрямь светится, как свеча, и свет его вместе с истошным кваканьем лягушек, со скрипом отворяемых ставен, с первыми руладами птиц проникает в душу Авнера, и вот уже она, эта душа, этот облетевший с дерева листок, на миг воспаряет в бескрайнее небо.
– Ты опять привел свою козу? – ужасается рабби Авиэзер, застегивая свой черный, на мягкой шелковой подкладке, жилет. Пуговицы трещат у него в руках, как орехи под щипцами.
– Пусть ваша Нехама, да пошлет ей бог богатого жениха, немного присмотрит за ней… покуда вернусь из Вильно. И покуда она не подохнет.
– Нехама?
– Коза.
– Коза, – повторяет рабби Авиэзер и, обессиленный борьбой с неподатливыми пуговицами, приходит в еще больший ужас.
Эфраим объясняет мудрейшему из мудрых свою просьбу. Рабби Авиэзер слушает его не перебивая; пуговицы, слава богу, застегнуты, а когда они застегнуты, в божьем мире воцаряется лад и порядок.
– Как там сказано в писании: и взял Авраам сына своего Исаака, – говорит Эфраим, подразумевая под Авраамом себя, а под Исааком – Гирша.
Нищий Авнер беседует с Нехамой на крыльце. Нехаме интересно с ним. Никто в местечке столько не знает, сколько нищий. Только вот беда: и вести у него какие-то нищие. Но когда других вестей нет, то и нищая весть по сердцу. От нищих вестей хоть голова не пухнет, хоть душа не болит.
Во всех своих бедах Нехама винит отца, рабби Авиэзера, затащил ее в такую дыру, в такую глухомань; это она из-за него осталась в девках. Чего, спрашивается, попер сюда, не в Гродно, не в Барановичи, не в Шавли. Если на свете есть священные города, как Вильно, как Иерусалим, то должны быть – просто не могут не быть – города женихов… Что стоило отцу выбрать такой город? Тогда бы Нехама потучнела не от пирогов. Тогда зря не сохли бы ее соты.
– Поезжай в Палестину, – предложил ей рабби Авиэзер. – Там еврейские невесты на вес золота!
Но Нехама только фыркнула в ответ.
Так и застряли они в местечке, хотя почтенный рабби Авиэзер и бредил иудейскими горами, могилой прародительницы Рахиль в Вифлееме и даже раскаленной пустыней Негев. И впрямь – что ему в стране праотцев без Нехамы делать? Молиться? Молиться можно и в этом захолустье. Молитва того, кто ничего не обрел, жарче, чем того, кто достиг вершины.
Чувствуя свою вину перед Нехамой, рабби Авиэзер во всем старался помочь ей и со временем он как бы поменялся с дочерью местами – стирал, мыл, латал, вязал. Жена его Хана страдала неизлечимой болезнью – ничего не помнила, даже своего имени.
Нехама вместо отца давала советы, сыпала изречениями из торы, отпускала грехи, устанавливала, кошерна ли курица, которая проглотила иголку, могла даже сказать, чья она – портного Зиси-Янкеля или сапожника Вульфа-Ирмы.
В местечке все делали вид, будто рабби Авиэзер – это рабби Авиэзер, а Нехама – это Нехама. И не дай бог, если кто-нибудь имел неосторожность их перепутать. Рабби Авиэзер надувался, как индюк, лицо его пятнила багряная обида, голос делался почти визгливым.
– Вы к кому пришли? Ко мне или к Нехаме? – кричал он в такие минуты.
По правде говоря, пастве было все равно, кто из них пастырь, а кто кухарка. Местечковые евреи доподлинно знали, что та похлебка, которую им приходится каждый день хлебать, варится не на кухне рабби Авиэзера, а на небе. Сколько господь насыплет соли, столько и будет.
– Бог сына твоего приносит в жертву, а не тебя, Эфраим, – печально говорит рабби Авиэзер.
– Ох, – вздыхает Авнер.
Что за народ?! – думает Нехама. Целыми днями вздыхают или умничают – тачают ли они сапоги, мостят ли улицы, побираются ли, рождаются ли или умирают, идут ли к венцу или на дыбу. Вздыхают оттого, что скучно им в этом мире, а мудрствуют оттого, что пытаются своим умом выжечь просеку в дремучем бору ненависти, шумящей над ними день и ночь, день и ночь.
Слух об убийце генерал-губернатора – так в газетах называли молодого еврея – дошел до рабби Авиэзера и Нехамы раньше, но они никак не могли взять в толк, что этот преступник – их земляк Гирш Дудак, тот самый маленький мальчик, который в незапамятные времена выбил у них из рогатки стекло, тот самый мальчик, за которым Нехама гонялась по всему местечку аж до Немана, тот самый, которого она загнала в воду и который, не желая попасться, пустился вплавь на другой, германский, берег. Напуганная тем, что сорванец может утонуть, Нехама заорала во всю глотку:
– Плыви назад! Назад! Никто тебя не тронет! Хочешь, выбей остальные три стекла! Назад!
Но Гирш Дудак, видно, уже тогда плыл к своей гибели.
– Нет, рабби, это меня бог приносит в жертву, – цедит Эфраим. – Меня.
– Жертва тот, кто на костре, а не тот, кто около костра. Ты – около.
– Нет. Я – не около… я – на огне… Разве вы не слышите запах паленого мяса?
– Он всю ночь не спал, – бубнит Авнер.
– А ты помолчи! Разве жертва тот, кого сжигают, а не тот, кто остается с выжженным сердцем и кучей пепла в руках?
Нехама ставит на стол самовар, фарфоровые чашки, привезенные из Вены, города женихов, нарезанный тонкими ломтями сыр, мед в деревянной миске.
– Садитесь, – говорит она. – Самовар вскипел.
Нищего Авиера дважды просить не надо. Он садится за стол первым. Дрянное это, конечно, дело – костер, виселица, но ни один костер, ни одна виселица, ни одни похороны не отучили человека от еды. Желудок – хозяин человека. Желудок.
– У всех у нас, Эфраим, в горсти пепел, – говорит Нехама и косится на нетерпеливого Авиера.
– И я говорю – у всех, – поддакивает рабби Авиэзер.
Лучше бы он, Гирш Дудак, женился на мне, думает Нехама, я нарожала бы ему столько детей, сколько бы он захотел, мы бы уехали с ним в Америку, подальше от генерал-губернаторов, от огня и пепла. И если бы у него и там чесались руки, он бы мог каждый день стрелять в меня, я бы его к смерти не приговаривала, я бы его, даже мертвая, даже изрешеченная пулями, любила…
– Назад, назад, – бормочет Нехама.
– Ты о чем, доченька, – рабби Авиэзер пуще смерти боится, как бы Нехама не унаследовала болезнь Ханы, ее матери. А вдруг она, как Хана, все на свете забудет.
– Ни о чем, отец, ни о чем… Я просто подумала, что наше будущее в прошлом… Мама! Тебе налить? – обращается Нехама к раввинше, вяжущей в углу из толстой овечьей шерсти мужской носок.
Хана не отвечает.
Слышно только, как шелестят в наступившей тишине спицы. Так шелестит в луговой траве жук.
– Ханеле, – ласковыми словами тормошит жену рабби Авиэзер.
Жук беспамятства никак не может встать на ноги и уползти.
Нищий Авнер отламывает кусочек сыра и воровато заталкивает в жадный, несостарившийся рот.
Господи, как же так, думает он, забыть все. О, если бы ему даровали такую неслыханную милость – забыть пожар, забыть свою бакалейную лавочку, своего деда, фактора наполеоновской армии, свою нищенскую суму. Может, жук беспамятства переползет к нему за пазуху?
– Мужайся, Эфраим, – говорит рабби Авиэзер, когда они все усаживаются за стол.
– Мне бы только козу пристроить, – храбрится Эфраим.
– Присмотрим мы за твоей козой. Присмотрим, – обещает рабби Авиэзер.
Он наливает себе из самовара кипятка, красит его крепкой заваркой из чайничка, подносит чашку к бескровным, когда-то чувственным губам, и вместе с кипятком внутрь, в желудок, проникает еще какое-то тепло – то ли от неостывшего пепла, который у всех в руках, то ли от далекого костра, на котором будет принесен в жертву маленький мальчик с рогаткой – Гирш, то ли от песка Синайской пустыни, который почтенный рабби всегда чувствует под своей ступней.
В углу монотонно шуршит жук беспамятства.
Сколько лет Хана вяжет свой носок?
Тридцать, наверно.
Нехаме, кажется, шестой годик шел, когда они сюда приехали.
С тех пор Хана орудует спицами. Вяжет и распускает. Вяжет и распускает.
– Спицы, Эфраим, простые спицы тоже могут быть виселицей… Тридцать четыре года… она нас вздергивает… каждый день… с утра до вечера…
– Пей! – говорит Нехама. – Чай остынет.
– Я пью, доченька, пью… Мы все должны верить в чудо, – говорит рабби Авиэзер.
– В какое чудо? – спрашивает Авнер.
– Гирша могут еще помиловать… И Хана, моя жена, ее мать, – рабби Авиэзер поворачивается к дочери, – может еще отложить вязанье, сесть с нами за стол и выпить чашку чая…
– А Нехама – выйти замуж… – шепчет растроганный Эфраим.
– За козла, – язвит дочь рабби.
– А что? – уплетая сыр, вставляет Авнер. – А что? Дай бог каждому жениху такую невесту. Эх, Нехама! Будь я на сорок несчастий моложе, я бы к тебе сегодня же посватался… Ты пошла бы за меня?
– Побежала бы, – насмешничает Нехама. – Всю жизнь мечтала быть женой бакалейщика. Изюм – даром, корица – даром, марципаны – даром. Я, Авнер, сластена… И у меня все сладкое…
– Нехама! – возмущается рабби Авиэзер.
– Все! Все! Все! Снизу доверху! Сверху донизу! Все! – вдруг вскрикивает Нехама и закрывает лицо руками.
Эфраим и Авнер перестают прихлебывать чай, рабби Авиэзер принимается пересчитывать пуговицы на жилете, пялит черные, как окатыши каштана, глаза; в углу посверкивают спицы, на полу кошка играет клубком ниток, но никто ее не гонит, она еще совсем молодая и глупая, еще не знает, что это за нитки.
– Будет тебе, доченька, – стыдит Нехаму рабби Авиэзер. – Кто же пьет чай со слезами?
Нехама всхлипывает, потом, успокоившись, открывает лицо, как открывают ставни, и на ее пухлой щеке жемчужиной сверкает большая перламутровая слеза.
– И я хочу в Вильно, – говорит Нехама, размазывая слезу, только что украшавшую ее сдобное лицо.
Эфраим смотрит на нее с опаской. Веселенькое дело – трое стариков и старая дева в одной телеге. Нехама, видно, шутит. Не бросит же она своих родителей на произвол судьбы. Рабби Авиэзер без нее, как без рук. Нехама и одевает, и раздевает Хану, и укладывает, и усаживает в угол. Сама Хана не ведает, что такое день, что такое ночь.
– Поехали, Нехамеле, с нами, – неожиданно предлагает насытившийся Авнер. От горячего чая по лбу у него течет тоненький, мутный ручеек, омывающий пейсы и впадающий в дерзкую, торчащую клинышком бороду.
Поехали, поехали, передразнивает его в мыслях Эфраим. Авнер первый же в Россиенах слезет с телеги и потопает домой. Он только на словах герой. А чуть что – ищи-свищи! И Шмуле-Сендер с полдороги вернется. Что им в Вильно делать? Вильно нищими и водовозами не удивишь.
– Рада бы, да сами знаете, – Нехама косится на мать, которая выронила спицу и застыла в углу, как мумия. – Отец, – говорит она, – помоги маме.
Жуку беспамятства надо вправить крылышко.
Рабби Авиэзер грузно встает из-за стола, семенит в другой конец горницы, нагибается, поднимает с пола спицу и вставляет ее в бесчувственную руку Ханы; рука вдруг приходит в движение, словно ее завели, и в тишине снова раздается тихий и знобкий шелест. Только теперь Эфраиму чудится, что это не спицы шелестят, а что-то другое, чему он и названия подыскать не может.
Может, это белыми листами смертного приговора шелестят его дурные предчувствия, может, рыжими волосами Гирша – его надежды, его тоска, его сожаление о прожитой жизни. Ах, окаянная! Ах, неблагодарная! Столько он на нее трудился, батрачил, а она что с ним делает?
Да только ли с ним?
Кажется, совсем недавно Хана, жена нового раввина Авиэзера, гордо несла свою голову на тонкой алебастровой шее по местечку, и все – мужчины и женщины – ахали от восторга и зависти? Давно ли она нахваливала его Шахну за то, что чужие языки учит. Хана при нем, при Эфраиме, прочитала мальчугану стихотворение по-немецки не то про русалку, не то про девицу, бросившуюся из-за несчастной любви с откоса в реку. Как же она, эта река, называлась? Эфраим помнил, но забыл. И к нему подбирается этот жук беспамятства. Уже подобрался. Уже ползает по его седым космам, по его волосатой груди, откладывает свои личинки, и из каждой его личинки на свет рождается новый жучок; еще год, еще два, и ты из живого человека превратишься в гору беспамятства.
– Счастливого пути, – говорит рабби Авиэзер, не спуская глаз с пятнистых рук жены. – А теперь перед дорогой помолимся. Йехи роцойн мильфонейхо, адойной элохейну вейлойхей авойсейну шэтойлихейну лешолоим… (Да будет воля твоя, господи наш, бог отцов наших, да сопутствует нам мир…)
– Да сопутствует, – шамкает Авнер.
– Да будет мирным наш путь, – басит Эфраим.
Во дворе рабби Авиэзера извлекает свой хлеб из земли коза. Она щиплет майскую траву, оглядывает незнакомые ей места, таращит глаза на ставни, на окна, напоминающие открытый свиток торы; козья голова белая, почти невесомая, повернута к солнцу. Оно уже выкатилось из-за мишкинского леса и озарило соседнюю с домом рабби Авиэзера корчму Ешуа Манделя; через минуту небесное золото, расщепленное деревьями, слитками упадет на крышу парикмахерской Аншла Берштанского, потом на москательно-скобяную лавку братьев Спиваков, а уж только потом на большак, ведущий в Мишкине и еще дальше – в Россиены и Вильно.
– Спасибо, рабби, спасибо, – смущенно говорит Эфраим. – Век не забуду… Спасибо, Нехама… Спасибо, Хана…
Жук беспамятства на миг перестает шелестеть своими крылышками. Хана вытягивает свою алебастровую шею. Кажется, свершится чудо, она ответит. Но чудо совершается во всех домах, кроме еврейских.
– Если вашего сына… Гирша помилуют, – неуверенно отвечает за всех Нехама. – Накиньте ему веревку на шею и приведите, как бычка, сюда…
– Хорошо сказано!.. Ой, как хорошо! – восторгается Авнер и вертится юлой вокруг раввинской дочери. – Как бычка с базара, – хихикает он. – Всех их на веревке! Всех до единого! И Гирша, и Берла Лазарека!.. Ткнуть мордой в родную землю и сказать: «Вот где, сволочи, ваше пастбище! Вот! А не там, где пасутся эти… как их там… губернаторы».
– Наша родная земля – Эрец Исроель, – говорит рабби Авиэзер.
Он давно бы отпустил их с миром, но что-то его удерживает. Пока люди в доме, все иначе: и жук беспамятства не так шелестит своими безотказными крылышками, и Нехама, умаявшаяся от бесплодия и одиночества, из зверя превращается в обыкновенную слезливую бабу. С ними он, рабби Авиэзер, на родине, как бы на земле обетованной, а без них – на чужбине, на бессрочной чужбине, как на каторге.
– А эта земля что, не родная? – вспомнив все милостыни, которые она ему подала, петушится Авнер, радуясь не столько тому, что можно установить истину, сколько тому, что можно съесть еще кусочек сыра.
– Родная, Авнер, – отвечает рабби Авиэзер. – Да не совсем. Родная та, которая справедлива к своим сынам.
– А справедливых земель нет! Нет! Я полсвета обошел! В Польше был! В Германии!.. Однажды даже в Галицию забрался. Нет! Слово Авнера Розенталя. А знаете почему? – он уминает сыр, крошки застревают в его дерзновенной бороде.
– Ну что ж! Послушаем, послушаем!
– Почему? – повторяет нищий, как бы разбегаясь. Уж если рабби проявляет такой интерес к его ответу, не грех и ложечкой меда полакомиться.
– Потому что самая несправедливая земля – это человек.
– Ты, сын мой, не торопись! Съешь еще одну ложечку меда… И сыру откушай!.. Нехама даст тебе его в дорогу!.. Гм!.. Самая несправедливая земля на свете – человек?
– А что? Ведь правда, – тихо произносит Нехама.
– Правда, – соглашается рабби Авиэзер. – Человека обетованного нет.
– Не забывай, Нехама, мою козочку… Дои ее два раза в день – утром и вечером… молоко у нее вкусное-превкусное… – поучает дочку раввина Эфраим.
– Как материнское, – смеется Авнер.
– Как материнское, – не перечит нищему Эфраим.
Эфраиму не терпится поскорей уйти. Ведь надо еще Фейгу уломать. Согласия Шмуле-Сендера мало. Фейга вертит им как хочет. Не только думает за него, но и ест. В местечке шутят, что Шмуле-Сендер только в нужник бегает самостоятельно.
– Не беспокойтесь, Эфраим, – говорит Нехама. Ей до сих пор стыдно перед ним, что не сдержалась, позволила себе размякнуть, пустить слезу. Не от ее ли крика Хана выронила из рук спицу? Нехама давно заметила, что стоит ей закричать, завопить, зарыдать в голос, как жук беспамятства расправляет на миг свои крылышки и вылетает в окно, даже если оно и ставнями закрыто. В тот миг у Ханы светлеет взгляд и уши освобождаются от глухоты. Но у Нехамы нет сил все время кричать.
– Славная ты, душа, Нехама, – говорит Эфраим, направляясь к дверям. – А вдруг все так и будет.
– Как?
– Возьму у Шмуле-Сендера вожжи… накину моему Гиршу на шею… Все-таки вожжи лучше, чем петля… накину на шею и приведу сюда, на твой порог… к тебе… и велю ему жениться…
– В награду за козу? – улыбается Нехама, и от ее улыбки всем им – и рабби Авиэзеру, и Хане, вяжущей в углу бог весть на чью ногу носок, и нищему Авнеру, и Эфраиму – становится еще грустней, еще горше.
Нехама улыбается мертвой улыбкой, и эта улыбка уже не старой девы, а блудницы, и жилье рабби Авиэзера уже не обитель мудрости, а вертеп, и кошка играет уже не клубком ниток, а длинным арканом, один конец которого за тридевять земель – в Вильно, в городе висельников и женихов.
К удивлению Эфраима, жену Шмуле-Сендера Фейгу долго уламывать не пришлось. Наплел ей водовоз с три короба про одного молодого человека, приехавшего якобы из Америки, из далекого и богатого Нью-Йорка в Вильно и привезшего два битком набитых чемодана с золотыми часами, изготовленными на фабрике Берла. Коммивояжер – посланец Берла должен якобы передать им привет от сына и по паре часов – для него, для Шмуле-Сендера – с брелоком, а для нее, для Фейги, с золотой цепочкой. Поскольку у него, у этого коммивояжера, нет времени тащиться в такую даль, как Мишкине, то он через Шмерла-Ицика, зерноеда, попросил, чтобы отец Берла, то есть он, Шмуле-Сендер, приехал за подарками в Вильно сам. Фейга слушала мужа, и в глазах у нее стояли чистые родниковые слезы.
– Если ты, кецеле (котик), ничего из Вильны, кроме привета, не привезешь, я тебя тоже не выгоню, – сказала Фейга и посмотрела на свое запястье. Господи, у нее на руке будут тикать такие же часы, как у покойной жены лесоторговца Маркуса Фрадкина.
– Ну, привет я уж точно привезу, – заверил ее Шмуле-Сендер.
Эфраим испытывал перед Фейгой какую-то неловкость. Хоть не он врет, а все равно стыдно.
– Привет-шмивет, – продолжала Фейга. – Только лошадь в дороге не сгуби. – Она поднесла запястье к уху. Тикает! Ей-богу, тикает!..
– Что ты там слушаешь? – не выдержал Шмуле-Сендер.
– Свою кровь, – не растерялась Фейга и повернулась к Эфраиму. – Желаю, чтобы все у тебя кончилось не как у евреев, а как у графа Завадского.
– А как, Фейга, кончается все у графа Завадского? – спросил Эфраим.
– У графа Завадского все кончается хорошо, а у евреев все начинается хорошо, а кончается плохо. Разве наш Берл не говорил вначале: «Поедем со мной вместе!»
– Кому говорил? Графу? – опешил Шмуле-Сендер.
– Графу-шмафу! – зачастила Фейга. – Графу Дудаку. – И голова ее, как солнце, снова склонилась к запястью. – Думаете, я не знаю, зачем вы едете?
Эфраим засопел от удивления носом, а Шмуле-Сендер нервно заковырял в носу своим указательным пальцем, так ни разу в жизни никому ни на что и не указавшим.
– Одно счастье – мать, Двойре, не дожила! – булькала, как варенье на огне, Фейга. – Господи! И после этого мы хотим, чтобы нас за людей считали! Любили!
– После чего, Фейгеле?
Шмуле-Сендер называл жену уменьшительным именем, только когда ему что-то грозило, и от этого он – и без того не богатырь – умалялся еще больше.
– После всего… Ну, почему он не поехал с нашим Беркой? Ну, почему?..
И Фейга вдруг осеклась.
Как она ни старалась, никак не могла представить, что бы они там, Гирш Дудак и Берл Лазарек, вдвоем делали – деньги ли чеканили, на дрожках ли, как граф Завадский, катались или засыпали весь мир часами. Куда ни глянь – «Часы Лазарека и Дудака». И кончилось бы время графа Завадского, исправника Нуйкина, чтобы черви его грызли во сне и наяву, и настало бы время Лазарека и Дудака. Дудака и Лазарека!
…Пока Шмуле-Сендер водил лошадь к кузнецу Исроэлю, пока чистил скребком ее гриву, чтобы не выглядела такой старой и облезлой – ведь не в Россиены едут, а в Вильно, в Ерушалаим да Лита, в котором живут не только мужи достойные, но и кони самой благородной масти! – Фейга напекла путешественникам в дорогу пирожков, завернула в холстинку сыру, сунула наспех сваренную курицу и еще какой-то снеди – пусть мужчины вспоминают ее в дороге добрым словом.
– Счастливого пути, – сказала она, когда Шмуле-Сендер забрался в телегу. – Только ты там не того…
– Чего? – как всегда не сообразил Шмуле-Сендер.
– Не того…
В этом «не того» таилось для Шмуле-Сендера больше угроз, чем в каком-нибудь конкретном предостережении.
Господи, поблагодарил небеса Шмуле-Сендер. Фейгеле, его горлинка, его ведьма, отпустила его. Пожалуйста! На неделю! На месяц! На полгода! Езжай, котик! И еще харчами снабдила, еще ручкой помахала, как будто дым над ним развеяла.
Фейга между тем смотрела на тарахтящую, удаляющуюся по вымощенной Эфраимом Дудаком мостовой телегу, на хвост лошади, воспрявшей от хозяйской ласки, – в кои-то веки ее чистили и снаряжали в дорогу! – на свисающие ноги Авнера, примостившегося на самом задке, и думала, что ни на неделю, ни на месяц, ни на полгода они не уедут. Доедут до развилки, на которой томится несчастный Семен, и вернутся. Куда они могут уехать – мужу ее, водовозу Шмуле-Сендеру, каменотесу Эфраиму, нищему Авнеру, этой смирной и терпеливой лошади, этой тряской раздрызганной телеге, этим колесам с треснувшими спицами, этим вздохам и этому кряхтению, обессмысливающему и дорогу, и все ожидания, без малого триста лет!
Триста лет – это триста лет! Триста лет тянут назад, а не вперед.
На триста лет – одна наспех сваренная курица, дюжина пирожков, один – в рытвинах и ухабах – проселок, а до тюрьмы, в которой чахнет Гиршеле Дудак, до часов, которыми торгует Берл Лазарек, до простого, такого простого, как конское ржание, живого привета, – неведомые волости и губернии, чужие моря и океаны, засовы и границы. И никогда ни ей, Фейге Лазарек, ни ему, мистеру Шмуле-Сендеру Лазареку, не носить часов ни с серебряным брелоком, ни с золотой цепочкой, никогда им, как и нищему Авнеру и каменотесу Эфраиму, не доехать до справедливости, ибо сколько ни скачи, сколько ни догоняй ее, она всегда там, впереди, за тем лесом, за тем извивом, за той судьбой. Ее, эту справедливость, не то что не догнать – даже не приблизиться к ней.
Доедут до развилки и повернут оглобли; дома все иначе; прирученная несправедливость здесь не так кусает сердце, как справедливость, за которой невозможно угнаться.
– Эфраим, ты хоть знаешь, сколько верст до Вильно? – спрашивает Авнер.
– Много, – отвечает каменотес.
– До Россиен шестьдесят… от Россиен до Ковно – семьдесят, кажется, даже с лишком. А оттуда… – пытается вспомнить Шмуле-Сендер. – Оттуда еще, Авнер, далеко.
– А почему ты спрашиваешь? – обращается к нищему Эфраим.
– Меня она беспокоит, – говорит Авнер и кончиком языка показывает на лошадь.
С тех пор как Авнер стал погорельцем, он только и делает, что везде и всюду ищет недостатки и изъяны – не то что к бессловесной коняге, к самому вседержителю придирается. О, если бы Авнер был богом! Он перво-наперво отменил бы все пожары. Огонь, ну тот, что греет, оставил бы, а вот тот, что сжигает, отменил бы!
– Лошадь? – Шмуле-Сендер нахлобучивает на лоб шапку. С каких это пор Авнер стал разбираться в лошадях? Да он кобылу от жеребца не отличит!
– Лошадь, – подтверждает Авнер.
Шмуле-Сендер сидит впереди, ветер обвевает его лицо, на котором непомерно большое место, как пугало на огороде, занимает мясистый нос.
– Старая она, – продолжает Авнер.
– А ты? – язвит Эфраим. – Молодой?
– Я? – повторяет за ним нищий. – Я тоже старый. Может, в пять раз старше твоей кобылы. Но я, Шмуле-Сендер, никого не везу. И потом господь бог, да будет благословенно его имя, наделил меня разумом и речью.
– А зачем тебе разум и речь? – огрызается Шмуле-Сендер. – Разве они тебя сделали счастливей, богаче?
– Нет, – говорит Авнер. – Но в отличие от твоей кобылы я могу о своей бедности и своей немощи сказать вслух. Другому. Тебе или Эфраиму.
– И лошадь может сказать, – упорствует водовоз.
– Не может. Вдруг у нее печенка заболит, вдруг у нее кишки скрутит, и она, не успев даже пожаловаться, подохнет в лесу?
– Да чтобы у тебя язык к зубам присох, – ругается Шмуле-Сендер.
– Представляете себе – дремучий лес, дохлая лошадь и три старых, как горе, еврея. Ужас!
– Ты, Авнер, можешь еще вернуться.
– От одного ужаса к другому?
Авнер откашливается и странно смотрит на Шмуле-Сендера. Ну чего он так обижается? «Чтобы язык у тебя присох к зубам!» Еврей на то и еврей, чтобы во всем сомневаться. Отец Авнера, Пине Розенталь, царство ему небесное, сомневался в том, что родился. Все время ему казалось, что это не он родился, а кто-то другой, что он, Пине Розенталь, еще родится. Родится и проживет счастливую жизнь, будет богат, как Ротшильд, будет свободен, как урядник. Куда хочешь – туда и езжай. Разве его сомнения кому-нибудь мешают? Он, Авнер, не в таких пустяках, как кишки лошади, сомневался. Он – да простится ему такое кощунство – порой и в самом существовании господа сомневался! Сомнения! Сомнения! Ворона, и та, прежде, чем сесть на ветку, сомневается. А вдруг ветка – клетка?
Чем ближе развилка, тем тише разговоры. Там, как и много лет назад, дожидается своего Мессию сын корчмаря Ешуа Манделя – безумный Семен. Все вокруг – и птицы, и люди – привыкли к нему и почти не обращают на несчастного внимания. Правда, в прошлом году или в позапрошлом кто-то пытался Семена утопить в пруду графа Завадского, но то ли лето выдалось засушливым и пруд обмелел, то ли тот, кто ждет Мессию, ни в воде не тонет, ни в огне не горит – сын корчмаря остался жив.
Только привычка у него появилась новая – одежду выжимать.
Теперь в любую погоду – печет ли солнце, хлещет ли дождь, метет ли вьюга – бедняга снимает с себя заношенную холщовую рубаху или сермягу и долго выжимает их, как какая-нибудь деревенская баба белье на Немане.
– Высохла твоя одежда! Высохла! – не раз убеждали его корчмариха Морта, дочь рабби Авиэзера Нехама (они приносят ему еду) и проезжавшие мимо крестьяне.
Семен только улыбается и отвечает:
– Никогда! Пот Иуды не высыхает! На мне пот Иуды! Не обсохну никогда!
Телега Шмуле-Сендера – Ноев ковчег черты оседлости, водруженный на скрипучие колеса с треснувшими ступицами, – медленно катит по пустынному мишкинскому большаку, туда, где на развилке осенним безлистым деревом маячит фигура упрямого местечкового безумца.
Эфраим ерзает на телеге, сучит, как ребенок, ногами. Встреча с Семеном тяготит его и, как старик ни тщится не думать о ней, мысли мчат его к Семену, принявшему вдруг облик Гирша.
Если бы ему, отцу государственного преступника, думает Эфраим, сказали, что помилуют его чадо, вернут в Мишкине, поставят вместо безумного Семена на эту людную, на эту страшную развилку, согласился бы он, Эфраим, или нет?
Неужто выбрал бы для своего сына виселицу?
Нет! Согласился бы, в лад с колесами скрипят мысли Эфраима. Выбрал бы безумие. Безумие лучше, чем смерть через повешение. Живое безумие можно потрогать руками, обнять за плечи, погладить по голове. Живому безумию можно заглянуть в глаза, его можно накормить.
Так что – лучше кормить безумие?
Эфраим расстегивает рубаху, и вопрос выпархивает из-за пазухи и, как все вопросы, повисает в просиненном до рези в глазах воздухе.
Что за мука, думает Эфраим, видеть свою застывшую кровь, свою окаменевшую плоть, мозг, испепеленный молнией. Что за мука видеть свое продолжение, которое живым надгробием маячит в семи верстах от родного дома и которому ты, отец, ничем не можешь помочь?
Каждый день видеть, знать и задыхаться от бешенства, от жалости и бессилия.
Может ли быть на свете удел страшней?
Нет страшнее удела, шепчет Эфраим.
– Ты что-то сказал, Эфраим? – оборачивается чуткий к чужим вздохам и шепотам Шмуле-Сендер.
– Нет, нет, – отвечает каменотес.
Он ничего не сказал. Ничего. Он только подумал, что нет страшней удела, чем знать и не смочь помочь. Он подумал: вообще ли это удел человека? Это, подумал Эфраим, удел бога. Видеть и не отзываться, знать и не спешить на помощь. Он ничего не сказал. Ничего. Просто подумал, что человек и бог одинаковы в своем бессилии, хотя неравны в своем знании.








