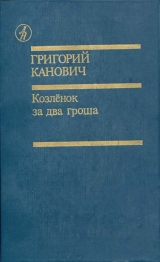
Текст книги "Козленок за два гроша"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Выходит, лучше виселица? Лучше один раз увидеть… один раз узнать, чем знать и видеть каждый день.
Безумца Гирша он будет видеть с утра до вечера и с вечера до утра, из месяца в месяц, из года в год, пока он, Эфраим, не испустит дух.
Мертвого Гирша он – если ему покажут его! – увидит один-единственный раз.
Где же выбор?
– Ты что-то сказал, Эфраим? – слышит он голос своего друга Шмуле-Сендера.
Он ничего не сказал. Ничего. Он только подумал, где же выбор и кто его делает – случай, судьба или человек? Почему белый Берл торгует в Нью-Йорке лучшими в мире часами, а его сын Гирш охотится на губернаторов? Почему обезумевший Семен Мандель ждет вон там – это уж совсем близко – Мессию, а его Гирш в Вильно – казни.
– Почему?
– Ты что-то сказал, Эфраим?
Ну чего этот Шмуле-Сендер привязался? Ничего он не сказал. Ничего. Прожил восемьдесят лет на свете и ничего не сказал. Никому. Ни сыну, ни губернатору, ни богу. А если и сказал, то его никто не услышал.
Уже видна фигура несчастного Семена. Он расхаживает по развилке, как петух по подворью, машет кому-то руками – наверно, им, трем Мессиям, трясущимся не на ослах, а в телеге местечкового водовоза Шмуле-Сендера.
Когда-то, вспоминает Эфраим, Гирш Дудак, Берл Лазарек и Семен Мандель были закадычными друзьями. Но это было давно, это было в добезумные, довисельные времена, когда еще раскатисто гремел колокол мишкинского костела, а Бенце-зазывала криками приглашал евреев в баню и на молитву.
– Кажется, он машет нам, – говорит Шмуле-Сендер, читающий мишкинский большак, как священный свиток, и не пропускающий ни одной загогулины, ни одной закорюки.
– Надо остановиться, – говорит Эфраим.
– Зачем? – спрашивает Авнер. Ему лишь бы спрашивать. Пока о чем-нибудь спрашиваешь, тебя помнят.
– Как зачем? – не зная, что ответить, ворчит Шмуле-Сендер.
– А вдруг, – хмурит брови Эфраим. – А вдруг свершится чудо?
– Какое еще чудо, Эфраим? Все чудеса свершаются в другой губернии, – говорит Авнер, и кадык ходит у него, как зоб у индюка. – В нашей губернии происходят только несчастья: горят бакалейные лавки, стреляют в губернаторов, травят евреев собаками, – тараторит он. Замолкнешь, и тебя забудут.
– Надо остановиться, – гнет свое Эфраим. – Может, у него при виде нас… тебя, Авнер… тебя, Шмуле-Сендер… и меня… разум проснется?..
– Уж если столько лет дрыхнул, то нам его, Эфраим, не разбудить.
– Не говори так, Авнер… Пока настоящий Мессия не пришел, каждый из нас – Мессия. Ты – для Шмуле-Сендера, Шмуле-Сендер – для меня. Я – Для тебя… Понимаешь?
– Я – Мессия?
– Да…
– Ой, у меня от твоих слов кишки в животе переворачиваются. Ой! Ой!
– Дурак ты, Авнер, – сердится Эфраим.
– Ну чего ты ржешь? – напускается на нищего Шмуле-Сендер.
– Ой! Держите меня!.. Сейчас упаду!.. Я – нищий, а не Мессия. Нищий!..
– Ты, может, Авнер, и не Мессия, – убавляет свою злость Шмуле-Сендер. – А я – да!.. Представь себе – да! – и водовоз приосанивается, распрямляет согнутую спину. – Правда, Эфраим? Ты же сам сказал: пока не пришел настоящий, каждый из нас Мессия. Я – Мессия для тебя…
Шмуле-Сендер частит, и знобкое волнение охватывает его; он наклоняет ухо, как на морозе, к плечу и греет мочку; тепло втекает в нее, разливается по всему тщедушному телу возницы, передается и лошади, и вот уже гнедая веселей трусит по мишкинскому большаку, и четырехколесный Ноев ковчег, подпрыгивая на выбоинах, приближается к раздорожью, где неистово размахивает руками безумный неприкаянный Семен. Взмахи его, похоже, разгоняют облака в небе, и с их исчезновением синева становится такой жгучей, что боязно даже голову запрокинуть.
– Здравствуй, Шимеле, – приветствует сына корчмаря Ешуа Манделя водовоз Шмуле-Сендер, натягивая вожжи и придерживая лошадь. Лошади что? Безумец, не безумец – какая разница. Люди делятся для нее на тех, у кого в руке кнут, и на тех, у кого его нет. Семен Мандель без кнута – значит, можно без опаски остановиться.
Сын корчмаря Ешуа Манделя исподлобья смотрит на водовоза, на его обветренное лицо с грядкой давно не полотой щетины, над которым, как болотные светлячки, светят белки глаз с красными прожилками, морщит лоб, как будто силится что-то вспомнить; на минуту-другую его и впрямь озаряет какая-то догадка, и ясность нисходит на него, как благодать, бледнит его щеки; безумный Семен зажмуривается, чмокает губами, издавая непотребный хлюпающий звук.
– Здравствуй, Шимеле, – басит каменотес Эфраим. – Ты узнаешь меня?
Несчастный Семен открывает глаза, оглядывает Эфраима и принимается радостно кивать. Но кивки его выражают не столько согласие, сколько волнение: они слишком торопливы и судорожны – так на сильном ветру, пружиня, качается ветка.
– Я – Эфраим, каменотес… Я сделал надгробие для твоей матери Хавы… Я отец Гирша… рыжего Гирша… по прозвищу Копейка… Гирш-Копейка…
Семен молчит. Кажется, ему приятны и их лица, и их речь. Он подходит к лошади, гладит ее по холке, потом прижимается заросшей щекой к гриве, и щетина его сливается с жесткими конскими волосами.
– Мы в Вильно едем, – говорит каменотес Эфраим, уверенный, что безумный Семен его не слышит. – К твоему другу… Гиршу-Копейке…
Сын корчмаря как бы прирос к лошади, и Шмуле-Сендер боится стронуться с места. Тронешься, а Семен не отлепится от гнедой и будет всю дорогу вприпрыжку, как жеребенок, бежать за телегой.
– Скорей возвращайтесь, – прильнув щекой к гриве лошади, говорит Семен, и от простоты и внятности его слов путников оторопь берет. – Все! Все! И ты, и ты, и ты… И Гирш-Копейка!.. Возвращайтесь и сидите дома… Он придет… он обязательно придет… Он не приходит потому, что вы не верите… я один верю… один… я возьму его за руку и приведу к тебе, – Семен тычет пальцем в Эфраима. – И к тебе, – палец вонзается в Авнера. – И к тебе, – косится он на водовоза, – Шмуле-Сендер…
При этих словах все трое словно каменеют. Узнал! Значит, в куче пепла, в который господь бог превратил его мозг, еще тлеют живые угли.
– Сам, Шимеле, приходи, – растроганно говорит Шмуле-Сендер. – Не хочешь в корчму – давай к нам… Ты же учился с нашим Береле в хедере… И Эфраим тебя примет… Дом у него совсем пустой…
– Нет, – улыбается безумный Семен. – Один должен ждать. Один должен верить. Он придет.
И палец его, как шило, буравит даль, и взгляд тонет в синеве, и оттуда, из этой ошеломляющей синевы, на несчастного Семена, видно, наплывает невыразимый сладостный запах мирт и кедров, оливковых рощ и виноградников, и тень того, пришествия которого он ждет, так же четко, как тень лошади, ложится на изъезженный мишкинский большак.
– Я приведу его к вам, – говорит Семен. – Только ни на что не надейтесь. Он ничего вам не вернет… ни детей, ни лавок… он отнимет от вас еще сверх того, что вы потеряли, чтобы вы наконец обрели то, чего никто от вас не отнимет.
– Что?
– Душу, – внятно, как с амвона, говорит Семен.
– А зачем нам, Шимеле, душа? – Авнер сверлит его своими когтистыми глазками.
– Чтобы покинуть хлева и берлоги.
– Спасибо, Шимеле, – неожиданно вставляет Эфраим.
Телега удаляется от развилки, въезжает в молодой лес.
– За что ты его, Эфраим, поблагодарил? – спрашивает у каменотеса недовольный Авнер.
– За то, что ждет.
– Ну и что?
– Кто-то должен ждать.
– Никакой он не сумасшедший, – горячится Авнер. – Скотами нас назвал… про хлева наплел… про берлоги…
Авнер обижен на Семена Манделя за то, что тот сказал, что Мессия не только не вернет ему бакалейную лавку, но еще что-то отнимет. В самом деле: что можно еще у него, у нищего, отнять? Жизнь! Пожалуйста – бери ее! Кому она такая нужна? Кому? Если Мессия не вернет ему его изюм, его корицу, его прилавок, его вывеску, чем тогда он, посланник бога, лучше исправника Нуйкина, чем добрее русского царя? Он, видите ли, ему душу подарит, вложит в его насквозь прогнившее тело еще одну язву, еще один гнойник. Да есть у него душа, есть! Другой ему не надо. По правде говоря, и та, что у него есть, ему не нужна. Он охотно отдал бы ее – ну пусть не за бакалейную, пусть за мясную лавку.
– Он не прикидывается, – говорит Шмуле-Сендер. – У него все в голове перемешалось.
– Мандели все хитрецы, – не унимается Авнер. – И я бы мог так стоять, если бы мне грозила каторга… И про Мессию мог бы… и птахи садились бы мне на плечо… Хотите – изображу кого угодно… Рабби Авиэзера… – Авнер строит смешную рожу, шевелит губами, показывает, как мудрейший из мудрых читает тору, стирает за Нехаму пасхальную скатерть. – Ну что?
– Как вылитый, – диву дается Шмуле-Сендер.
Они все еще едут по лесу. Ветер доносит терпкий запах хвои и сырого мха.
– А вот почтарь Ардальон Игнатьевич, – Авнер разглаживает молодецкие усы, подбоченивается, сдвигает набок шапку, прихлопывает к штанине стебелек соломы, как шашку. – Я всех могу… Всех, кроме бакалейщика Авнера Розенталя.
– Почему? – попадается на удочку любознательный Шмуле-Сендер.
Пусть болтают, думает Эфраим. За разговорами и путь короче. А до Вильно еще далеко. До Вильно еще так далеко, как до справедливости, как до его, Эфраима, молодости, как от нищего Авнера до хозяина бакалейной лавки Розенталя. В Россиенах Шмуле-Сендер и Авнер сделают остановку, переждут субботу и повернут назад. Нечего им в такую даль переться.
– Почему? – снова тянет на дно поплавок возница. – Почему Авнера Розенталя, бакалейщика, ты изобразить не можешь? Ты же сам Авнер Розенталь.
– Авнер Розенталь умер, – говорит нищий.
– Чепуха! – возражает водовоз. – Авнер Розенталь жив!
– Умер. В твоей телеге сидит другой человек.
– А я говорю: жив. Ты всегда для нас останешься лавочником Авнером Розенталем. Всегда. Я до сих пор покупаю у тебя изюм и корицу. Больше ни у кого… Я и вчера купил… целый кулек… И маку взял для гоменташей… Моя Фейга говорит: только у Авнера Розенталя!..
– Мели, мели, – говорит нищий. Болтовня Шмуле-Сендера доставляет ему горькую радость.
– И он, – Шмуле-Сендер кивает головой в сторону Эфраима, – все у тебя покупает. Все. Правда?
В трудные минуты, когда извилины Шмуле-Сендера накаляются добела, он обращается за помощью к Эфраиму, пусть плеснет из своего колодца, пусть остудит.
– Правда, – цедит каменотес.
– Царь, скажем, сгорит – и что? Царь он после этого или не царь? Царь! – торжественно объявляет Шмуле-Сендер. – Каждый остается тем, кем был.
– То царь. У него в каждом городе дворец. А у меня? У меня, Шмуле-Сендер, что?
– И все равно ты не прав, – говорит Шмуле-Сендер. – Я уже давно воду не вожу, а водовозом остался.
– Водовозом – можно, лавочником – нельзя, – мрачнеет Авнер.
– Можно! Можно! – выкрикивает Шмуле-Сендер. – Ты, Авнер, лавочник. Он – до гроба каменотес… Какими мы были, такими и умрем. Даже если все реки высохнут, все лавки сгорят, все камни улетят, как птицы. Правда, Эфраим?
Эфраим молчит.
Что и говорить, несчастный человек Авнер, но с Эфраимовой бедой его беде не сравниться. Военно-полевые суды не горят, как лавки, не высыхают, как реки, не улетают, как дети. Впервые об этих судах Эфраим узнал на русско-турецкой войне. Тогда ему казалось, будто проходят эти суды не под крышей, а в чистом поле. Там и судят, и расстреливают. Неужто и его Гирша в чистом поле?..
– Шмуле-Сендер, помнишь того парикмахера из Бердичева? – говорит Эфраим.
– Какого еще парикмахера из Бердичева? Я знаю одного парикмахера – Аншла Берштанского.
– Помнишь, его еще военно-полевой суд к смерти приговорил…
– Ааа, – тянет Шмуле-Сендер, но Эфраим и Авнер по выражению его лица чувствуют: водовоз ничего не вспомнил. Чтобы так акать, не надо участвовать в русско-турецкой войне.
– Все пытался, бедняга, из окопов в Бердичев свой убежать. Помнишь?
– Ну, ну! – сопит Шмуле-Сендер.
Чтобы так нукать, не надо год в окопах сидеть. Шмуле-Сендер ловит недовольный взгляд Эфраима и невпопад спрашивает:
– Ну что – убежал?
– Я же тебе сказал, – гневается Эфраим, – военно-полевой суд его к расстрелу приговорил.
– Значит, Бердичев не будет у него бриться, – говорит Шмуле-Сендер.
Авнер заливается мелким, бесовским смехом. Хи, хи, хи. Смешки падают на большак, как козьи орешки.
– Чего ты его, Эфраим, вдруг вспомнил? – виновато бормочет водовоз.
– Я думал, может, ты знаешь, как там все происходит, – мямлит каменотес. – Ты же все-таки на пять лет моложе меня.
– Где происходит?
– В военно-полевом суде.
– Не знаю, – бурчит Шмуле-Сендер.
– Я знаю, – неожиданно произносит нищий.
– Ты?
– Вьо, орлица моя! Вьо! – понукает лошадь Шмуле-Сендер. – Ну, чего встала? Чего?
Гнедая провалилась передними ногами в яму и никак не может выбрести, тужится, фыркает, кусает узду, жилы на спине натянуты, как канат парома.
– Знаю, – хрипит Авнер. – Военно-полевой суд – это пожар.
– Все у тебя, Авнер, пожар, – печально выдыхает Эфраим.
– Военно-полевой суд – это лесной пожар. Одному его не погасить… Когда я был еще лавочником, я читал по вечерам всякие занятные книжонки. Попалась мне одна про польский мятеж. А польские мятежники, скажу тебе, Эфраим, не то что твой Гирш или его Берл.
– Мой Берл – не мятежник! – ужасается Шмуле-Сендер.
– Ладно, ладно… Во-первых, с них срывают эполеты…
– Что-что? – мигает водовоз.
– Эполеты… Знаки воинского отличия, – щеголяет своими знаниями Авнер. – Потом у них отбирают саблю.
– У Гирша ни эполет, ни сабли, – ручается Эфраим.
– Потом, – не слушая его, продолжает Авнер, – полковник в мундире…
– Подполковник…
– Полковник.
– Подполковник Смирнов… – вспоминает старик Эфраим слова эконома графа Завадского – всезнающего Юдла Крапивникова.
– Пусть будет по-твоему! Подполковник Смирнов встает из-за стола и зачитывает приговор. Потом в зал входят солдаты и уводят графа на каторгу. Все проходит торжественно и очень красиво.
– Торжественно и очень красиво? – стынет от восторгов Авнера Эфраим.
– Честное слово, – клянется нищий. – Мне бы так!..
– Как? – глядя на нечесаный хвост лошади, спрашивает Шмуле-Сендер. Рассказ Авнера всколыхнул у него в душе гордость за своего белого Берла. У белого Берла никто никогда не сорвет его эполет, не отнимет его саблю. За белым Берлом никогда не придут солдаты – разве что им срочно понадобятся самые точные часы в мире.
– А вот так, – говорит нищий, – чтобы за столом восседали полковники или генералы… и чтобы эти… как их… канделябры горели над головой… и чтобы не хромоногий Аба из хевракадишим – погребальной братии – явился за мной, а солдаты с ружьями наперевес…
– Побойся бога! – Шмуле-Сендер на миг расстается со своим белым счастливым Берлом. – Где это слыхано, чтобы еврей мечтал о солдатах с ружьями наперевес?..
– Ты ничего не понимаешь, Шмуле-Сендер, – горестно упрекает его нищий. – Если жить нельзя по-графски, то хоть по-графски умереть!..
Если бы не эта беда, думает Эфраим, если бы не злосчастный Гирш, стрелявший в генерал-губернатора, можно было бы так ехать и ехать, толковать о том о сем, вышучивать друг друга, острить, рассказывать всякие побасенки.
Что за сила заключена в дороге! Да, еврей счастлив только в дороге – на колесах ли, на пароходе ли, в мечтах ли (разве мечты – не та же самая дорога?). Может, потому и кочует он из края в край, из города в город, что нет у него своей земли, своего угла? Правда, и в дороге его оттирают на обочину, чтобы не мешал другим. Но для еврея и обочина – дорога. Спасибо и за обочину, думает Эфраим, только бы в ров не столкнули…
Ах, Гиршеле, Гиршеле, вздыхает он, не захотел ходить по обочине, вот и свалился в яму. Одному богу известно, удастся ли ему выкарабкаться оттуда живым. Явиться бы в военно-полевой суд, к подполковнику Смирнову и сказать бы: «Меня судите, господин подполковник! Меня! Вот вам мои эполеты! Вот вам моя сабля!.. Не смейтесь, не смейтесь, господин подполковник. У каждого человека есть свои эполеты и своя сабля. Даже у старого еврея-каменотеса. Только не все их видят, потому что они не на плечах, не на боку, а под кожей… Под кожей, господин подполковник! Велика ли радость видеть то, что видят все. Радость увидеть то, чего никто не видит. Не все ли вам равно, кого присудить к смерти… кого вздернуть на виселице… Ведь завтра… послезавтра вы забудете и лицо смертника, и его имя. Какая вам разница – Гирш Дудак или Эфраим Дудак? Впишите в свои бумаги Эфраим Дудак. Считайте, что это я стрелял в генерал-губернатора, и ваша судейская совесть будет чиста. Вы же приговариваете к смерти не живых преступников, а неживое преступление. У него нет глаз, нет крови, ибо если после каждого приговора вы, господин подполковник, представите себе веревку на живой шее и пулю в живом мясе, то вы сойдете с ума… Преступление – это я, Эфраим Дудак. У меня уже нет глаз, нет крови. А Гирш Дудак еще мальчик, маленький глазастый мальчик, не слыхавший ни о генерал-губернаторах, ни о евреях и неевреях, ни о бунтах и ни о погромах, ни о черте оседлости, ни об Америке и ни о земле обетованной, ни о судах и ни о тюрьмах; он еще маленький мальчик по прозвищу Гиршке-Копейка; он еще лазит в сад урядника Ардальона Игнатьевича Нестеровича, самого лучшего урядника и почтаря в Российской империи; он еще таскает за косу свою сестру Церту; он еще ходит к меламеду Лейзеру в хедер, и меламед Лейзер сечет его розгами за то, что тот ему, своему учителю, в бане вместо веника жгучую мишкинскую крапиву подсунул; он еще маленький мальчик, он еще растет. Не мешайте ему, господин подполковник, и он перерастет виселицу и дорастет до неба. Не мешайте!
Никто из них толком не знает, как проходит военно-полевой суд. Надо запастись терпением, доехать до Вильно, а там Шахна все растолкует, все объяснит. Эфраим, как зеницу ока, хранит адрес сына – Большая, 10. Большая улица, на которой живет большой человек. Так и должно быть: на маленьких – маленькие, на больших – большие. Шмуле-Сендер зря выхваляется своим белым Берлом. В Америке что – только шевели мозгами, только подкарауливай удачу, она там расхаживает, как городовой; там, в Америке, нет черты оседлости и евреев нет, то есть евреи имеются, но они – и Берл Лазарек в их числе – уже как бы неевреи… а американцы… евреи те, кого бьют… (так в своих письмах пишет Берл). А тут, в Мишкине ли, в Россиенах ли, в Вильно ли – уж о Киеве и Одессе говорить нечего – еврей вроде бы и не человек. Какой-нибудь исправник Нуйкин может среди бела дня ни за что ни про что схватить тебя за бороду и ради потехи водить по местечку, как медведя; и не смей эту бороду выдергивать – улыбайся, улыбайся, улыбайся, благодари за честь и внимание.
Будь Шахна в Америке, он бы не часами торговал, а с его головой стал бы…
Тарахтение телеги мешает Эфраиму придумать, кем бы стал его Шахна.
Впереди скребет своими верхушками небосвод мишкинская пуща.
Телега въезжает в нее, и нищий Авнер на всякий случай пододвигается поближе к Эфраиму. Силен старик, силен! Восемьдесят лет минуло, а сил словно не убыло, а даже прибавилось. Что из того, что сила его покрыта морщинами, припорошена инеем. Ведь и он, Авнер, и Шмуле-Сендер белы как снег.
В лесной тишине скрип телеги напоминает крик коростеля.
– В дороге, – говорит Авнер, – хорошо думать или что-нибудь уминать.
– Хочешь есть? – спрашивает Шмуле-Сендер, ведающий, как муж Фейги, провиантом.
– Нет. Я хочу думать, – скалит редкие зубы Авнер.
– Думай. Кто тебе мешает? – милостиво разрешает водовоз. – Думай. Мыслей у человека всегда больше, чем харчей.
– А я хочу думать вслух, – говорит Авнер.
– Думай вслух, – соглашается Шмуле-Сендер. Доброте его, кажется, нет ни конца, ни края. Ему хорошо. Ему очень даже хорошо. И едет он не по лесу, а по нью-йоркской улице (стрит, как пишет белый Берл), и с каждым поворотом колеса все ближе дом, на котором, как письмена на синагоге, золотом сияет вывеска: «Мистер Берл Лазарек. Лучшие часы в мире!» О чем бы Авнер ни думал, он, Шмуле-Сендер, не может остановить своего движения к этой благословенной вывеске, к этим золотым письменам, каждая буковка которых горячит и убыстряет в высохших жилах кровь. Лучшие часы в мире, беззвучно хвастается Шмуле-Сендер перед необозримой мишкинской пущей. Лучшие часы в его, Шмуле-Сендера, жизни. Как бы хотелось ему перед смертью припасть к ним законопаченным невзгодами ухом, услышать их тиканье, а потом… А потом ничего, ничего не страшно. Потом пусть время остановится, как остановились эти гордые литовские деревья.
– Что же ты, Авнер, не думаешь? – подхлестывает нищего Эфраим.
– Думаю, думаю, – приговаривает Авнер. – Думаю, почему я не с ними, а с вами?
– С кем… с ними? – удивляется Шмуле-Сендер.
– С деревьями, – отвечает нищий. – На свете вон сколько всяких народов и племен: и русские, и литовцы, и поляки, и мы…
– Ну? – предвкушает что-то сладкое, как изюм, Шмуле-Сендер.
– Мог же я, скажем, родиться ольхой… или ясенем… или кленом…
– Родиться ольхой… ясенем? – Шмуле-Сендер отпускает вожжи, поворачивается к Авнеру и Эфраиму, и кнутовище с измочаленной конопляной плеткой застывает в его руке вопросительным знаком.
– Если бы всевышний перед моим рождением спросил меня: «Авнер Розенталь! К какому роду-племени ты желаешь принадлежать?» – я бы ему ответил: к роду-племени деревьев.
– Тебе хочется всех пережить? – спрашивает Эфраим.
– Нет. Я хочу жить, как дерево…
– Ничего не чувствовать? – допытывается Шмуле-Сендер.
– Нет. Я хочу шуметь листьями, тянуться к небу, весной зеленеть, осенью желтеть… хочу, чтобы белка жила в моем дупле… Белка, а не печаль… И чтобы дятел долбил мою кору. Дятел, а не срам… не посох нищего…
– Ну что ты, Авнер, – нескладно утешает его каменотес Эфраим. Слова нищего, как угли. Эфраим перебрасывает их из сердца в голову, как из одной руки в другую, но они все равно жгут. Дерево Розенталь, думает Эфраим. Дерево Лазарек. Дерево Дудак. Дерево Мандель.
– А если тебя, Авнер, срубят? – сверлит нищего недобрым взглядом Шмуле-Сендер. Что за чушь он несет? Принадлежать к роду-племенн деревьев? Да деревья все одинаковые, нет среди них ни одного белого Берла, торгующего самыми лучшими в мире часами, нет ни одного Шахны, посылающего отцу каждые полгода два червонца. Правда, дерево… ясень… клен… не убежит с проезжим фармазоном. Дуб или вяз не станут палить в генерал-губернатора. Но сколько их, этих убегающих и палящих? Сколько? Раз-два и обчелся.
– Корень всегда останется. От корня новое дерево пойдет, – говорит Авнер.
– Значит, твой народ… народ евреев тебе не нравится? – пытается вытянуть затекшие ноги Эфраим.
– Нравится. Мне все народы нравятся. Все. Но лучше быть ольхой… А теперь, Шмуле-Сендер, скажи-ка своей гнедой «Тпру». Пора помочиться.
– Тпру, – как спросонья выкрикивает водовоз. – Тпру.
Все трое слезают и, отойдя друг от друга шагов на десять, заскорузлыми пальцами принимаются расстегивать свои видавшие виды портки.
Вечереет.
Лошадь осторожно ступает по лесной дороге. Мишкинская пуща вплотную подходит к телеге. Слышно, как о грядку чиркают мохнатые ветки елей и сосен, и пахучая, никогда не вянущая хвоя осыпается на седоков. Нет-нет да упадет тугая ядреная шишка, начиненная неземным смыслом.
Какой-то тревожный гул, то затихая, то нарастая, преследует телегу через всю пущу, и от этого размеренного, неумолчного гуда глохнет не только озвучивающий мысль голос, но и сама мысль.
– Она что, быстрее не может? – ежась от наступившей темноты, корит Шмуле-Сендера Авнер. – Тащится, как мертвая.
– Разбойников боишься? – подзуживает его Шмуле-Сендер.
– Я? Разбойников? Хи, хи, хи, – смеется Авнер, и снова мелкие козьи орешки сеются на дорогу. – Это разбойники, кецеле, нищих боятся. Говорят, напал однажды разбойник на нищего и замертво упал: стерег, стерег, а у бедняги карман в дырах. Вот когда, бог даст, твой Береле по этой пуще из Нью-Йорка поедет!..
– Да чтоб у тебя язык к зубам присох, дурень ты несчастный! Больше я у тебя ни одной горсти изюма не куплю!.. Ни одной пригоршни мака! К Славину пойду!
– Напугал!
– Мой Берл, да будет тебе известно, поедет не вечером, а днем, и не на телеге…
– А на чем?
– На самоходной карете. Понимаешь?
– Самоходной кареты и у графа Завадского нет – откуда она у твоего Берла? – по-купечески торгуется Авнер. – И вообще, что это такое?
– Это, – у Шмуле-Сендера ломается голос, и он долго не может его сплавить. – Это, – выдавливает он. – Это, Авнер, сто разбойников! Двести, – добавляет возница на всякий случай. – Вернемся домой, тебе покажу…
– Что?
– Берл фотографию прислал. Стоит рядом с этими двумястами разбойниками и улыбается.
Ясное дело – до Россиен им сегодня не добраться. Придется заночевать в каком-нибудь местечке. Одно счастье, местечек по тракту рассыпано столько, сколько звезд по небу, и всюду, слава богу, евреи живут; литовцы, те больше в деревнях держатся. Лучше всего скоротать ночь в синагоге. Как ни приветлив хозяин заезжего дома, господь приветливей. Только бы достучаться, добудиться бы… Иной служка дрыхнет, как рак зимой: жив, но в сон, как в лед, закован.
На худой конец можно дождаться утра под открытым небом, поблизости от жилья. На дворе – май, теплый, домовитый.
Эфраим, как и лошадь Шмуле-Сендера, может спать стоя. Ему бы только к чему-нибудь прислониться – к стене ли, к дереву ли, или к срубу. Эфраим привалится к грядке телеги и заснет, затокует носом, как тетерев. Шмуле-Сендер и Авнер пускай лягут на днище – поместятся. Авнер – щуплый, легкий, как комар, и Шмуле-Сендер не богатырского сложения, отцу его, Шолому Лазареку, портному, ниток, говорят, не хватило, чтобы сшить первенца покрупней да пошире. Завтра Эфраим велит им вернуться назад. Спасибо, скажет он, что столько были с ним, что аж до Россиен проводили, добрым словом душу согрели. Эфраим и гнедой спасибо скажет. Подойдет и поцелует ее в усталую морду. Лошадь Шмуле-Сендера любит целоваться, как женщина.
Попрощается он с ними и попросит, чтобы передали они поскребышу Эзре, что подался он, Эфраим, сперва в Вильно, потом, когда навестит Шахну и Гирша – в Киев, к Церте. Мол, явился к нему не кто-нибудь, а сам всевышний и благословил в дорогу.
Мол, сказал ему, как в незапамятные времена праотцу Аврааму: «Встань и иди». И вот он, Эфраим, пошел.
И еще пусть передадут поскребышу Эзре, чтобы бросил свое скоморошье житье и перебирался в Мишкине, в отцовский дом, только без Дануты. Он оставляет ему все имущество и все свои орудия: кирку, лопату, зубила, долото; он оставляет ему мостовую и кладбище, где столько воздвигнутых им, Эфраимом, надгробий. Да приумножит поскребыш Эзра собственную славу и славу отца!
И еще попросит Эфраим своих сотоварищей Авнера и Шмуле-Сендера, чтобы передали поскребышу Эзре: пусть он безвозмездно каждому из них после смерти камень на могилу поставит, ибо нескоро, ох, как нескоро пожалует из своей Америки белый счастливый Берл, снявшийся возле самоходной кареты, которая страшней, чем сто разбойников. У нищего Авнера, у того вообще никакой родни, никого, даже ольхи в мишкинской пуще нет.
Авнеру и Шмуле-Сендеру надо вернуться домой. Эфраим их помощь век не забудет. И он бы им помог, попади они в беду. Разве Эфраим не собирался обучить своему ремеслу Авнера? Но Авнер разок-другой долбанул киркой камень и сказал: «Лучше по миру ходить».
Телега въезжает в сонное глухое местечко.
Скрип колес дразнит чью-то собаку, которая заливается громким и неприветливым лаем.
– Синагога там, – показывает Авнер рукой на пригорок. Рука нищего плавает в темноте, как голавль.
Нищий всю округу знает. Бывал он, видать, и в этой молельне.
К удивлению Эфраима, дверь синагоги открыта.
А чего, собственно, ее запирать, думает Эфраим, ступая по щербатым, вытоптанным смиренными подошвами богомольцев половицам. Кто позарится на ржавый подсвечник?
Дом, где обитает бог, ловит себя на мысли Эфраим, сам себя стережет. Он не может быть заперт.
Запирайте свои чуланы, свои хоромы, свои дворцы, неизвестно к кому обращается в мыслях Эфраим, а на дом, где живет бог, не смейте вешать засовы!
– Ты, Эфраим, сюда ляг, – голавль подплывает в темноте к деревянной лавке. – А я заберусь на биму… на амвон…
– Грех, Авнер, храпеть на биме, – журит Эфраим нищего. – А где Шмуле-Сендер?
– Наверно, в телеге спит… Или лошадь привязывает, – отвечает Авнер. – А теперь, Эфраим, давай делать то, что мне больше всего нравится на свете.
– А что тебе больше всего нравится на свете?
– Спать, Эфраим. Когда спишь, то чувствуешь себя человеком. А когда просыпаешься – нищим. А тебе?
– Что – мне?
Эфраим растягивается на синагогальной лавке, подкладывает под голову свои пудовые кулаки, закрывает глаза, и темнота, словно пар в бане, обволакивает его теплом, покоем и тайной.
– Тебе что нравится? – терзает Эфраима неугомонный Авнер. Он стоит на амвоне лицом к востоку, к священной торе, как мудрейший из мудрых рабби Авиэзер, и сумрак смывает с него все: и старость, и нищенство, и одежду.
– Не знаю, – говорит каменотес.
– Восемьдесят лет прожил на белом свете и не знаешь, что тебе на нем нравится и что нет.
– Что не нравится, я знаю, – басит Эфраим.
– А что тебе не нравится?
– Давай лучше спать.
– Если не ответишь, глаз не сомкну. Буду ворочаться с боку на бок (где он там на амвоне будет ворочаться?) и гадать, что на белом свете не нравится Эфраиму Дудаку.
– Твои вопросы не нравятся.
– А еще?
– Еще? – зевает Эфраим. – Всего и не перечислишь.
– А ты одно назови, – требует Авнер. – Одно.
– Жизнь, Авнер. Жизнь.
– Вся жизнь?
– Вся.
– Не может быть!
– Может.
– Разве ты никогда не был счастлив?
– Спи!
– А мне, Эфраим, не нравится только половина… ну та, что после пожара… А до пожара нравилась, очень даже нравилась… И тебе – только не говори неправды! – нравилась, пока Лея не померла… пока Церта не сбежала из дому… пока Гирш не угодил за решетку… У каждого свой пожар…
Эфраим не откликается, лежит молча, прислушивается. Дождь вроде бы пошел. Кажется, по крыше бросились врассыпную напуганные коршуном цыплята.
Дождь все усиливается. Теперь по крыше уже не цыплята бегают, а куры.
Нищий Авнер стоит на амвоне незнакомой синагоги и молится. Странная это молитва. Ухо Эфраима различает в ней не только имя создателя, но и перечень всех товаров, которыми когда-то, в допожарной жизни, торговал розовощекий бессмертный Авнер Розенталь – изюм, корица, чай, марципаны, уксус, оливковое масло, леденцовые петушки, соль, мак, имбирь.
– И еще ниспошли мне, господи, не гонтовую, а несгораемую жестяную крышу и стены не из дерева, а из огнеупорного железа. Разве не в твоей воле все вернуть на круги своя – и птиц, и людей, и ветер? Верни меня туда – в ту, допожарную, половину моей жизни, одари меня детьми… Сыном и дочерью… Дочерью и еще дочерью… Их, этих нищих, ты же одарил… чем же я тебя прогневил, господи?
– Говори, говори да не заговаривайся, – басит Эфраим. – Это мы-то со Шмуле-Сендером нищие?








