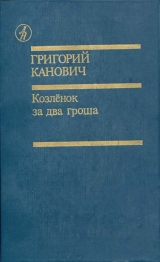
Текст книги "Козленок за два гроша"
Автор книги: Григорий Канович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Авнер молчит.
– Мы?
– Ты не спишь? – откликается нищий.
– Ах, Авнер, Авнер! – корит его Эфраим. – О чем ты его просишь?
– А о чем его просить? – слова Авнера падают в темноту крупными дождевыми каплями. Такое ощущение, будто он стоит не на амвоне, а по щиколотку в студеной воде, которую не вычерпать ни до утра, ни до конца жизни. Вода все прибывает и прибывает, и Авнер боится, чтобы Эфраим не услышал, как она хлюпает под ногами.
– Бог, Авнер, не лавочник.
– Но тот, у кого собственная бакалея, – бог… пусть на одной улице… пусть в одном местечке…
В молельню входит Шмуле-Сендер.
– Хлещет, как из ведра, – говорит он в темноту. – Жалко лошади.
Он снимает мокрую рубаху, потом – штаны и остается в одном исподнем. Фигура Шмуле-Сендера белеет в темноте, как привидение.
– Вы где? – спрашивает он.
– Я здесь, – отзывается Эфраим. – А ты что такой белый?
– Я не белый. Я – мокрый.
– Сразу обиделся, – подливает масла в огонь Авнер. – Ну, как лошадь?
– В порядке, – отвечает Шмуле-Сендер. – Только подкова болтается на правой передней… Ухналь вылетел…
– Эй вы, ухнали, подковы, давайте спать! – ворчит Эфраим.
Дождь по-прежнему долбит крышу.
Авнер чувствует, как у него слабеют ноги, он опускается на настил орен-койдеша, упирается спиной то ли в ножку пюпитра, то ли в дощатую перегородку, и сон настигает его врасплох, как смерть. Он разевает рот, и из гортани, как из чайника с отпаявшимся носом, с шумом вырывается хриплый отчаянный клекот.
Шмуле-Сендер сердится на дождь. Сквозь перестук капель водовоз совсем не слышит своей лошади (он привязал ее почти к синагогальной двери). Да и в синагогальном оконце, куда он выглянул, ничего, кроме полос дождя, не видно.
– Спокойной ночи, орлица моя, – говорит Шмуле-Сендер и вбредает в сон, как в реку – сперва по пояс, потом по шею, потом вода смыкается над его головой.
Там, на дне, вместе со Шмуле-Сендером плавают его орлица, его верная, как Фейга, гнедая, его усталая, как гнедая, Фейга, его счастливый Берл, который гоняется в воде за часами, как за рыбами, и их, этих часов, видимо-невидимо, с чешуйчатыми циферблатами, с цепочками-плавниками, и все они дружно, в лад тикают – тик-так, тик-так, тик-так.
Тик-так, тик-так.
– Что это? Кровь? Сердце? Эфраим ворочается на лавке, лавка твердая, на ней только праведникам спать. Тик-так, тик-так.
Эфраим чувствует – время тикает в нем. Время. Все тише и глуше. Через год-другой тикание это прекратится. Но кроме времени, что тикает в человеке, есть еще другое время. Оно, как ходики – не внутри, а вне его. Когда ходики останавливаются, их снова заводят. О, если бы можно было так заводить то время, что внутри нас! Эфраим завел бы всех – начиная от прабабки Черны и кончая любимицей Леей. Есть еще – в утешение смертным – и третье время, которое не движется, но идет им навстречу. Эфраим знает: в том, третьем времени пока нет ни одного мертвого, там пока никто никого не судит, никого не вешают, там нет никаких границ, никакой черты оседлости. То третье время – будущее, которое, увы, живым не принадлежит.
Светает.
В богоугодное оконце молельни струятся первые лучи чужого восходящего солнца.
– Эй, есть тут кто? – сквозь сон Эфраим слышит чей-то голос.
– Есть.
– Доброе утро, евреи, – почему-то во множественном числе приветствует Эфраима сухопарый синагогальный служка с лицом и глазами всем надоевшей кошки.
– Доброе утро, – отвечает Эфраим.
– Это ваши телеги? – по-прежнему во множественном числе допытывается служка, и кошка прыгает на грудь Эфраима.
– У нас одна телега, – терпеливо и вежливо объясняет ему каменотес.
– А лошади где?
– Какие лошади?
– Ваши.
– У нас, почтенный, одна лошадь.
Просыпается нищий Авнер.
Из глыбы сна выныривает облепленный чешуей американских рыб-часов Шмуле-Сендер.
– Наши лошади во дворе, – говорит Шмуле-Сендер, предчувствуя что-то дурное и незаметно для себя переходя на множественное число.
– Ваших лошадей во дворе нет, – говорит синагогальный служка, и принимается шарить по углам молельни, словно в каждом припрятано по гнедой.
– Что вы там ищете? – не выдерживает Авнер.
– В писании сказано: раз есть телеги, должны быть и лошади. Я вас спрашиваю, где ваши лошади? Вы что, днем сами впрягаетесь, а на ночь распрягаетесь?
И тут бедного Шмуле-Сендера осеняет. Он вдруг бросается к двери, распахивает ее с таким неистовством, словно синагога – не синагога, а конюшня.
Эфраим видит, как водовоз бежит в исподнем по двору, падает, встает, закатывает на ходу белые штанины, добегает до телеги, из которой сам вчера выпряг лошадь, хватается за оглоблю, потом за другую, поднимает с земли кнут и начинает в какой-то слепой ярости хлестать себя по лодыжкам, по спине, снова по лодыжкам, промеж лопаток, как веником в бане.
– Шмуле-Сендер! – кричит Эфраим и выбегает во двор. – Шмуле-Сендер!
Водовоз полосует себя с прежней, если не с большей яростью, отшвыривает в изнеможении кнут, напяливает на себя потертый хомут, который когда-то купил у шорника Меира, минуту стоит неподвижно и вдруг с разбега, с пылу-жару бодает головой грядку телеги и, вскрикнув от боли, падает на мокрую от дождя землю. Хомут натирает шею, Шмуле-Сендер пытается освободиться от него, но голова его никнет, он только успевает лизнуть губами мокрую майскую траву. Уткнувшись в нее, водовоз плачет, и плач его похож на предсмертный хрип гуся, которого прирезал резник Гедалье.
– Отец небесный! – стонет Шмуле-Сендер. – За что? За что?
Эфраим подходит к нему, опускается на колени и шепчет на ухо:
– Вставай, Шмуле-Сендер. Вставай.
– Что я скажу Фейге? Что я скажу Фейге? – причитает бедняга.
– Скажешь ей: здравствуй, кецеле, – утешает его нищий Авнер, – Твоя Фейга что – военно-полевой суд? Она тебя что – к смерти приговорит? Ты бы подумал лучше, что о тебе скажет твоя лошадь?
– А что она скажет? Что? – растирает ладонью слезы по лицу Шмуле-Сендер.
– Их, наверно, Иоселе-Цыган увел, – говорит синагогальный служка, но так осторожно, будто ступает по перекинутому через реку бревну.
– Иоселе-Цыган? А кто он такой? – с надеждой спрашивает Эфраим, помогая Шмуле-Сендеру встать.
– Иоселе-Цыган – это Иоселе-Цыган, – уклончиво и на сей раз в единственном числе объясняет служка. – О его подвигах можно рассказать столько, сколько о всех царях иудейских!
– Конокрад? – подсказывает ему Авнер.
– Всем конокрадам конокрад, – беззлобно, даже с похвалой, говорит служка. – Еврейки еще таких на свет не рожали.
– А как его найти? – не отчаивается Эфраим. Он чувствует себя виноватым перед Шмуле-Сендером. Зачем он согласился поехать на его телеге? Надо было сразу отрезать: «Нет!» Эфраим и без его помощи добрался бы до Россиен, а оттуда на плотах по рекам, на поезде и до Вильно. Шмуле-Сендер умрет, если не найдет свою лошадь. Он и недели без нее не протянет. Он только ради них и живет – ради нее и Берла.
– Как найти? – моргает кошачьими глазами служка. – Прошлый раз его в трактире поймали, а перед праздником кущей в Кельмах на базаре.
Шмуле-Сендер стоит ни жив ни мертв, хомут висит у него на шее, и водовоз – надо же! – нестерпимо похож на свою клячу. Кажется, он вот-вот заржет или фыркнет, и по морде потечет белая, теплая, как парное молоко, пена.
– Горе мне! Горе! – нараспев жалуется он и снова хватается за оглобли, пытаясь сдвинуть телегу с места. Он тужится, и Авнер то ли из жалости, то ли из старческого озорства налегает на задок.
– В трактир! – выкрикивает он. – На базар! В Кельмы!
Колеса крутятся, телега скользит по мокрой траве, Шмуле-Сендер не в силах удержать оглобли; еще миг, и он будет распят на них, воз скрипит, Шмуле-Сендер трусит мелкой рысью, горбится, а Авнер покрикивает:
– Вперед! Вперед!
– Стойте! Стойте! – ярится Эфраим, но в ответ он слышит громкое и недовольное фырканье.
– Нет! – хрипит Шмуле-Сендер. – Кто я без лошади? Кто она без меня?
– Впрягайся, Эфраим, – подзадоривает каменотеса нищий. – Ты – коренник! Коренник!
– Да вы совсем спятили! – кричит Эфраим. Ноги у него вдруг молодеют и, как две гончие за дичью, бросаются за бегущим Шмуле-Сендером, настигают его, Эфраим вырывает у него оглобли, отталкивает несчастного Шмуле-Сендера; катящаяся телега утыкается в чей-то ивовый плетень, синагогальный служка и Авнер, как зачарованные, глядят то на водовоза, то на Эфраима.
Каменотес снимает со Шмуле-Сендера хомут, и в хомуте, как в выбитом окне, всходит яркое утреннее солнце.
– Мы найдем его, – уверяет Эфраим Шмуле-Сендера.
– У меня не он, а она, – бормочет тот.
– Да я не про лошадь… я про этого Иоселе-Цыгана. Только попадись он мне в руки!
– Ааа… – отрешенно, почесывая затылок, говорит Шмуле-Сендер. – Как же твой Гирш?
– Беда – не дерево. Мимо не проедешь.
К Эфраиму и Шмуле-Сендеру подходят синагогальный служка и Авнер.
– Не горюй, – говорит нищий. – Берл пришлет тебе из Нью-Йорка заместо твоей клячи рысака…
– А зачем мне, Авнер, рысак? – равнодушно спрашивает Шмуле-Сендер и озирается по сторонам.
А вдруг этот Иоселе-Цыган передумает и вернет ему лошадь. Ведь только в песне она – орлица. Только в песне. А на самом деле – чахоточница, и печенка у нее больная, и бельмо на правом глазу, и клещ в хвосте. Да за нее в базарный день и целковый не дадут. Уж если этот Иоселе-Цыган не может не красть, пусть уводит орловских из конюшни графа Завадского.
– Как зачем тебе рысак? – удивляется Авнер. – Разве твою клячу можно сравнить с породистым жеребцом?..
– Моя кляча – это… это… – Шмуле-Сендер, как годовалый ребенок охотится за единственным нужным словом. Слово рядом, но оно как назло не дается ему, хоть кричи. – Это ты, Авнер!..
– Я – кляча? – от удивления сморщенное лицо Авнера как бы разглаживается, и дерзкая бороденка становится еще наглей.
– Ты… И Эфраим… И все три его жены… И Фейга… и корчмариха Морта… и рабби Авиэзер… и прежний рабби – Ури… и несчастный Семен… И урядник… И Нехама…
– На тебя, что, икота напала?
– Все, которые пили нашу воду… Рысак – это не то… это – Америка… Понимаешь, Америка… А мне не хочется менять бедную Литву на богатый Нью-Йорк… Поздно мне менять воду. Поздно, Авнер!
– Но ты же давно не возишь ее, – выпячивает губу нищий.
– Я ее пью, Авнер.
– Ну и что?
– Пью…
– А откуда тебе известно – может, там вода в тысячу раз лучше, чем наша.
– Лучше, Авнер, не та, что вкусней, а та, что своя.
Странное оцепенение охватывает всех при последних словах Шмуле-Сендера. Столько лет – если не считать этого служки, который почему-то все вещи называет только во множественном числе – они прожили рядом, друг у друга под боком и не знали, что Шмуле-Сендер – пророк. Иеремия! Иезикииль! Осия! Амос!
– Вот когда своей воды нет, то лучше та, что лучше, – тихо говорит Шмуле-Сендер.
И снова озирается. Если бы не озирался, и впрямь бы походил на пророка.
Но он вертит своей птичьей головой и вертит.
Может быть, Иоселе-Цыган опомнится – он хоть конокрад, но еврейское дитя, а еврейское дитя не должно быть жестокосердным и беспощадным к старости, к чужому горю! – может, оттуда, из мишкинской пущи или из этой синевы, расплескавшейся над головой, шлепая гнедую по облезлым бокам, вылупится всадник, прискачет во двор синагоги с повинной, и все они – Эфраим, Шмуле-Сендер, Авнер и этот сухопарый служка с повадками приблудившейся кошки, простят его и отпустят с миром, потому что не от хорошей жизни умыкает он, видно, лошадей. Конечно, не от хорошей жизни. От хорошей жизни ездят, как граф Завадский, в Париж, от хорошей жизни режутся с исправниками в карты, как лесоторговец Маркус Фрадкин, от хорошей жизни покупают самоходную карету, которая страшнее ста разбойников, от хорошей жизни сидят дома, а не пускаются в такой далекий путь, как в Вильно.
Шмуле-Сендер не только взглядом, но и головой буравит синеву, и мнится ему, будто легкая и голубая, сотканная из воздушного ситца бродит по небу его гнедая. Шаг ее быстр и игрив; вприпрыжку за ней бежит жеребенок, только у него почему-то не четыре ноги, а две; круп лоснится в лучах солнца, шея вытянута; глаза сверкают; он счастливо – на весь мир – ржет, и ржание его, как гром, катится над мишкинской пущей, над местечком, над родным домом Шмуле-Сендера, и чем дальше водовоз смотрит, тем гуще синева, тем отчетливей сходство двуногого жеребенка с ним, далеким, уже немыслимым, почти не существовавшим на свете.
– Смотрите, – говорит Шмуле-Сендер, тыча пальцем вверх. – Смотрите!
Три пары глаз впиваются в небосвод.
– Смотрите! – сквозь слезы повторяет Шмуле-Сендер.
– Ну, что ты там увидел? – тревожится старик Эфраим.
– Смотрите!
– Он с ума сошел, – говорит Авнер. – Подумать только, из-за старой кобылы… из-за простой клячи… А как же я, погорелец? Как же я, нищий? Как же ты, Эфраим, несчастный отец?.. – И после паузы добавляет – За день – особенно если он базарный – можно собрать полтинник. Сегодня четверг… как раз базар в Немакшчах. Давайте…
– Что? Вы хотите поймать Иоселе-Цыгана? Так это все равно, что ловить прошлогодний ветер, – гундосит служка, забыв про множественное число.
– Давайте соберем Шмуле-Сендеру на новую клячу, – выстреливает Авнер, и тополя во дворе синагоги согласно кивают в ответ.
IVДо 14-го номера, как в обиходе называли между собой жандармы Виленскую политическую тюрьму, было версты три, не больше, но Ратмир Павлович почему-то решил нанять извозчика. У него, видимо, были на то свои соображения – Князев никогда ничего не делал наобум! – но какие именно, его толмач Семен Ефремович не знал. Может, из Петербурга потребовали срочного расследования дела и быстрого наказания преступника? Шутка ли – покушались на самого генерал-губернатора Северо-Западного края, приближенную к царствующему дому особу, любимца государя. Может, Ратмир Павлович просто решил перед допросом собраться с мыслями – по своему опыту он знал, как трудно, как дьявольски трудно уломать таких арестантов, как Гирш Дудак, напоминающих скорее библейских мучеников, чем сапожников с Завальной улицы. Они не увиливают, не лгут, а только молчат. Молчат день, неделю, месяц, пока их молчание не переходит в неподсудное безмолвие смерти. А может, Князеву не хотелось ехать в жандармской карете или тащиться на ночь глядя пешком через весь город по другой причине. Не ровен час – и тебя могут свинцом попотчевать.
Тюрьма, конечно, не ресторан «Европа», не бега в Шнипишках, не офицерское собрание, в тюрьму можно не спешить. Тем не менее, как понимал подавленный Семен Ефремович, дело не терпело отлагательств.
Извозчика пришлось ждать чуть ли не полчаса. Ратмир Павлович начал было уже злиться, как вдруг со стороны Завальной прямо к тротуару подкатила пролетка с открытым пологом. Князев забрался в нее, откинулся на сиденье и взглядом поторопил Семена Ефремовича.
– С богом, голубчик, – не то извозчику, не то усевшемуся толмачу бросил полковник.
– Куда прикажете, ваше высокоблагородье?
– В Виленскую политическую тюрьму.
– Слушаюсь, ваше высокоблагородье, – ответил извозчик и мысленно распрощался с полтинником – разве посмеешь просить у жандарма плату за проезд!
Лошадь зацокала по булыжнику.
То ли от этого цоканья, то ли от мерцания звезд, пыливших над головой и заглядывавших под полог пролетки, Ратмир Павлович расслабился, сбросил с себя томившее его весь день напряжение. Он глазел на свои начищенные до блеска сапоги – может, это из-за них он решил взять извозчика? Накануне в Вильно прошумел щедрый майский ливень, и на улицах было полно луж и грязи. Князев глазел на свои сапоги так, словно на их зеркально сверкавших голенищах, на старательно надраенной денщиком коже, как на древнем пергаменте, отпечатались ответы на все мучившие его вопросы.
Как ни странно, но думал Ратмир Павлович не о государственном преступнике Гирше Дудаке, не о генерал-губернаторе, приходившемся ему, Князеву, дальним родственником по линии жены – седьмая вода на киселе! – а о себе. Жизнь прожита, а похвастать нечем. Погоны? Спори их, и ничего не останется. Важны не те, что на плечах, а те, что под кожей.
Поначалу, когда Князеву предложили ехать в Вильно, в столицу Северо-Западного края, он очень и очень обрадовался. Посылают не куда-нибудь, не в тьму-таракань, не к азиатам, не к кавказским горцам, а в Европу. Конечно, и там, наверно, имеются недовольные. Но недовольный европеец не чета разгневанному азиату или горцу. В Вильно на тебя из-за угла не нападут, кинжал в спину не всадят, не прирежут, как барана, не накинут на голову овчину и не угонят в горы. Вильно – Европа.
Так было поначалу. Но потом, потом все как бы опрокинулось, смешалось, сместилось. Теперь уже Ратмиру Павловичу преимущества Вильно – Европы не казались такими бесспорными и безоговорочными, как прежде. Хороша Европа, состоящая почти наполовину из иудеев!
Что и говорить, тут и портные получше, и лавки побогаче, и женщины – особенно польки! – искуснее в любви, чем в других местах. Но зато какая смесь племен! Какая пестрота! И каждое племя чем-то обижено на государя, ущемлено в своих правах. Поляки, те требуют, чтобы вместо двуглавого орла признали их орла, и сотни лет один орел когтит другого, правда, после мятежа шестьдесят третьего года пястовский орел опустил крылья и клюв его затупился; литвины опять же по своему родному слову тоскуют: позвольте, мол, нам хоть молиться на своем языке! Да разве богу важно, на каком языке молишься? Богу важно, чтобы ты верил. А там хоть по-турецки молись! Потому что вера выше молитвы!..
А евреи?..
Раньше Ратмир Павлович о них слыхом не слыхал. В Томске, где он до переезда в Вильно служил, не было ни одного еврея. По правде говоря, только тут он их впервые и увидел.
Видит бог, Князев не питает вражды ни к какому племени, все под богом ходят, даже эти… ну те, что в Африке живут… зулусы… А вот евреи!.. Ну черт знает, что за народец! Все до единого недовольны. Даже довольные недовольны. И то им не так, и это. Он, Князев, одного из них в том же 14-м номере спросил:
– Вы когда-нибудь бываете довольны?
– Никогда, – ответил узник.
– Но ведь это только свиньи вечно недовольны. Хрюкают и хрюкают.
– Когда все молчат, и хрюканье подвиг.
Каков, а? «Когда все молчат!»
Ратмир Павлович задумался, отвел взгляд от своих хромовых сапог, перевел его на Семена Ефремовича. «Когда все молчат».
И он, его толмач, молчит. Больно ему, а молчит, хоть, наверно, кричать хочется. Ведь не к безродному бродяге едет, а к брату, пусть сводному, но брату.
Ратмир Павлович понимал, чего стоит Семену Ефремовичу его молчание. Не он один молчит – вся Россия молчит от Томска до Вильно, от Черного моря до Белого моря. Что поделаешь: хочешь жить – помалкивай. В цене – не говорящие, а молчащие. Увы, он, Ратмир Павлович, тоже к последним принадлежит. Застрочили ему погонами рот, запаяли орденами уши, заткнули аксельбантами нос, а ему говорить охота, дышать, слышать. Как они там, наверху, до сих пор не уразумели, что наступает новое время. А раз новое время, то и жандармы для него нужны новые, не такие, как при царе Горохе. Нынче куда выгодней обольщать врага, подкупать, обращать в свою веру, чем затягивать петлю на его шее. Лаская, вы отнимете у него больше, чем четвертуя. Кто это сказал? Неужели это он, Князев, придумал? Чего только в голову не приходит по дороге в 14-й номер!
– Брат твой понимает по-русски? – осведомился у примолкшего Семена Ефремовича Князев.
– Да… Кажется, да, – ответил Семен Ефремович, отодвигаясь от полковника, словно само прикосновение к нему могло причинить нестерпимую боль.
– Да или нет? – нахмурился Ратмир Павлович. – Привыкли жить посередке между ними…
– Не знаю… Мы за последние два года с ним ни разу не встречались.
Семен Ефремович глядел поверх головы извозчика на бойкую, знающую назубок все виленские улицы лошадь, и странная мысль весенней почкой набухала в его сознании, и чем ближе они подъезжали к 14-му номеру, тем напористей рвались наружу ее колкие листочки. Снова откуда-то со дна памяти всплыл Беньямин Иткес, мечтавший в детстве стать жеребенком, и эта чужая нелепая мечта вдруг передалась ему, Шахне Дудаку, тут среди громады домов, скучившихся по обе стороны улицы, только с той разницей, что он хотел стать не жеребенком, а лошадью и не в детстве, а сейчас, пока они не доехали до 14-го номера – знаменитой Виленской политической тюрьмы, из которой ни одному узнику еще не удалось бежать. Семену Ефремовичу такое превращение казалось простым и бесценным счастьем – трусить день-деньской по городу, никому ничего не переводить, не врать, не объясняться, не быть предметом пари, а стоять по вечерам где-нибудь в сарае, жевать овес или сено и думать о чем угодно; о том, что на свете нет справедливости, что добро и зло – сиамские близнецы, что отделить их друг от друга, не умертвив, невозможно, а раз невозможно, значит, ничего на свете не имеет твердой цены: то, что вчера стоило дорого, сегодня обесценилось, а завтра, наоборот, вздорожает.
– Как же так? – удивился Князев. – Вы же – братья.
– Братья, – подтвердил Семен Ефремович.
Ратмир Павлович пропустил мимо ушей слова своего толмача и вдруг стянул с себя сапоги, сперва левый, потом правый – пусть ноги отдохнут. Что-то они у него в последнее время отекать стали. Закончит дело Гирша Дудака – и сходит к доктору. К Самуилу Гаркави. Алексей Николаевич Туров, товарищ прокурора, присоветовал.
Сапоги от тряски подпрыгивали, разъезжались; еще миг, и вылетят из пролетки на мостовую.
– Придержи-ка их, голубчик, – попросил Ратмир Павлович Семена Ефремовича.
Семен Ефремович нагнулся, поймал сапоги, поставил на место.
– Не обижайся, – сказал Князев. – Я попросил тебя не как слугу, а как сына. Нет у меня резону унижать тебя. Ей-богу, нет. Ты просто моложе и, стало быть, ловчей.
Шахна улыбнулся, но Ратмир Павлович в темноте не увидел его улыбки. И хорошо, что не увидел. Так улыбается не слуга, не сын, а недруг.
– Чую: последнее это мое дело, – все еще как бы извиняясь, продолжал Ратмир Павлович. Он испытывал потребность в исповеди. Может, потому и нанял пролетку, чтобы прохожие не слышали, чтобы можно было без всякого стеснения разуться и говорить, говорить, говорить, пока не мелькнет фонарь над воротами 14-го номера – Виленской политической тюрьмы. – Размотаю клубок и – в отставку. Дорога Россия, но сердце дороже. Натрудил я его, натрудил. Или ты, как и большинство, думаешь, что у жандарма нет сердца. Есть, Семен Ефремович! Есть! Больное, беспомощное, состоящее в родстве с могилой…
Толмач молчал.
– Ты такого Гаркави знаешь?
– Да. На Новогрудской живет.
– Успеть бы только к нему… Нет, нет, я умирать не собираюсь… это Гаркави собирается в Америку. Ты когда-нибудь задумывался над тем, почему все больше и больше твоих соплеменников покидает русскую землю?.. Не задумывался? А я по долгу службы задумывался… Самый простой ответ – бегут от погромов. Но самый простой ответ – еще не самый лучший.
– А какой самый лучший? – осторожно спросил Семен Ефремович.
– Кабы я знал… кабы ведал… Лучше бы твой братец туда уехал. От твоего братца какая польза? А от доктора!..
Семена Ефремовича не раз поражал в Князеве его интерес не только к истине следственной, жандармской, но и к истине человеческой, первопричинной. Порой от Ратмира Павловича можно было услышать такое, за что он других отправлял в тюрьму и на каторгу. Князев не скрывал – и это вообще не укладывалось ни в какие рамки – своего недовольства существующими порядками, но всегда подчеркивал, что руководствуется при этом не разрушительной ненавистью, а созидательной любовью.
– Ну что ты, Семен Ефремович, все молчишь. Ты бы хоть осудил его…
– Кого?
– Братца своего. Или вздохнул бы для вида… Не потому ли ты так равнодушен, что заодно с ним?
– Ваше высокоблагородье! Он – сам по себе, я – сам по себе.
– Так ли?
– Так.
– Позволь тебе не поверить, – тихо промолвил Ратмир Павлович. К вечеру – видно, от сердечной хвори – голос у него слабел, и слова его разъедала ржавчина хрипотцы.
– Если бы я был заодно с братом, то я бы сейчас сидел не с вами, а с ним, – сказал Семен Ефремович и после паузы добавил: – И сапог бы ваших, как мышей, не ловил…
– Обиделся! Обиделся!
Семен Ефремович счел за благо не отвечать Князеву.
– Почему евреи такие обидчивые? Почему? Нашему брату в морду дашь – только выматерится, вашему дашь, сразу жаловаться начнет соседу, богу, английской королеве!
– По-вашему, мы не имеем права даже на обиду? – Семен Ефремович снова поймал полковничьи сапоги и снова поставил их на прежнее место, поближе к ногам Ратмира Павловича.

– Повиновение не исключает обиду, – сказал Ратмир Павлович и зажал ногами разъезжавшиеся сапоги.
Они проехали мимо костела святого Иакова, миновали площадь, на которой в польский мятеж были повешены его предводители Сераковский и Калиновский, и свернули на глухую, почти не застроенную улицу, упиравшуюся одним концом в каменную ограду тюрьмы.
– Пора обуваться.
Князев, неохотно, кряхтя, натянул сапоги, отдышался.
– Ваше высокоблагородье! Если Гирша Дудака признают виновным… его тоже на этой площади?..
– Не думаю, – серьезно ответил Князев. – Для Гирша Дудака сойдет и военное поле.
Извозчик заерзал на козлах, повернул голову, но, словно обжегшись о наступившее молчание, снова застыл на козлах.
– А где оно, это военное поле? – сделав над собой усилие, спросил Шахна.
Ратмир Павлович осклабился:
– Не будем, Семен Ефремович, загадывать с тобой наперед. Все еще может обойтись Сибирью… Хотя…
– Князев побарабанил пальцами по заскорузлому пологу. – Часа два тому назад мне записку принесли…
– От Гирша Дудака?
– Нет. От палача Филиппьева. Сейчас ты обхохочешься!
– Я уже хохочу, ваше высокоблагородье.
– Филиппьев сейчас тоже в тюрьме сидит.
– Палач – в тюрьме?
– Угодил за какие-то темные делишки. Просит, чтобы его освободили, обещает честным и незапятнанным служением отечеству искупить свою вину.
– Честным и незапятнанным? Честным и незапятнанным? Честным и незапятнанным?
И Семен Ефремович нервно, почти непристойно захохотал.
– Да что с тобой? – опешил Князев.
Но хохот не прекращался.
Ратмир Павлович понимал, что его толмач хохочет не над Филиппьевым – что ему Филиппьев? – а над собой, над собственным бессилием, а может, так выражает свое презрение к нему, своему начальнику, произносящему слово «виселица» так же спокойно, как слово «бог».
– Перестань! Не вижу тут ничего смешного. У каждого свое понимание долга.
– Но кровь, ваше высокоблагородье… Кровь!..
– Неужели ты, голубчик, не знаешь, что легче исполнить свой долг чужой кровью, чем собственной?
– Да, да… Но чужой крови, ваше высокоблагородье, нет, – пробормотал Семен Ефремович. Голос его звучал тихо и потерянно, хохот, видно, вконец изнурил его. – Есть одна кровь… Кровь человечества…
– Ах, вы, бестии! Ах, говоруны! Ах, златоусты! И где этого вы только нахватались? Человечество? Твой братец – не человечество, а обыкновенный убийца. Такой же, как этот Филиппьев, которого я бы с удовольствием сгноил в холодной. Я бы его ни за что не выпустил на волю, но, боюсь, такую записку он послал еще кой-кому… Поэтому…
Пролетка остановилась. К удивлению извозчика, Ратмир Павлович извлек из кармана кожаный бумажник и выудил оттуда полтинник.
– Поэтому, – продолжал Князев, когда они остались одни, – я о просьбе Филиппьева вынужден был доложить по начальству, и мое начальство распорядилось отослать оного Филиппьева в распоряжение вице-губернатора Балясного. Мотай на ус, Семен Ефремович.
– Что?
– Освобождением Филиппьева следствию как бы подается знак. А какой знак, тебе разжевывать не надо. Приговора еще нет, а палач уже назначен.
Семен Ефремович почувствовал, как у него в жалкий колючий комок сжалось сердце, запрыгало, заметалось, и в его, Шахны, всегда спокойные глаза плеснула не то тревога, не то вина; свет сменялся тенью, тень – светом, и в этих переливах и переходах не было никакого порядка и последовательности, и от этого, как от тюремного фонаря над воротами 14-го номера, комок-сердце становился еще меньше и колючей.
Шахна, конечно, приврал Ратмиру Павловичу: он не виделся с братом больше чем два года.
Стоял светлый безветренный день. Шахна запомнил его необыкновенную, истинно праздничную, почти нереальную яркость и скоротечность. Небо было не по-зимнему голубым и высоким. Дышалось легко, как в детстве, когда тебе принадлежит каждый листик и каждый камешек, и вся земля, весь мир – не что-то отвлеченное, а твое и только твое, и нет между ними и тобой никакой границы, все стерто или слито, и ты один – пока мать не кликнет тебя в избу – ты один всему глава и начало.
Шахна набрел на Гирша случайно: занес в сапожную мастерскую свои прохудившиеся ботинки и увидел брата.
В углу за низеньким столиком, на котором торчала обшарпанная колодка с железной лапкой, сидел Гирш.
На лапку был насажен чей-то тупоносый башмак, брат выплевывал на ладонь деревянные гвоздочки и время от времени постукивал молотком по носку. На Гирше был какой-то кожаный фартук, от которого пахло клеем, на плечах топорщилась холщовая рубаха с расстегнутым воротом, обнажавшим его каменную, без жил и без кадыка, шею. Рыжие волосы, перехваченные ремешком, делали его похожим на древнеримского Цезаря, о котором Шахна еще читал в Вилькии, в конторе лесоторговца Маркуса Фрадкина.
Когда Шахна позвал его по имени, Гирш не встал из-за столика, только поклонился брату, отложил молоток, выплюнул изо рта гвозди.
– Вот, – сказал Шахна и протянул ему свои ботинки.
Гирш взял их, повертел в руке, придирчиво осмотрел.
– Других у меня нет, – пожаловался Шахна и посмотрел на брата. – Эти я у товарища одолжил, – показал он на свои ноги. – Малость жмут, но ходить можно. Скоро починишь?
– Скоро, – ответил Гирш.
Он был немногословен и, как Шахне показалось, еще нелюдимей, чем прежде. Гирш не проявил никакого интереса к воспоминаниям брата о Мишкине, об отце, о Немане, о совместной рыбалке.
– Прости, – сказал он. – Мне некогда вспоминать. Мне надо работать.
Он швырнул ботинки Шахны в кучу грязной изношенной обуви, и брату-семинаристу на миг почудилось, что вместе с его дырявыми стершимися ботинками Гирш бросил туда что-то еще – может, яркость зимнего дня, может, их отрочество, может, свою недолгую радость, навеянную негаданной встречей.
– Приходи в четверг, – сказал Гирш.
Столько не виделись, думал тогда Шахна, а встретились как чужие. «Кем бы ты ни был, ты все равно чужой». Прав мудрец, прав. Все равно чужой.
И прежде они не очень-то ладили. Шахна тянулся к знаниям, к торе, Гирш бездельничал, зубоскалил, поносил мирские несправедливости и потому был скор на расправу, охотно пускал в ход кулаки там, где можно было употребить силу разума.
– Разум! – посмеивался он над Шахной. – Кулак сильней разума. Все дрожат перед исправником, а не перед рабби Авиэзером! Разум – раб! Разум – прислужник!








