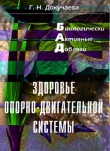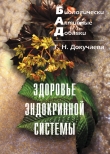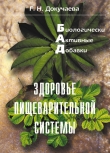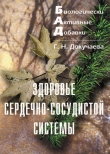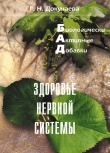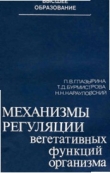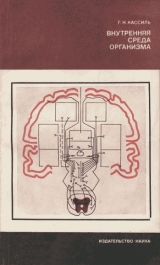
Текст книги "Внутренняя среда организма"
Автор книги: Григорий Кассиль
Жанр:
Медицина
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Чем же, какими механизмами, условиями, возможностями осуществляется гомеостаз в организме человека и животных?
Ответ на этот вопрос труден и, возможно, не совсем точен. В основном, по-видимому, хотя и не полностью комплексной вегетативной системой. Понятие это охватывает вегетативный нервный аппарат, совокупность гуморально-гормональных и ионных регуляторных механизмов, физико-химическую систему организма. Эрго– и трофотропные функции организма, взаимоотношение которых представлено на схеме Моннье, в значительной степени определяются как количеством, так и качеством адрен– и холинергических метаболитов и медиаторов.
В течение многих лет одной из ведущих задач физиологии, особенно отечественной, являлось изучение роли нервной системы в формировании внутренней среды организма. Рассматривая гуморально-гормональное звено как подчиненную часть той или другой функциональной системы, физиологи, патофизиологи и в значительной степени фармакологи оставляли вне поля зрения значение био– и физико-химических факторов в регуляции и организации деятельности самой нервной системы как центральной, так и периферической. И если можно признать, что в условиях нормальной жизнедеятельности высокоорганизованных организмов нервная регуляция является в определенной степени ведущей, то при некоторых возмущающих воздействиях или при стрессовых и экстремальных состояниях, связанных с нарушением или перестройкой тонких механизмов регуляции функций, деятельность нервной системы подчинена сложным химическим «ветрам и бурям» не только в общей внутренней среде организма, но и в непосредственной питательной среде (микросреде) нервных клеток.
Общебиологический механизм реакций, поддерживающих гомеостаз, рассматривается и расценивается по-разному различными исследователями. Выявление наиболее важного, ведущего звена, определяющего и осуществляющего основные физиологические и биохимические процессы в организме при возмущающих воздействиях, подчас затруднено и на современном уровне знаний не всегда доступно.
Ни одна из предложенных многочисленных конценций гомеостаза не исчерпывает проблемы в целом. Учение о гомеостазе, о механизмах детерминирующих, регулирующих, сохраняющих постоянство внутренней среды, явилось торжеством материалистического мышления, победы его над всеми виталистическими представлениями, господствовавшими в течение многих столетий. Оно возникло в результате стремительных успехов физико-химического направления в физиологии. Как справедливо утверждает М. Г. Ярошевский, особое значение имело для него внедрение в круг естественных наук закона сохранения и превращения энергии, с одной стороны, и триумф дарвинского учения – с другой. В принципе гомеостаза роль внешней среды, систематически истребляющей все, что неспособно к ней приспособиться, сочеталась с идеей борьбы живых существ за существование, за выживание в этой среде. Для того чтобы живая система могла сохраниться, не погибнуть при перепадах температуры, атмосферного давления, переменах в составе и свойствах водного или воздушного океана, природа должна была создать в ней защитное устройство, регулирующее ее известную независимость от внешнего мира. За миллионы лет это первоначальное устройство не только совершенствовалось, но и дополнялось множеством приспособительных механизмов, гуморальных, барьерных, нервных, что привело в конечном счете к нейрогуморально-гормонально-барьерным представлениям, значение которых увеличивалось по мере все большего и большего понимания внутренней сущности адаптации организма к условиям обитания. Вот почему ни одна из общебиологических теорий гомеостаза не может претендовать на свое единственное значение или абсолютную универсальность.
Организующая роль нервного аппарата (принцип нервизма) лежит в основе отечественной физиологической школы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. Д. Сперанского, их многочисленных учеников и последователей. Гуморально-гормональные теории (принцип гуморализма) более распространены за рубежом, хотя в последние годы получили широкое признание и в нашей стране. Представление о ведущей роли вегетативной нервной системы, в особенности ее симпато-адреналового отдела, развиваемое У. Кенноном, Л. А. Орбели, Б. Р. Гессом, Э. Гельгорном и др., в осуществлении гомеостаза не является исчерпывающим или всеобъемлющим, но и невозможно, нельзя исключить, как это говорилось выше, особо важную роль комплексного вегетативно-гуморально-гормонального аппарата в регуляции и координации физиологических механизмов.
Значение гипофизарно-надпочечниковой системы, разработанное Г. Селье, учение о барьерных функциях организма Л. С. Штерн, теория функциональных систем П. К. Анохина, учение о доминанте А. А. Ухтомского – все это отдельные блоки, быть может, фрагменты, а может быть, и компоненты учения о гомеостазе. Французский ученый Г. Лабори считает, что все равновесие многоклеточного организма как бы вращается вокруг «путешествия» в нем молекулы водорода. Участвуя в сложнейших процессах обмена веществ, водород регулирует концентрацию водородных ионов, т. е. реакцию внутренней среды организма, что и лежит в основе гомеостатических механизмов.
Каждая из предложенных теорий таит в себе часть, иногда большую, иногда меньшую, истины жизни, каждая охватывает одну или другую сторону проблемы, но ни одна не в состоянии исчерпать ее полностью. Стремительное движение науки ломает устоявшиеся представления, для того чтобы поставить на их место другие, казалось бы, на этот раз более близкие к «абсолютной истине», но проходит какое-то время, новые гипотезы и теории сменяются еще более новыми, а сомнения возникают снова и снова, ибо нет границ тайнам природы, как и нет пределов познанию их человеком.
Глава III. Гуморально-гормональная регуляция физиологических процессов
Изучение химических и физико-химических взаимоотношений в организме значительно расширяет наши возможности при решении неясных и недостаточно разработанных аспектов проблемы внутренней среды. В этом плане особое значение для понимания механизмов регуляции ее состава и свойств приобретают гуморальные и гормональные факторы.
У высокоразвитых животных и человека гуморальная регуляция тесно связана с нервной, составляя вместе с ней единую систему нейрогуморальных неразрывных связей. В течение ряда лет, исходя из предвзятых теоретических положений и неточных экспериментальных данных, многие исследователи противопоставили нервную регуляцию гуморальной. Сторонники нервной теории стремились доказать отсутствие сколько-нибудь существенного химического взаимодействия между органами и тканями, в то время как представители стремительно развивающегося гуморального направления готовы были исключить или свести к минимуму ведущее значение нервной системы и нервных импульсов в организме человека и животных.
Вполне закономерно, что для выросшего и вошедшего в науку за последние десятилетия поколения физиологов, патологов, биохимиков непримиримые схватки, разыгравшиеся между «нервистами» и «гуморалистами» в первой половине нашего столетия, не представляют большого интереса. Но «старожилы» вспоминают и жаркие споры, подчас выходившие за пределы пауки, помнят и постепенное смягчение разногласий, и мирное объединение противоречивых, казавшихся несовместимыми мнений под единым нейро– или нервно-гуморальным флагом.
От колыбели до зрелости научного гуморализма, впервые заявившего право на существование в 1921 г. после работ австрийского фармаколога О. Леви, его развивали, расширяли и углубляли Г. Дейл, У. Кеннон, А. Ф. Самойлов, Ч. Шеррингтон, Л. А. Орбели, И. П. Разенков, А. Розенблют, У. Эйлер, А. В. Кибяков, X. С. Коштоянц, Д. Нахмансон и многие другие физиологи, патофизиологи, биохимики, физикохимики, морфологи, терпеливо собиравшие доказательства своей правоты и создавшие наконец стройную концепцию регуляции физиологических процессов через жидкие среды организма.
Но, вероятно, наиболее последовательным, наиболее убежденным гуморалистом в нашей стране была Лина Соломоновна Штерн, столетие со дня рождения которой мы недавно отметили.
Было время, когда вопрос ставился бескомпромиссно: либо нервная, либо гуморальная регуляция. Но еще в 1937 г. Л. С. Штерн[11]11
Штерн Л. С. Роль метаболитов и роль гистогематических барьеров в регуляции функций организма. – Казан. мед. журн., 1937, № 4, с. 390; № 5, с. 523.
[Закрыть], быть может, несколько предвосхищая будущее, писала, что в «настоящее время обе тенденции – паннервизма и пангуморализма – в достаточной мере сблизились. Появившийся в последние годы термин „нейрогуморальная регуляция“ отражает понимание того синтеза, который осуществляется в механизме координирования функций животного организма». Возникло представление о комплексных нервно-гуморально-гормонально-барьерных механизмах регуляции, стало на свое место учение о метаболитах, т. е. неспецифических, образующихся в процессе обмена веществ регуляторах функций организма.
Представление о гуморальной регуляции функций получило последовательное развитие в работах Л. С. Штерн и ее сотрудников. Ссылаясь на авторитет крупнейших химиков и биохимиков XVIII и XIX вв., Л. С. Штерн выделила на первое место биохимию как основу физиологии животного и растительного организма. Однако и она сама, и ее ученики неоднократно подчеркивали, что в организме химические и нервные факторы неотделимы и взаимно связаны. Без преувеличения можно признать, что в основе современных концепций о роли и значении биологически активных веществ в регуляции и координации функций организма лежит представление о метаболитах. Метаболиты играют основную роль в гуморальных взаимоотношениях внутри организма, осуществляя либо непосредственную связь между органами и физиологическими системами, либо действуя опосредованно через центральные и периферические нервные образования.
Даже роль внутрисекреторных образований в гуморальной регуляции не может быть сведена к действию изолированных гормонов, поскольку ни один гормон не поступает во внутреннюю среду в химически чистом виде. Физиологическим действием обладают, как правило, лишь комплексы биологически активных веществ. «Совершенно неправильно, – писала Л. С. Штерн, – свести роль любого органа в общей динамике организма к действию одного пли даже нескольких гормонов и при изучении взаимных связей и взаимодействий органов мы должны принимать во внимание все без исключения вещества, которые выделяются этими органами в общую циркуляцию, и наличие и соотношение которых далеко не безразлично. Как установлено, эти, так называемые сопровождающие вещества, могут значительно усилить или ослабить, даже извратить действие специфически активных веществ»[12]12
Штерн Л. С. Роль метаболитов и роль гистогематических барьеров в регуляции функций организма. – Избр. тр., 1960, с. 356.
[Закрыть].
Развитие проблемы гуморальной регуляции функций потребовало в дальнейшем выделения из общей массы метаболитов, циркулирующих в жидких средах организма, специфических групп определенной химической структуры, обладающих теми или другими выраженными, им одним свойственными биологическими особенностями и вызывающими строго очерченные физиологические эффекты. В своих работах школа Л. С. Штерн неоднократно ставила вопрос о «химии метаболитов». Начало исследований в этой области следует отнести ко второй половине тридцатых годов, когда шаг за шагом в разных странах началась расшифровка состава и физиологического действия многих биологически активных и сопровождающих веществ.
Среди них оказалось немалое число гормонов общего действия, тканевых гормонов, нейрогормонов, вазоактивных соединений.
С каждым годом растет число «расшифрованных» метаболитов. В 1947 г. был открыт серотонин. Независимо друг от друга У. Эйлер и М. Гольдблатт обнаружили целый класс биологически активных веществ – простагландинов, принимающих активное и обязательное участие в деятельности нервной системы, течении температурной и воспалительной реакций, регуляции желудочной секреции, менструального цикла, зачатия, родов и т. д. Особо важное значение имеют простагландины в осуществлении действия гормонов на клетку.
Из бычьих околоушных желез получен гормон паротин, активирующий рост и обызвествление скелета и зубов. Около 20 гормонов общего и местного действия, а также так называемых, «кандидатов в гормоны» выделены из тканей органов пищеварительного тракта (секретин, гастрин, урогастрон, энтерокинин, холецистокинин, вилликинин и др.).
К физиологически активным соединениям мы относим ныне катехоламины с их предшественниками и продуктами превращения: ацетилхолин, гистамин, серотонин, простагландины, кинины, получившие в последние годы широкую известность опиоидные гормоны. К ним же можно причислить и многие другие продукты обмена веществ органов и тканей, как полученные в чистом виде, так и еще не идентифицированные, обладающие специфическим целенаправленным действием. Работы по изучению метаболитов подготовили почву для выявления, классификации и синтеза ряда гормонов, нейрогормонов, тканевых гормонов медиаторов и модуляторов физиологического процесса.
С каждым годом расширяется и углубляется наука о молекулярных аспектах, интимной сущности и многоступенчатой координации жизненных процессов, о значении рецептивных белков клетки (гуморальных рецепторов) в нейрогуморальной регуляции функций, о гуморальном «общении» клеток и т. д. Нервно (вегетативно)-гуморально-гормональная система регуляции в организме человека и животных функционирует как единое целое, звенья которой взаимосвязаны. Эту систему можно разложить на отдельные слагаемые, что мы и делаем, анализируя ее участие в физиологических процессах, но нельзя расчленить, забывая о ее неделимости.
Для современной физиологии чрезвычайно характерен переход на химические рельсы. Не только сформировался, но уже занял обширную территорию целый раздел науки, который по праву можно назвать «химической физиологией». Это не всем известная биологическая химия, изучающая химические явления в живой природе, а именно физиология, т. е. наука о процессах, совершающихся в живой материи, использующая для решения стоящих перед ней задач все достижения современной химии – неорганической, органической, физической, медицинской. Вместе с тем это физиология молекулярная, изучающая жизнь и превращений веществ на субклеточном и молекулярном уровнях, проникающая в функции отдельных элементов клеток, органов, функциональных систем, целостного организма. Чем выше развит организм, тем сложнее регулирующие его деятельность системы.
Попытку классифицировать по химическому строению неспецифические вещества, обладающие определенной физиологической активностью, предпринял немецкий ученый М. Гуггенгейм. Под названием «биогенные амины» он объединил разнообразные биологически активные вещества алифатического, жирноароматического и гетероциклического ряда. Хотя классификация Гуггенгейма, составленная в 1940 г., устарела и название «биогенные амины» относится лишь к определенным химическим соединениям, все же она сохраняет, быть может, только историческое значение до наших дней.
К биологическим веществам нерасшифрованной к этому времени природы он отнес вещество гистаминоподобного действия вазодилатин, полученное из слизистой кишечника, гормонал – вещество из слизистой кишечника, усиливающее перистальтику, лиенин, полученный из селезенки, эйтонин – препарат печени, автоматик, полученный из сердца, прессорную субстанцию Коллипа из мышц и т. д.
К числу более сложных, обладающих специфическим действием продуктов обмена относятся гормоны, выделяемые в кровь железами внутренней секреции (надпочечниками, гипофизом, щитовидной железой, половыми железами и т. д.), и медиаторы – передатчики нервного возбуждения (стр. 42). Это необычайно активные химические вещества, участвующие в подавляющем большинстве физиологических и биохимических процессов, протекающих в организме. Они оказывают самое активное влияние на разные стороны деятельности организма. Гормоны способны перестроить психическую деятельность, ухудшить и улучшить настроение, стимулировать физическую и умственную работоспособность, возбуждать и подавлять половую активность. Любовь, зачатие, развитие плода, рост, созревание, инстинкты, эмоции, здоровье, болезни проходят в нашей жизни под знаком эндокринной системы. Экстракты из желез внутренней секреции, а также химически чистые гормоны, искусственно синтезированные в лаборатории, применяются при лечении многих заболеваний. Очищенные и синтетические гормональные препараты приносят огромную пользу людям. Учение о физиологии, фармакологии и патологии органов внутренней секреции превратилось за последние годы в один из важнейших разделов современной биологии.
Но сегодня уже можно сказать с уверенностью, а не только в виде теоретического предположения, что в живом организме клетки эндокринных желез выбрасывают в кровь не химически чистый гормон, а комплексы веществ, содержащие сложные продукты обмена (белкового, липидного, углеводного), тесно связанные с активным началом и усиливающие или ослабляющие его действие.
Эти неспецифические вещества принимают непосредственное участие в гармоническом регулировании жизненных функций организма. Поступая в кровь, лимфу, тканевую жидкость, они играют важную роль в гуморальной регуляции физиологических процессов, осуществляемой через внутреннюю среду организма.
На разных этапах эволюции, когда нервная система отсутствует, взаимосвязь между отдельными клетками и даже органами осуществляется гуморальным путем. Но по мере развития нервного аппарата, по мере его совершенствования на высших ступенях физиологического развития гуморальная система все больше и больше подчиняется нервной. Образующиеся под влиянием нервных импульсов разнообразные продукты обмена веществ (метаболизма), в свою очередь, могут действовать как раздражители на клетки органов или окончания чувствительных нервов, вызывая рефлекторным путем определенные физиологические, а иногда и патологические процессы.
В течение многих лет перед исследователями возникал вопрос о том, как взаимодействуют во внутренней среде организма – крови, лимфе, тканевой жидкости – биологически активные вещества, синтезирующие и расщепляющие ферменты, связывающие и освобождающие из связанной формы механизмы. Оставался и в какой-то мере остается нерешенным вопрос, каким образом некоторые биологически активные вещества обнаруживаются в крови, несмотря на наличие в ней высокоактивных ферментов, почти мгновенно разрушающих их после того, как кровь собрана в пробирку для тех или других лабораторных исследований. Так, например, нелегко ответить, почему в крови удается обнаружить свободный ацетилхолин при наличии системы мощных холинэстераз или обнаруживается гистамин наряду с диаминоксидазой, почти мгновенно его расщепляющей.
Медиаторы нервного возбуждения (например, ацетилхолин, норадреналин, серотонин, гамма-аминомасляная кислота и др.), образующиеся нервными окончаниями и передающие нервный импульс с нейрона на клетку-исполнитель (синаптическая передача), избежав ферментативного расщепления или обратного поглощения, поступают в ток крови и разносятся по всему организму. Здесь они начинают свою вторую жизнь, теперь уже в качестве биологически активных веществ, вовлекающих в сферу своего действия различные физиологические системы.
Чрезвычайно важное значение для гуморально-гормональной регуляции функций имеет взаимодействие медиатора с рецептором. Рецептор, принимающий центробежные нервные импульсы, можно рассматривать как устройство, через которое специфическая информация поступает из нервных окончаний в клетку-исполнительницу. Одни рецепторы отвечают на действие ацетилхолина (М– и Н-холинорецепторы), другие – катехоламинов (альфа– и бета-адренорецепторы), третьи – серотонина (М-, Д– и Т-рецепторы), четвертые – гистамина (H1– и Н2-рецепторы) и т. д. Работами многих исследователей, в том числе и советских, установлено, что чувствительность рецепторов, их способность приходить в состояние возбуждения или торможения под влиянием одного или нескольких медиаторов в значительной мере определяют физиологические процессы, протекающие в клетках и органах. Так, например, при экспериментальной гипертонии у животных чувствительность адренорецепторов к адреналину увеличивается в 2,3 раза, а к норадреналину – в 3,2 раза. Следовательно, одно и то же количество медиатора может вызвать у животного, страдающего гипертонией, более значительное повышение кровяного давления, чем у здорового подопытного животного.
Если вегетативная нервная система представляет «нервный интегратор», то биологически активные вещества составляют «гуморальный интегратор». Они разносятся током крови по всему организму, однако, только в определенных участках («результирующих органах» или «органах-мишенях») вызывают целенаправленные специфические реакции, вступая во взаимоотношения с рецептором или клеткой-исполнителем, клеткой-мишенью. Действие их при этом и многообразно, и разнообразно. Они возбуждают адрено– и холинорецепторы, вызывают рецепторные реакции и, образуя гуморальный отрезок рефлекторной дуги, проникают (или не проникают) через гематоэнцефалический барьер, обусловливая в одних случаях возбуждение адрен– или холинергических структур головного мозга, в других – их торможение, что приводит нередко к возникновению описанных школой Л. С. Штерн «антагонистических», «противоположных» реакций центральных и периферических нервных образований на действие одного и того же химического раздражителя. И, наконец, они вторгаются в жизнедеятельность органов и тканей, проникая через тканевые барьеры в их непосредственную питательную среду (микросреду), изменяя и регулируя функциональное состояние, обмен, деятельность клеточного аппарата. Отсюда и немедиаторное действие медиаторов, если сказать точнее – «бывших медиаторов». В литературе нередко можно встретить термины «модуляторы» или «нейромодуляторы». В своем действии они отличаются от медиаторов – веществ, передающих возбуждение с нейрона на клетку-исполнитель (межсинаптическая передача), Нейромодуляторами называют химические соединения, выделяемые нервными окончаниями и оказывающие непосредственное влияние вне синапсов, расположенных в месте их образования.
Немедиаторное (отдаленное, дистантное) действие биологически активных веществ, по происхождению медиаторов, по своим свойствам метаболитов, гормонов, нейрогормонов, стимуляторов, ингибиторов, обладающих различным спектром действия, иногда специфическим, иногда неспецифическим, модулирующим, вспомогательным, даже патогенным, широко освещено в научной литературе.
На современном уровне знаний о нейрогуморально-гормональных взаимоотношениях в организме можно судить по уровню биологически активных веществ во внутренней среде с учетом количественных и качественных сдвигов в их соотношении. Идея эта была широко развита исследованиями автора и его сотрудников. Цепь регулирования составляет при этом совокупность жидкой материи организма, составляющей его внутреннюю среду: кровь, лимфа, тканевая (межклеточная) жидкость, в значительной степени цереброспинальная жидкость. Экраном, отражающим, хотя и с некоторым запозданием, совершающиеся в организме процессы регулирования функций, являются моча, слюна, пот и другие выделения организма, особенно если они исследуются через точно фиксированные (сжатые) промежутки времени и можно высчитать количество выделяющегося вещества в 1 мин. Это соответствует определению, принятому в технике, где под цепью регулирования понимают ту часть системы, в которой величина некоторого определенного параметра определяется регулированием.
Сопоставление клинических, физиологических и биохимических показателей позволяет сделать вывод, что для изучения состояния различных отделов вегетативной нервной системы можно пользоваться методом определения в жидких средах и выделениях организма биологически активных веществ эрго– и трофотропного ряда. Их постоянно меняющиеся количественные и качественные соотношения во внутренней среде не только отражают, но и определяют топус и реактивность (готовность к действию) как периферических, так и центральных отделов вегетативной нервной системы. Принято считать, что в крови содержатся вещества, действующие на органы и клетки так же, как действует раздражение вегетативных нервных образований (симпатических и парасимпатических). Они носят название миметических веществ – симпатомиметических и парасимпатомиметических. Но содержатся и вещества, вызывающие возбуждение самих вегетативных нервных образований. Их называют тронными (симпато– и парасимпатотропными). Деление это сугубо условное. По существу, действие биологически активных веществ осуществляется через рецепторы – нервные и гуморальные. О гуморальных рецепторах стали говорить совсем недавно. По существу, это рецепторные элементы клетки, реагирующие на действие тех или других биологически активных веществ через посредство 3'5'-аденозинмонофосфата.
Важное значение для оценки гуморальных механизмов имеют ферментные системы, определяющие образование и распад биологически активных веществ. Необходимо учитывать также скорость выведения их из организма (то, что называется очищением, клиренсом) и способность организма (его клеток, крови, тканей) связывать (и тем самым превращать в неактивную форму), метаболиты, медиаторы, гормоны.
В то время как роль химического фактора в осуществлении местных, строго ограниченных реакций, имеющих узкое целевое назначение, подробно изучена, вопрос об участии в регуляции функций многообразных химических соединений, образующихся в процессе обмена веществ (метаболитов в широком понимании), нередко требует не только глубокого анализа, по и расшифровки наподобие ребуса. За последние годы в этом отношении достигнуты значительные успехи. Из общей суммы одинаково и противоположно действующих метаболитов выделены вещества, имеющие определенную химическую структуру, обладающие специфическими физиологическими свойствами и особенностями. Можно считать установленным, что организм, и в первую очередь центральная нервная система, непрерывно информируется в каждый данный момент об уровне и изменении биологической активности крови.
Природа оказалась очень изобретательной. Проникновение тех или других гуморальных регуляторов в головной и спинной мозг ограничено гематоэнцефалическим барьером. Определенные вещества проникают только в определенные зоны мозга, главным образом в область гипоталамуса, в котором находятся рецептивные зоны, воспринимающие гуморальную информацию. По принципу обратной связи центральная нервная система осуществляет контроль над всеми процессами гуморально-гормональной регуляции функций в организме.
В ответах организма на действие гуморальных факторов важное значение имеет реакция, вернее реактивность рецепторов как нервных, так и клеточных, т. е. нормальная, повышенная или сниженная чувствительность их к действию тех или других биологически активных веществ. Установлено, например, что некоторые образующиеся в организме продукты тканевого обмена (например, аденозинтрифосфорная кислота) делают холинорецепторы более чувствительными к ацетилхолину.
С каждым годом увеличивается число открытых и предполагаемых хеморецепторов. Существуют, по-видимому, рецепторы, способные реагировать не только на все химические соединения, образующиеся в процессе обмена веществ, но даже на различные чужеродные, введенные в организм фармакологические препараты. Последние способны и возбуждать, и блокировать рецептивные субстанции. Можно считать доказанным, что функциональное (химическое или физико-химическое) состояние рецепторов определяет реакцию организма на образующиеся при нервном импульсе или поступающие в кровь биологически активные вещества.
* * *
Данные, полученные при изучении комплексной нервно-(вегетативно)-гуморально-гормональной системы человека (здорового или страдающего различными формами нарушения функций), показывают, что так называемое вегетативное равновесие, т. е. уравновешивающее друг друга состояние симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, нельзя рассматривать как некую стойкую, неизменную величину. Это протекающее в границах гомеостаза, постоянно меняющееся, имеющее свой ритм и колебательный контур соотношение эрго– и трофотропных факторов, действующих как синергично, так и антагонистически. В комплексе вегетативно-гуморально-гормональной системы следует различать симпатоадреналовый и вагоинсулярный компоненты. Если первый термин легко поддается расшифровке, то второй требует некоторого разъяснения. По существу, он несколько условен. Гуморальногормональное звено вагоинсулярной системы (от слов блуждающий нерв – vagus и ваготропный гормон поджелудочной железы – инсулин) в большей степени составляет ацетилхолин, чем инсулин. Строение и функции вегетативной нервной системы представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Симпатический отдел вегетативной нервной системы.
Волокна выходят из спинного мозга, входят в периферические нервные узлы (ганглии) и иннервируют различные органы. Сплошными линиями обозначены холинергические волокна, пунктирными – постганглионарные адренергические (по С. Оксу).

Рис. 2. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.
Холинергические волокна, идущие из черепного (краниального) и крестцового отделов центральной нервной системы, направляются к периферическим нервным узлам (ганглиям) и к органам (по С. Оксу).
В литературе описаны различные формы нарушения функций вегетативной нервной системы. Они охватывают ее не только целиком, но во многих случаях отдельные участки, связанные с деятельностью тех или других тканей, органов, физиологических систем.
Однако, несмотря на сходные внешние проявления, механизмы этих нарушений могут быть различными. Так, функциональное преобладание одного отдела может быть вызвано как повышенным тонусом, высокой реактивностью нервных центров и периферических образований парасимпатической нервной системы, так и сниженным тонусом, недостаточной реактивностью нервных центров и периферических образований симпатической нервной системы. Аналогичные взаимоотношения, но с обратным знаком могут иметь место в случаях функционального преобладания симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Вопрос этот чрезвычайно важен и значение его подчас недоучитывается физиологами и врачами. Нередко больные, страдающие вегетативной дистонией, т. е. нарушением нормального тонуса вегетативной нервной системы, предъявляют врачу бесчисленные жалобы, характерные для высокого тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (например, на повышение кровяного давления, спазмы сосудов, расширение зрачков, повышенную раздражительность, сердцебиение и т. д.). Несмотря на все принимаемые меры, состояние их не улучшается. И лишь более глубокий и вдумчивый анализ показывает, что у пациента не повышен тонус симпатической системы, а снижен тонус парасимпатической. Не симпатотония, а парасимпатоатония. Казалось бы, одна лишняя буква в слове и весь диагноз перевернут с головы на ноги.