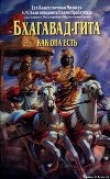Текст книги "Древнеиндийская цивилизация"
Автор книги: Григорий Бонгард-Левин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 32 страниц)
Любопытно, что из трех упоминаемых Каутильей философских систем (локаята, санкхья, йога) две отражали реалистические тенденции. Он, несомненно, искал в умозрительных доктринах руководство для достижения целей, связанных с жизнью государства. Отсюда интерес именно к тем философским течениям, которые в той или иной степени способны были помочь в решении практических проблем. «От слушания появляется понимание, – гласит „Артхашастра“, – от понимания – приложение к практике, от приложения к практике – полное самосознание. В этом сила науки». Иными словами, процесс овладения знанием распадается на три последовательных этапа: обучение начинается со «слушания», полученные знания проверяются затем практикой, лишь после этого знание становится полноценным. В данном тезисе особенно отчетливо проявляется реалистическая направленность всего трактата. Ярко выраженный практический аспект «политической науки», ее тезис достижения полезного, иисто земных целей вызывали нападки со стороны религиозных ортодоксов, и не случайно «Артхашастра» (в том числе трактат Каутильи) нередко рассматривалась ими как безнравственная, как низменная логика, приносящая гибель. Вот, например, характеристика, которую дал раннесредневековый Бана трактату Каутильи: «Труд Каутильи, – писал он, – заслуживает презрения из-за исключительно безжалостных наставлений». Видимо, в глазах представителей некоторых брахманских кругов Каутилья казался выразителем слишком смелых, а потому и «еретических» идей, подрывавших многие традиционные устои. Решительный протест вызывала также, очевидно, защита Каутильей принципа верховенства артхи над дхармой и мокшей.
«Артхашастра», как уже отмечалось, входит в число текстов, которые индуизм признает важными и дидактически полезными. Некоторые высказывания Каутильи (в частности, о варновом делении), вроде бы, объясняют, чем вызвано такое признание. В действительности, однако, его отношение к религиозным догмам было весьма своеобразным. Оставаясь до конца прагматиком, он и религиозную идеологию рассматривает прежде всего с точки зрения выгоды. Недаром из четырех основ «законного порядка» (религиозный принцип – дхарма, обычай – чарита, юриспруденция – вьявахара и царские указы – раджа-шасана) именно четвертая (эдикты государя) выдвигается на первый план. «Если дхарма находится в противоречии с правительственными распоряжениями, – писал он, – то последним отдается предпочтение».
Каутилья предлагал выделять специального служащего «для надзора за храмами», который должен был «извлекать выгоды» из паломничеств к святыням и «доставлять в казну имущество еретиков и религиозных общин, использовать в интересах государства религиозные предрассудки и суеверия». Он рекомендовал переодетым агентам устрашать жителей знамениями, а потом брать мзду за изгнание духов и «очищение». В борьбе с врагом можно было ссылаться на помощь богов, внушая противнику суеверный ужас. Опытному шпиону разрешалось проникать в изображение божества и, вещая от его имени, воздействовать соответствующим образом на умы верующих. Правителю, завоевавшему новые земли, не возбранялось демонстрировать «преданность местным божествам», даже если он исповедовал другую религию. Иначе говоря, рационалист, реалист и скептик, Каутилья отбрасывал религиозные догмы и предрассудки своей среды и эпохи; «артха», в его понимании, всегда являлась центральным принципом, «цхарма» же всецело оставалась зависимой от нее.
Автор «Артхашастры», по-видимому, не составлял исключения в Индии того периода. Представление о государственном деятеле, критически воспринимающем религиозные догмы и руководствующемся в политике лишь доводами здравого смысла, сохранилось во многих памятниках литературы древности и раннего средневековья. «Рамаяна» запечатлела типический портрет «царского советника», наделенного подобными чертами. Джабали, министр Рамы, поддерживал его, когда в результате интриг мачехи тот вынужден был удалиться в лес. Осуждая слепую покорность Рамы своему отцу Дашаратхе, который добивался от собственного сына отказа от престола, Джабали высказывает мысли, абсолютно чуждые взглядам брахманской ортодоксии. Он подвергает сомнению идею религиозного почитания предков, говоря, что еще никто не видел, чтобы дары, приносимые умершим родичам, реально помогали им в «иной» жизни. Да и что такое отец или мать для их ребенка? – вопрошал он. Рождение – такой же естественный процесс, как к все остальные; зачатие вызывается соединением семени отца с кровью матери (представление, типичное для архаической биологии того времени), рост зародыша в чреве подчинен законам природы.
Министр Рамы вовсе не проповедует аморализм, он отнюдь не отрицает человеческих связей между отцами и детьми, но отказывается усматривать в этих связях основу для какой-то надматериальной, религиозно окрашенной сопричастности. Еще более важно, что в реальном движении вещей мудрец не находит места для проявления «закона кармы»: рождение – физиологический процесс, никакая «бесплотная», неуловимая чувствами душа не переходит здесь из одного тела в другое. Сыновнее почтение, оказываемое отцу, обычно зиждется на взаимных обязанностях и привязанности, но Дашаратха нарушил принципы справедливости, и потому Рама также не обязан следовать его воле* Рассуждения Джабали строятся на рациональном, практически оправданном расчете: он видит несправедливость в действиях Дашаратхи и, кроме того, не сомневается, что отправленный в изгнание наследник престола был бы лучшим руководителем государства, чем его слабый и лишенный чувства долга отец. Рама отвергает доводы своего советника, хотя и не оспаривает их разумности: его «нравственная высота» не позволяет ему опуститься до подобных «утилитарных» соображений. Впрочем, в произведении, вошедшем в основной круг текстов индуистской традиции, реакция главного героя едва ли могла быть иной.
Примечательно, однако, что воззрения Джабали воспроизведены в поэме детально и без какой-либо критики, и сам образ «материалистически мыслящего министра», несомненно, не лишен обаяния и нарисован с большим мастерством. Правда, если в бенгальский версии эпоса этот «вызывающий уважение брахман» именуется «знатоком морали», то в южноиндийских вариантах поэмы он же называется «безнравственным». Рационализм Джабали был, вероятно, приемлем для какой-то части брахманской элиты, а более консервативная ее прослойка, связанная с индуистскими сектами Юга, отказывалась принимать подобные взгляды. Аргументация и общий смысл рассуждений Джабали сближают его с Каутильей. Высказывания, вложенные автором поэмы в его уста, во многом перекликаются с положениями локаяты. Здесь особенно явственно выступает связь древнеиндийской «политической теории» с рационалистической традицией.
Годы жизни Каутильи, если принять традиционную датировку, приходятся на период интенсивного социально-экономического развития страны. Естественно, что именно в это время отмечается расцвет и политической мысли. Уровень политических знаний, отраженный, в трактате, чрезвычайно высок, содержание последнего выходит за пределы собственно индийской проблематики. Правомерно поэтому, на наш взгляд, сопоставить провозглашаемые в нем принципы с теоретическими изысканиями в той же области в других культурах древности, например с идеями Аристотеля. Прямое сравнение, разумеется, невозможно: условия исторического развития Греции не тождественны древнеиндийским, а сам Аристотель, бывший прежде всего философом, отличен от Каутильи, являвшегося преимущественно «политическим мудрецом». Тем не менее, между «Политикой» и «Артхашастрой» можно провести ряд параллелей.
Греческий мыслитель был «первооткрывателем» политической науки в своей стране; все последующие школы ссылались на него и в известной мере продолжали его мысли. Влияние Аристотеля ощутили на себе крупнейшие авторитеты европейского раннего и позднего средневековья (в частности, Макиавелли). «Политика» – это свод положений о принципах управления государством, основанный на изучении истории Афинской республики. В отличие от Каутильи Аристотель не был монархистом: формирование его взглядов связано с республиканскими традициями Греции, однако идея сильной власти не чужда ему, отсюда его симпатии к авторитарному правлению Александра. Описывая «идеальное государство», греческий философ допускал существование различных форм государственного устройства: он прославлял демократию как непосредственное выражение идеи «народовластия», но считал целесообразным в определенных условиях «аристократическое правление» или единовластие. С Каутильей его более всего сближает последовательный рационализм: накакие «сверхразумные» факторы не служат критерием верности методов политики, таким критерием выступает лишь благо граждан (разумеется, в понимании, которое было свойственно эпохе).
Как и у Каутильи, важная роль в поддержании общественного порядка в «идеальном государстве» отводилась наказанию. Много внимания уделялось также военному фактору. «Государство не может существовать без военной силы», – писал Аристотель (в «Политике», впрочем, конкретные вопросы ведения войны разбираются гораздо менее подробно, чем в «Артхашастре»). Классовая принадлежность этих авторов определяет множество общих черт в их трактатах: Аристотель защищал права греческой элиты, Каутилья, сторонник «системы варн», – привилегированное положение брахманства и кшатрийства. Выступление «низов» против существующего порядка равно осуждается в их сочинениях; мыслители обеспокоены поиском мер предотвращения «внутренних волнений». Наконец, оба они признавали огромное значение политики, этой, по выражению Аристотеля, «могущественной и архитектонической науки».
«Архашастра», несомненно, вершина древнеиндийской политической мысли. Более того, отличающие ее рационализм в подходе к разнообразным проблемам жизни общества, детальность в разработке конкретных вопросов, умелое использование достижений философии и науки делают возможным отнести данный труд к исключительным явлениям и в истории политической мысли всего древнего мира.
Глава тринадцатая
Север и Юг: встреча культур
Культура дравидийских народов составляла существенный элемент общеиндийской цивилизации на всем протяжении ее развития. В своей древнейшей фазе она даже предшествует ведийской традиции: язык жителей Хараппы, как сейчас установлено, относился к дравидийской группе (протодравиды), а культы Шивы-Пашупати (покровителя животных) и женского божества – прототипа Кали, или Дурги, позднейших эпох – восходят ко времени Хараппы. Специфика доступных индологам письменных источников и памятников материальной культуры делает, однако, трудным установление посредствующих звеньев между Хараппской цивилизацией и собственно дравидийской культурой, тем более что последняя достигла значительного развития вдали от Мохенджо-Даро и Хараппы, на Юге Индии. Она проявилась там как культура одного из дравидийских народов, тамилов, и уже в V–IV вв. до н. э. была, видимо, достаточно зрелой. Во всяком случае, на Севере Индии в это время уже знали о существовании ранних южноиндийских царств, о чем свидетельствует упоминание Катьяяной (комментатором санскритской грамматики Панини) в IV в. до н. э. их названий – Пандья, Чола и Керала.
В течение длительного времени в специальной литературе господствовала точка зрения об определенной изоляции Юга страны от центров в долине Ганга, которые рассматривались как единственные очаги всей древнеиндийской цивилизации; изучению этого района не уделялось должного внимания, и тем самым нередко искажалась общая картина эволюции индийской культуры. Правда, первые литературные памятники на южноиндийских языках появились (или дошли до нас) значительно позднее, чем, скажем, сочинения ведийской эпохи, но это ни в коей мере не может служить доказательством «запоздалого» возникновения цивилизации. Существование здесь развитых обществ в I тысячелетии до н. э. подтверждают археологические раскопки, их материалы свидетельствуют о тесных торговых и культурных контактах Юга не только с Севером Индии, но и со странами ЮгоВосточной Азии и Римской империей. Такого рода факты приводятся и в сочинениях античных авторов. У Мегасфена, например, упоминается государство Пандьев, игравшее большую роль в политической и культурной жизни Декана. Возможно, к селевкидскому послу восходят сведения, которые сохранил нам римский писатель Плиний, хотя не исключено, что в его труде отразился уже новый этап в развитии индийско-античных связей. Согласно Плинию, «царица Пандья» правила «над 365 поселениями» и имела огромное войско (150 тыс. солдат). Известно также, что из той же страны к Цезарю было направлено два посольства.
В «Индике» Мегасфена содержатся довольно многочисленные данные об о-ве Ланка (Тапробан), его животном мире и природных богатствах. Сам факт знакомства Мегасфена, жившего в Паталипутре, с крайним югом субконтинента подтверждает наличие здесь самостоятельной культурной традиции уже в IV в. до н. э. Интересное сообщение о Южной Индии мы находим в «Перилле Эритрейского моря». В ряде сочинений перечисляются южноиндийские товары, которые закупались римскими торговцами. С другой стороны, раннетамильские тексты упоминают «яванов», находившихся на службе у привителей Юга. По мнению ученых, под «яванами» в этом случае подразумевались выходцы из Римской державы. Важное научное значение имело открытие в Арикамеду (недалеко от Пондичерри) римской торговой фактории. Обнаруженные тут вазы были изготовлены в Ареццо (так называемые аретинские вазы), как полагают, в I в. до н. э.
В надписях маурийского царя Ашоки называются несколько южноиндийских государств, в том числе Пандья и Чола, с которыми поддерживались культурные и дипломатические отношения и куда, согласно эдиктам, направлялись буддийские миссионеры. Заметную роль в истории древней Индии играло государство Сатаваханов, центр которого находился в Андхра-Прадеше. От этого периода остались многочисленные надписи, позволяющие судить о развитии самобытной культуры этого региона.
Заслуживают специального внимания археологические открытия, сделанные в Амаравати и Нагарджунаконде (на р. Кришна в Северном Декане). Многолетние исследования индийских археологов в Нагарджунаконде показали, что здесь в конце I тысячелетия до я. э. происходило интенсивное взаимодействие индуистско-буддийских культурных традиций и культуры эллинистического Запада. Первыми веками нашей эры датируются буддийские ступы, вахары, дворец царей династии Икшваку и несколько индуистских храмов. Тут же обнаружен интереснейший памятник местной архитектуры – своего рода амфитеатр, поражающий масштабностью и техникой строительного искусства.
Раскопки в Амаравати, начатые еще в конце прошлого века, открыли один из замечательных образцов буддийской архитектуры – огромную ступу с великолепной скульптурой. Надписи на колоннах свидетельствуют о широком распространении буддизма на Юге, сообщают множество фактов о различных этапах проникновения этого вероучения в Декан, позволяя точно фиксировать отдельные стадии данного процесса.
Первые из дошедший до нас южноиндийских сочинений, созданных на тамильском языке, были связаны с так называемой эпохой санги, начало которой, вероятно, относится ко 11-1 вв. до н. э. [9]9
В настоящее время ученые располагают значительным числом надписей на «старотамильском» языке, выполненных письмом брахми и датируемых палеографически III–II вв. до н. э. Интерес представляет упоминание в надписях имен царей и географических названий, которые встречаются в ранних тамильских литературных сочинениях.
[Закрыть]Сангой именовалась своего рода литературная академия, в которую входили цари, представители знати, поэты и знатоки поэзии. Тамильская традиция насчитывает три таких академии, сменявших одна другую. Существование первых двух относится к области мифа, и поставить вопрос об историчности легенды о сангах можно только в связи с третьей, процветавшей в городе Мадурай и позднее сохранившей исключительное значение в культурной истории Южной Индии.
Результатом деятельности третьей санги (определенными свидетельствами о которой мы, к сожалению, не располагаем) традиция называет свод поэтических текстов, которые дошли до нашего времени в двух сборниках: «Восемь антологий» («Эттуттохей») и «Десять песен» («Паттуппатту»). В стихах и поэмах этих сборников перед нами разворачивается широкая картина жизни тамильского Юга, очерчиваются различные сферы деятельности древнетамильского общества. В деталях эта картина вполне реалистична и точна, хотя в целом поэты стремились к идеализированному воспроизведению действительности, что было связано с панегирической тенденцией в их творчестве.
Иногда к «поэзии санги» причисляют сборники дидактической поэзии, ставшей популярной на Юге во второй половине I тысячелетия н. э. Крупнейшим из таких сборников является «Курал» (или «Тируккурал» – «Священные двустишия») – интереснейшее произведение религиозно-философского, этического и дидактического плана. Несмотря на религиозную оболочку, «Курал» – прежде всего свод наставлений, регулирующих поведение человека в различных ситуациях. Примечательно, что вопрос о «религиозной принадлежности» текста так и остался нерешенным – на него «претендовали» буддисты, индуисты и джайны, однако едва ли есть основание говорить о какой-нибудь религиозной специфике его: Тируваллувар, которому приписывается авторство, обращает свои строфы к человеку как таковому, человеку вообще, а не к адепту конкретного вероучения.
Две основные темы этой поэзии – военно-героическая (пурам) и любовно-семейная {ахам). Первая раскрывается преимущественно в панегирическом ключе – стихи и поэмы сборников изобилуют восхвалениями древнетамильских царей (трех главных царств) и многочисленных правителей. Поэты славят их за воинскую доблесть, силу, неукротимость в битве, а также за щедрость и доброту по отношению к подчиненным. С этим сопрягается воспевание богатых и процветающих под властью правителя земель и угодий, перерастающее в восторг перед красотой и изобилием тамильской земли.
Тема «ахам» раскрывается на ценностях семейной жизни, и хотя поэты уделяют внимание любовным взаимоотношениям и до брака, а после него супруги чаще всего оказываются в состоянии разлуки, несомненно, что именно крепкий семейный союз представляется высшей, сакрализованной ценностью. Поэты никогда не передают своих личных переживаний, их стихи посвящены отношениям обобщенных, безымянных героев, которые раскрывают свои чувства в монологах, полных эмоционального накала.
В период создания поэзии санги (главным образом I–III вв. н. э.) тамильский язык был уже языком письменным, стихи и поэмы фиксировались прежде всего на пальмовых листьях – материале крайне недолговечном. В основе поэзии лежала уходящая в прошлое устная традиция, создателями которой были бродячие певцы, обычно люди невысокого социального статуса. Использованные ими поэтические приемы, жанровые формы были восприняты поэтами придворного круга, отшлифованы, а затем и закреплены в качестве поэтического канона.
Ранняя тамильская поэзия свидетельствует о том, что на индийском Юге шел интенсивный процесс синтеза местных религиозных и художественных традиций с северными, арийскими. Там хорошо знали ведийскую культуру; брахманы – знатоки вед, специалисты по жертвоприношением – пользовались авторитетом и среди населения (в основное городского), и при дворе. Известны были центральные понятия индуизма – дхарма, карма, аватара и др., санскритский эпос – «Махабхарата» и «Рамаяна», различные шастры и сутры. Трудно сказать, насколько хорошо древнетамильское общество было осведомлено о жизни на Севере, но то, что наиболее образованная его часть прислушивалась к идущим оттуда веяниям и даже следовала им, несомненно. Было известно о мощи североиндийского государства Маурьев. На это указываю? тамильские поэмы. Южные правители старались подражать маурийским императорам в методах достижения славы и были не прочь применить к себе титул чакравартина.
Вообще в древнетамильской поэзии царь характеризуется по-разному: с одной стороны, это наследник древних местных традиций, полный сакральной энергии племенной вождь, могучий воин, совершающий на поле битвы ритуал жертвоприношения, в котором слышны отголоски архаических обрядов, даже с элементами каннибализма, с другой – ревностный защитник индуистской дхармы, покровитель брахманов, совершающий вместе с ними и под их руководством ведийские жертвоприношения. Иногда же вопреки своему неукротимому и кровожадному нраву царь в описании поэта предстает как потомок легендарного царя Шиби, отдавшего плоть ради спасения голубя.
Последний образ заимствован, скорее всего, из буддийских джатак. Буддизм и джайнизм стремились добиться здесь большого распространения. Особенно активно проявляли себя джайны, многие из которых были учеными-филологами и поэтами. Влияние джайнизма чувствуется, например, в одном из самых авторитетных произведений древней тимильской литературы, трактате «Толькаппиям», где суммируются знания по грамматике и поэтике. В конце V в. некий Ваджрананди создал в Мадурай общество джайнов, но подробностей о его деятельности мы не знаем.
Если в поэзии санги слой заимствований из североиндийских, санскрите и пракритоязычных источников невелик, то в первой тамильской сюжетной поэме «Шилаппадикарам» («Повесть о браслете»), созданной, вероятно, в V–VI вв., он уже довольно значителен. В произведении рассказывается история купца Ковалана, несправедливо казненного по приказу пандийского царя.
Подлинным героем, впрочем, выступает жена Ковалана – Каннахи, терпеливая и добродетельная, воплощение супружеской верности. В этом образе нашло отражение характерное для дравидов представление о присущей женщине сакральной энергии, которая может быть и благой и опасной. После гибели Ковалана эта энергия, накопленная Каннахи благодаря ее долготерпению и целомудрию, вырывается наружу в виде огня (охваченная горем и гневом, она вырывает свою левую грудь), который сжигает город Мадурай. Смиренная женщина становится богиней, могучей и неукротимой.
В поэме представлено немало других религиозных идей, прежде всего джайнских и буддийских, но сюжетное ядро ее, очевидно, связано с ранними, типично дравидийскими представлениями о грозных богинях, насылающих на людей огонь, эпидемии, несчастья и требующих поклонения и жертвоприношений (часто кровавых), после которых они сменяют гнев на милость.
Легендарный автор «Повести о браслете», царевич династии Чера – Иланго широко использует поэтический канон тамильской поэзии на темы «пурам» и «ахам», однако многое берет из санскритской литературы – из эпоса, поэзии в стиле кавья и т. д. В целом «Повесть» может рассматриваться как гармоничный синтез тамильской и североиндийской литературных традиций.
Еще одна поэма этого периода, «Манимехалей» Саттанара, формально продолжает сюжетную линию «Повести о браслете»: ее героиня Манимехалей – дочь Ковалана и гетеры Мадави, – но идейная направленность здесь иная. Это чисто буддийское произведение, насыщенное проповедями и апологетикой. Сюжет строится как цепь приключений и подвигов молодой буддийской монахини, через которые она демонстрирует жизненную силу и привлекательность буддийской доктрины. Поэма свидетельствует о распространении на Юге, Индии в середине I тысячелетия идей хинаяны.
Подъем собственно южноиндийской культурной традиции во второй половине тысячелетия вызван взаимодействием различных религиозных направлений, наиболее популярным среди которых был шиваизм. Практика создания храмов и сложных форм богослужения, распространившаяся именно здесь, в значительной мере повлияла и на аналогичные явления брахманизированного Севера. Черты мифологического образа Шивы, зафиксированные в «Махабхарате», указывают на явное преобладание «южных элементов» в данном культе. В еще большей степени влияние «дравидийского субстрата» на ортодоксальный индуизм прослеживается в культе Сканды-Карттикеи. Эволюция этого образа – самое характерное свидетельство взаимодействия двух основных религиозных традиций. По общему мнению ученых, прототипом Сканды выступало специфически тамильское божество Муруган, многократно упоминаемое в литературе санги и первоначально связанное с местными тотемистическими верованиями. Его символами были павлин и слон. Сканда почитается индуистами Тамилнада и в настоящее время. Очевидно, с этим древнейшим слоем культа соотносится и представление о Муругане – божестве горных или холмистых дайонов: святилища в его честь чаще всего воздвигались именно на вершинах холмов. Считалось даже, что любая долина или тропа в горах может быть его обиталищем.
Поклонение Муругану, как и его матери, воинственной древнетамильской богине Коттравей, сопровождалось обязательными песнопениями и ритуальными танцами. Особые жрецы и жрицы, украшенные гирляндами цветов, предавались экстатическим пляскам под аккомпанемент всевозможных музыкальных инструментов. В жертву божеству приносились цветы, листья и комки риса, пропитанные кровью животных (обычно закланию подвергались козы). Уже в древнейших источниках есть намеки на магические действия и эротические ритуалы в культе Муругана. В таких описаниях нетрудно обнаружить элементы тех форм индуистской религиозной практики, которая в средние века становится общепринятой. В этом смысле почитание этого божества в большей степени проясняет истоки собственного индуистского культа, чем канонизированные свидетельства брахманистской традиции. Последняя ввела его в свой пантеон в образе сына Шивы и Парвати, принесенного на землю Агни и воспитанного шестью богинями-криттиками (отсюда его позднейшее имя – Карттикея). Впрочем, сам этот миф – одна из загадок индуистской теогонии: он стоит особняком среди других сюжетов брахманистской мифологии и вполне может быть отголоском какихто доарийских верований.
В эпосе Муруган фигурирует обычно под именем Сканды или Сенапати (вождя воинства), что также находит объяснение в текстах литературы санги. Он изображается сидящим на павлине или слоне и возглавляющим рать божественных воителей. Древним его атрибутом было копье (вероятно, намек на представления горных охотников Юга – первых адептов этого культа), которым он поражает демонов. Позднее традиция детализировала этот сюжет: три главных противника Муругана – демоны Сурападма, Симхамукха и Тарака осмысляются как символы ахамкары (эгоизма), кродхи (гнева) и мохи (заблуждения). Пронзая их, Муруган уничтожает три формы незнания (а-видья). Аллегорически толкуется и другая особенность мифологического образа божества – его «шестиликость». Так, первое из его лиц рассеивает заблуждения души и омывает ее потоком света, второе награждает преданных адептов, третье охраняет жертву, четвертое дарует смертному «знание Атмана», пятое истребляет злых духов, шестое обращено с любовью к спутнице бога – «дочери гор» Валли.
Разумеется, подобные осмысления порождены позднейшей комментаторской традицией и демонстрируют сложную комбинацию мифологических представлений архаического периода и философских идей, отмеченных влиянием упанишад: примечательно, однако, что на Юге этот процесс начался раньше и проходил интенсивнее, чем на Севере. Позднее, в пуранах, постоянно используется подобный прием, тем самым образы народного культа приводятся в соответствие с теоретическими построениями того или иного учения.
В первые века нашей эры культы Шивы и Муругана развивались в качестве самостоятельных направлений, в дальнейшем же наблюдается настойчивая тенденция к их сближению. В V–VI вв. Муругаи вовлекается в брахманистскую традицию и, получив имя Субрахманья, начинает рассматриваться в качестве «источника божественной мудрости», что в значительной мере стирает грань между ним и Шивой. К Сканде прилагаются такие чисто «шиваитские» определения, как бхутеша «властитель духов (существ)», «махайогин», «великий гуРУ миров», «исцелитель». Возникает сектантская версия мифа, согласно которой именно он приобщил самого Шиву к познанию высшей истины, объяснив ему сокровенный смысл мантры «Ом». В данном случае сказалась, вероятно, попытка поклонников Сканды включить Шиву в собственный пантеон в виде второго по значению объекта почитания. В большинстве шиваитских сочинений (агам) Тамилнада Шива сохраняет свое первенствующее положение, но он уже неотделим в иконографии и теологических толкованиях от Сканды. Так, утверждалось, например, что мир был сотворен «шестью искрами божественной энергии», вспыхнувшими во взгляде Шивы. Пять из них превратились в элементы (эфир, ветер, огонь, вода, земля), шестая же породила Сканду. Любопытно, что стихии здесь как бы «заполняют пространство» между Шивой, творцом мира, и Скандой, появлением которого завершается процесс миросоздания.
Представление о Сканде – сыне Шивы и Парвати (Умы) – открыло путь к истолкованию всех этих образов в качестве аллегории «божественной триады» (хотя прямых отождествлений с общеиндуистской концепцией тримурти не было). Шива в данной композиции символизировал cam (абсолютное бытие), Ума – чит (абсолютное сознание) и Сканда – ананду (блаженство). Скульптурное воспроизведение их расшифровывалось как сат-чит-ананда – триединая формула, соответствующая в индуизме Брахману упанишад. Но та же тройственность могла быть выражена и в иконографическом образе самого Сканды. Из шести его ликов пять символизировали Шиву, а последний (шестой) – Уму; одиннадцать из его двенадцати рук ассоциировались с одиннадцатью рудрами ведийских текстов (все одиннадцать, взятые вместе, обозначали единого Рудру-Шиву), двенадцатая рука, сжимавшая копье (санскр. «шакти»), воспринималась как аналог Деви. Позднейшая эзотерическая литература еще более расширила круг такого рода уподоблений. Павлин, несущий на себе Сканду, истолковывался, например, как совокупность ведийских текстов, сам Сканда – как «внутренняя сущность вед» (т. е. мантра «Ом»), копье в его руке – как брахмавидья (знание Брахмана) и т. д. О распространенности подобных интерпретаций в раннесредневековой литературе Юга свидетельствует, в частности, то, что в приписываемой Шанкаре поэме «Бхуджанга-праята-стотра» Сканда получает даже эпитет махавакья-гуха – «тайная сущность великого изречения» (имеется в виду центральная формула упанишад: «тат твам аси»).
Развитие культа Муругана-Сканды и его последующее слияние с культом Шивы и Парвати иллюстрируют общую тенденцию к сближению южноиндийских религиозных направлений с верованиями Севера, сближению, которое способствовало проникновению в дальнейшем чисто дравидийских мифов, образов и их эзотерической символики в культуру самых различных районов Индостана.
Период с VI по XII в. отмечен подъемом религиозной шиваитской поэзии. Ее создатели, поэты, получившие название наянаров («предводителей») и впоследствии приобретшие статус святых, в своих исключительно эмоциональных гимнах воспевали Шиву, клялись ему в верности и любви, реализуя, таким образом, характерные для течения бхакти идеи беззаветной преданности богу. Наиболее известными наянарами были Аппар, Сундарар и Нянасамбандар (VII–VIII вв.), чьи стихи составили знаменитый сборник «Деварам» («Гирлянда богу»), а также Макиккавасахар (IX в.), автор поэмы «Тирувасахам» («Священное речение»), ставшей как бы энциклопедией тамильского шиваизма. В этом сочинении, помимо типичных для бхакти эмоциональных излияний, содержится ряд философских идей, которые в XII–XIV вв. способствовали созданию оригинальной философской школы шайва-сиддханта.