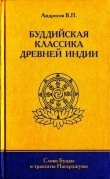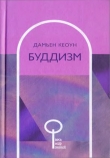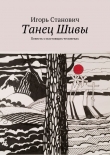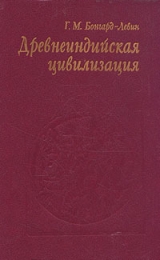
Текст книги "Древнеиндийская цивилизация"
Автор книги: Григорий Бонгард-Левин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 32 страниц)
О социальных взглядах локаятиков, к сожалению, известно немного. Тем более ценными представляются высказывания упоминавшегося ранее Бхарадваджи, которому «Махабхарата» приписывает необыкновенно смелые для его времени мысли:
От вожделения, усталости, голода и заботы, печали, страха, гнева
Все не свободны: зачем различать тогда варны?
Пот, мочу, кал, кровь, желчь и слизи тело каждого выделяет; зачем различать [тогда] варны?
И разные у них окраски, почему ж различать [лишь четыре] цвета («варна» в санскрите означает также «цвет». – Г. Б.-Л.)?
Это выступление против варновой системы позволяет предположить, что локаятики не только в собственно философской, но и в социальной сфере оставались верными духу рационалистического радикализма. Особо примечателен тот факт, что данное высказывание попало в текст поэмы, тщательно редактировавшийся идеологами жречества. Они с уважением отзывались о различных видах практической деятельности, в первую очередь о таких, кои приносят непосредственную материальную пользу, – земледелии и скотоводстве. Шанкара, например, приводит следующие слова своих оппонентов: «Для мудрого наслаждение радостями этого мира определяется возможностями, которые открывают ему земледелие, скотоводство, торговля, государственная служба и т. п.». Упоминание о «государственной службе» не случайно. Отвергая претензии жречества на руководящее положение в обществе, локаятики были склонны отстаивать примат светской власти.
Признание приоритета светской власти подтверждается в ряде сочинений, излагающих положения локаяты. Говорит об этом и Мейкандер: «[Мы же], с соизволенья царя нашей страны, стремимся добывать богатства повседневно…» Невольно бросается в глаза сходство с позицией «Артхашастры». Недаром Каутилья считал необходимым для правителя знакомство с этой системой. Вероятно, именно на локаяту ссылался он, когда утверждал, что «философия… исследует при помощи логических доказательств… в учении о государственном управлении верную и неверную политику» (I, 2).
Санкхья. Философские системы древней Индии, признававшие авторитет вед или по крайней мере не выступавшие против него открыто, получили название астика (в отличие от настика – термин, объединявший одновременно локаяту, адживикизм, буддизм и джайнизм). Традиционно они подразделялись на шесть школ (даршан). Классификация эта, сложившаяся еще в древности, имела в высшей степени условный характер, что особенно четко проявилось на примере самой влиятельной из даршан – санкхьи, которая представляла собой совершенно самостоятельное и оригинальное течение. Хотя в целом она предстает как дуалистическая система, главный вклад ее в историю индийской философии заключается в глубоком и разностороннем развитии учения о материальной природе мира и происхождении всей совокупности вещей и существ из саморазвивающейся материи.
Европа открыла для себя это учение в первой половине XIX в.
Перевод «Санкхья-карики» Ишваракришны – самого раннего из дошедших до нас текстов школы, – выполненный Г. Кольбруком, был издан в 1837 г. Гегель несколько раз упоминал о санкхье в «Лекциях по истории философии», высоко оценивая ее достижения в области стихийной диалектики и сравнивая тезис о «трех качествах» (гунах) с «законом отрицания».
На Западе существовала также тенденция оценивать санкхью как доктрину, глубоко религиозную по своему существу. Еще Ф. Шлегель (1772–1829), один из основателей немецкой индологии, называл ее «системой чистого спиритуализма». Попытки свести ее содержание к мистике предпринимались и в дальнейшем, однако большинство специалистов решительно их отвергало. Крупнейший авторитет в данной области, немецкий исследователь Р. Гарбе, труд которого «Философия санкхьи. Рассмотрение индийского рационализма», вышедший в 1894 г., продолжает оставаться классическим, отстаивал взгляд на санкхью как на «реалистическое учение», объясняющее мир и его процессы с позиций последовательной логики. О рационализме санкхьи писал Ф. И. Щербатской.
Надо сказать, что сравнительно недавно в оценке этой системы начала допускаться своего рода «обратная» тенденциозность. Известный индийский ученый Д. Чаттопадхьяя, предпринявший шаги к реконструкции «первоначальной санкхьи», произведения которой до нас не дошли, и сделавший ряд весьма ценных наблюдений (см. его книги «Локаята даршана», «Индийский атеизм»), слишком прямолинейно интерпретировал это учение, утверждая, что в принципе оно не отличается от локаяты. Он старался найти корни его в примитивных верованиях доарийского населения Индии, что вызвало справедливую критику в научной литературе.
Зарождение санкхьи относится к весьма раннему периоду. Достаточно сказать, что отдельные, притом важные элементы ее учения могут датироваться уже шраманским периодом: об этом свидетельствует список элементов бытия знаменитого Арада Каламы, одного из первых наставников Будды («Буддачарита», гл. XII). Специфические списки категорий санкхьи засвидетельствованы в «средних» упанишадах – «Катхе», «Шветашватаре» (здесь впервые названа «санкхья» – VI. 13), а в «Майтри» уже обнаруживается вполне развитая категориальная система, максимально приблизившаяся к классической. Основной массив сведений о санкхье дает «Мокшадхарма», составленная и отредактированная в первые века нашей эры, но включающая и значительно более древние предания. Она дает представление о многообразии редакций древней (доклассической) санкхьи и учительских традициях, ассоциируемых с именами Панчашикхи, Асита Дэвалы, женщины-философа Сулабхи и др. Другими источниками древней санкхьи служат знаменитый медицинский трактат «Чарака-самхита» (первые века нашей эры), дхармашастры (прежде всего «Законы Ману» и «Вишну-смрити»), упомянутая уже «Буддачарита» Ашвагхоши (ок. II в. н. э.), отдельные свидетельства буддийской и джайнской литературы. Уже Каутилья говорит о «трех философиях» – санкхье, йоге и локаяте; «Брахма-сутра» Бадараяны содержит полемику с ее положениями. В эпоху Маурьев она, вероятно, была уже самостоятельной системой, игравшей немалую роль в духовной жизни Индии.
Слово санкхья означает «калькуляция», «подсчет». По мнению некоторых исследователей, термин, избранный в качестве наименования всего направления, указывает на важность количественных исчислений в данном учении и на особое место, которое в нем занимала числовая символика. На этом основании высказывалось даже предположение, что теория Пифагора о мистическом значении чисел возникла под влиянием санкхьи. С последним решительно нельзя согласиться: в ней нет никакой мистики чисел, а возможность воздействия древнеиндийской системы на греческую мысль уже в VI в. до н. э. (время жизни Пифагора) также кажется маловероятной. Беспочвенна и попытка ряда исследователей, видящих в санкхье учение исключительно мистическое, истолковать этот термин как «отвлеченное размышление», «религиозное сосредоточение (медитация)». Скорее всего, название школы подчеркивает свойственный ей рационализм, апелляцию при рассмотрении основных проблем бытия к логике и разуму, а не к авторитету священных книг.
Создателем этого учения, по преданию, считается мудрец Капила. «Шветашватара-упанишада» (V, 2) называет некоего «красного риши» («капила» значит «темно-красный»), но вопрос, тождествен ли он основателю школы, так и не был решен. По мнению Д. Чаттопадхьяи, авторитет его тогда был столь велик, что авторы упанишад включили ее основателя в число божественных мудрецов. А. Кит, напротив, полагал, что Капила – изначальное имя божества, а приверженцы санкхьи указали на него, чтобы подчеркнуть древность и исключительную ценность своей традиции. Сейчас преобладающей в науке является компромиссная точка зрения: первый (или один из первых) выразитель идей учения действительно носил имя Капилы, однако идет ли речь в «Шветашватара-упанишаде» именно о нем, установить невозможно. Произведения его самого и его учеников, Асури и Панчашикхи, не сохранились, хотя последние были явно лицами историческими. Имя Асури неоднократно встречается в эпосе. Составитель «Санкхья-карики» упоминает Панчашикху, называя его своим предшественником.
Сочинение Ишваракришны, относящееся примерно к V в., является уже некоей систематизацией начальной формы учения. Это подтверждается и сопоставлением текста «Карики» с замечаниями о санкхье в более ранних сочинениях (например, у Бадараяны), и свидетельством буддийской традиции. В отличие от подавляющего большинства философских трактатов Индии, не связанных с буддизмом, «Санкхья-карика» стала известной в кругу махаянистов и была уже в VI в. переведена на китайский язык. Составлению ее предшествовала очень серьезная работа в ранних традициях санкхьи – «первоначальной санкхьи» (их было много) с I по V в. н. э. Источники (важнейший из них – обстоятельный комментарий к тексту «Юктидипика» – VII–IX вв.) позволяют опровергнуть распространенное мнение, согласно которому индийская философия создавалась (в отличие от античной) почти исключительно «анонимными» мыслителями. Реконструированные фрагменты учений Паурики, Патанджали (не путать с составителем «Йога-сутр»), Панчадхикараны, Варшаганьи, его последователей, Виндьявасина выявляют напряженную полемику между различными школами в общей традиции санкхьи по уже устоявшимся топикам.
К предметам спора в первую очередь относились проблемы уточнения порядка космической эволюции, существования и формы «мигрирующего тела» – линга-шарира (субтильного агрегата, выступающего своеобразным посредником при трансмиграции пуруши и соединяющегося с «грубыми телами»), количества признаваемых «независимых» органов познания (карана) и ряд других. Особенно важно то, что за свидетельствами о расхождениях во мнениях скрывается вполне зрелая теоретическая рефлексия, позволяющая говорить о философствовании в собственном смысле слова (чего никак не скажешь о «философии вед», «философии упанишад», «философии Гиты»). В тот период санкхьяики стояли как бы в авангарде раннеиндуистской идеологии, вели постоянные дискуссии с ее главными оппонентами – буддистами. Этот факт тем более любопытен, что в древности традицию санкхьи объединяло с буддизмом очень многое, и следы «неортодоксального прошлого» навсегда сохранились в ее наследии и после ее активной «индуизации».
Несмотря на небольшой объем сочинения Ишваракришны (всего 72 двустишия), оно поражало уже древних мыслителей исключительной насыщенностью содержания, сжатостью и ясностью формулировок. В нем излагаются центральные положения «классической санкхьи» (названа так в противоположность «первоначальной санкхье», реконструируемой на основании более ранних текстов, и санкхье «эпической» – имеются в виду разнообразные отрывки «Махабхараты», излагающие, правда в упрощенном и несистематизированном виде, отдельные принципы этой школы). Остальные произведения представляют собой преимущественно комментарии к трактату Ишваракришны. Философ Гаудапада в VI–VII вв. составляет «Санкхья-карикабхашью», и другой мыслитель, Вачаспатимишра, в IX–X вв. «Санкхья-таттвакаумуди». В позднее средневековье появляются комментарии Виджнянабхикшу и Анируддхи к «Санкхья-сутрам» (XIV–XV вв.), рассматривающие отдельные тезисы «классической санкхьи». Автором объявляется сам Капила, однако действительный автор произведения остался неизвестным. «Санкхьясутры» – основной текст, воспроизводящий взгляды «поздней санкхьи», хотя на нем литературная традиция данной школы не заканчивается: ряд сочинений, не вносящих, правда, ничего кардинально нового в разработку главных идей «классической санкхьи», датируется XVI–XVII вв.
Решение вопроса о характере начального учения сопряжено со значительными трудностями. Большую ценность в этом смысле представляет «Брахма-сутра» Бадараяны. Появившаяся задолго до «Санкхья-карики», она отражает более древний вариант системы, причем Бадараяна в качестве ее идейного противника с последовательностью выявляет именно то ее специфическое содержание, которое противопоставляло санкхью веданте и родственным направлениям в индийской философии, развивавшим центральный принцип упанишад. Ведантисты определяют санкхью как прадхана-карана-вида (учение о природе в качестве всеобщей причины) или сачетана-карана-вада (учение о том, что в основе мира лежит нечто, не обладающее сознанием, т. е. материя, или природа). Они подчеркивают, что оба принципа совершенно неприемлемы для веданты, признававшей в качестве первопричины мира Брахмана как «чистое сознание».
Бадараяна называл прадхану ануманита, подчеркивая ее «умозрительный» (неведийский) характер, и считал санкхью главным оппонентом веданты, исходя, вероятно, и из влияния, которым она пользовалась, и из ее концептуального несоответствия собственной системе. Он полагал, что с опровержением положений санкхьи все остальные рационалистические концепции лишаются своей отправной точки. В этом с ним был согласен и Шанкара. Детально комментируя разделы «Брахма-сутры», касающиеся санкхьи, он утверждал, что победа над ней означает для веданты победу над другими противниками. Учение о прадхане – первопричине мира, по мнению Шанкары, служит универсальным теоретическим фундаментом для любых рационалистических направлений вообще. Стремился опровергнуть санкхью и Рамануджа, заявлявший, что «мышление не может принадлежать нечувствующей прадхане».
Многие исследователи отмечали присутствие в упанишадах ряда терминов, характерных для санкхьи. В «Шветашватараупанишаде» (VI, 10) упоминается высшее существо, «покрывающее» вселенную «нитями, возникшими из прадханы»; «Шветашватара» и «Майтри-упанишада» излагают теорию «трех гун» – сил, тенденций, определяющих развитие материи. Некоторые существенные моменты санкхьи зафиксированы в «Законах Ману». Здесь перечисляются те же основные элементы мира, излагаются рационалистическая теория причинности (I, 11–20), положения о гунах (XII, 24–51) и трех источниках познания (XII, 105). Примечательно, что в оказавшем огромное влияние на древнеиндийскую науку медицинском трактате Чараки идет речь об одном из самых ранних вариантов этой системы – «санкхье 24 элементов», – выводящем все явления бытия из первоначальной материи. «Махабхарата», прославляя санкхью как «древнейшее учение», также говорит и о «санкхье 24 элементов».
Свидетельства, касающиеся санкхьи, в «Артхашастре», «Брахма-сутре», эпосе, трактате Чараки и в «Ману-смрити» показывают, что ее идеи на рубеже нашей эры получили значительное распространение.
Наиболее известный из текстов этой школы, трактат Ишваракришны (V в.), послуживший основой для комментариев, исследователи условно разделяют на семь частей. В первой подчеркивается исключительная роль философского знания в открытии истины; автор, смело выступая против традиционных представлений, утверждает, что никакие ритуальные действия не способны открыть путь к «освобождению». Во втором разделе содержится теория элементов бытия, в третьем – концепция эволюции, в четвертом – классификация форм восприятия и познания, в пятом – своего рода «учение о мире», которое рассматривает связь неорганической природы, растений, животных и человека, в шестом – учение о пуруше (оно породило наибольшее число интерпретаций и вызвало серьезные разногласия). Заключение, состоящее всего из трех двустиший, излагает историю санкхьи и перечисляет ее учителей.
Тексты, появившиеся после «Картой», не дают почти ничего принципиально нового, а иногда и искажают ряд ее центральных положений, поэтому освещать философскую доктрину санкхьи целесообразно, исходя из содержания памятника. Главный ее тезис выражается в утверждении изначального и ничем извне не обусловленного существования материальной первоосновы мира – пракрити, или прадханы. Поскольку «пракрити» означает «природа», этот термин так обычно и переводился применительно к текстам рассматриваемой системы. По мнению ряда ученых, более точным был бы перевод «первоматерия», ибо в трактате наравне с пракрити употребляется и мула-пракрити (первоначальная природа), что подчеркивает универсальность пракрити в качестве первоистока любых форм бытия.
Последняя выступает в двух видах: вьякта (проявленная) и а-вьякта (непроявленная). Понятия, заимствованные из упанишад, получают в санкхье иной акцент. «Проявленное» (природа) представляет собой совокупность конкретных, непосредственно воспринимаемых вещей, «непроявленное» же, отображающее самый принцип материальности мира, одинаково присутствует в любой вещи. Оно – потенциальное вместилище всех возможных видов. Процесс миротворения как раз и выражается в распаде этой «первичной целостности» на ряд отдельных нематериальных и материальных форм, не более отличающихся от первопричины, чем вторичные модификации явления от его основы.
Таким образом, по учению санкхьи, мир и его первопричина не разделены непреодолимой пропастью (напомним, что Брахман упанишад – духовный принцип, никак не сопоставимый с конкретными проявлениями бытия, данными человеку в опыте), и импульс к движению, к саморазвитию заключен в самой «изначальной природе» – вещи и живые существа естественно возникают в процессе трансформации пракрити. (Для упанишад и в особенности для веданты момент создания чувственно ощущаемого мира из нематериального Брахмана оставался, по сути, необъяснимым: согласно упанишадам, этот переход был вне сферы познания, ведантисты же пытались решить данный вопрос, утверждая нереальность окружающей действительности.)
Натуралистические идеи, характерные для ранней санкхьи, определили отрицание в данной системе бога-творца. Не случайно ее именовали нир-ишвара-вада – отвергающая принцип бога-демиурга, а иногда свабхава-вада – учение о возникновении мира из его материальной первоосновы. (В индологической литературе «нир-ишвара» принято переводить как «атеистическое [учение]», что не совсем верно, ведь мир божеств и сверхъестественных существ не отвергается, хотя в этом допустимо видеть и простую дань традиционным представлениям.) Доводы против теизма подробно разработаны у Гаудапады и в комментарии Вачаспатимишры: мир должен иметь причину, но таковой не может выступать бог (или Абсолют), о котором говорится, что он не подвержен изменению. Неизменное не способно быть причиной изменяемого. Напротив, изначальная материя, которая вечна, но непрерывно пребывает в движении, может быть признана первопричиной. В «Гаудапада-бхашье» приводится следующее рассуждение: «Бог лишен свойств, и потому несообразно выводить из него происхождение миров, наделенных свойствами. То же можно сказать и о духе… Поэтому только материя есть причина; причины же материи, отличной от нее, нет» (перевод В. Г. Эрмана).
Вопрос о времени сложения «Санкхья-карики» и содержании ее отдельных частей подробно рассмотрен в индологической литературе. Об этом писали Р. Гарбе, Дж. Ларсон, П. Дейссен, А. Кит, С. Радхакришнан.
Возражая тем, кто утверждал, что неразумная материя не содержит в себе импульса к миротворению, ибо творцом может быть лишь разумное существо, философы санкхьи выдвигали контраргумент. Если предположить, что всемогущий создатель мира стоит над реальными вещами, то как объяснить цель, которой он руководствуется в акте творения? В качестве существа, наделенного совершенством, он не может стремиться к чему-либо, иначе нужно допустить, что он чего-то еще не достиг, а это противоречит исходной посылке. Целью бога нельзя признать и благо существ: мир полон страданий, и сознательная воля, творящая его, могла быть только злой. Неверно также, что в творении обязательно должно подразумеваться участие сознания. Молоко в теле коровы, например, образуется без всякого вмешательства разумного начала, хотя сам процесс достаточно сложен.
Выступление санкхьи против теизма с очевидностью отразило независимость данной школы от ортодоксальных идей, стремление полагаться во всех своих выводах исключительно на доводы разума и объяснять явления внешнего мира естественными видоизменениями материи. Показательно, что Капилу именовали «основателем атеистической санкхьи». В комментарии к «Брахма-сутре» Шанкара отмечал, что «система Капилы противоречит ведам, упанишадам (шрути) и таким текстам, как „Законы Ману“, которые следовали ведам». Не случайно позже, когда санкхья подверглась значительному влиянию веданты и связанного с ней круга ортодоксальных представлений, были предприняты настойчивые попытки отбросить ее изначальный «атеизм».
Как же проходит процесс становления мира и его дальнейшие изменения? Чтобы понять ответ санкхьи на этот вопрос, надо остановиться на разработанной ею теории причинности, получившей наименование сат-карья-вада (учение о присутствии следствия в его причине). Если бы следствие не присутствовало в причине, рассуждали философы, оно возникало бы словно из ничего, т. е. каждое новое явление нуждалось бы во вмешательстве сверхъестественного начала. Ведь то или иное действие может быть порождено лишь определенной первоосновой: творог производится из молока, ткань – из пряжи и т. д. Более того, каждая заново возникшая вещь сохраняет связь с обусловившей ее причиной. Но простое признание присутствия следствия в причине означало бы, что мир есть нечто раз и навсеща данное и не способное к изменению: все следствия должны были бы проявиться немедленно и одновременно. Учители санкхьи поясняли, что следствие присутствует в причине потенциально, в скрытой форме, и для его реализации требуется комплекс конкретных условий. Самый переход причины в следствие опосредован множеством разнообразных действий, которые только и способны выявить возможности, содержащиеся в причине.
Чрезвычайно интересно положение санкхьи, касающееся «принципиальной неуничтожимости изначальной основы – причины» (кувшин как бы содержится в уже замешанной глине). Было бы, разумеется, грубой модернизацией видеть в данном тезисе предвосхищение законов сохранения материи и энергии, однако, несомненно, некое наивное «предчувствие» этой важнейшей идеи естествознания в нем присутствует. В сочинении Мадхавы «Сарва-даршана-самграха» говорится о двух теориях причинности, выдвинутых индийцами в эпоху древности и в средневековье: паринама-вада (учение о реальности превращения причины в следствие) и виварта-вада (учение об иллюзорности изменения). Первое связывают с санкхьей, второе – с ведантой. Принято квалифицировать эти учения как два ответа на вопрос о природе отношения между причиной и следствием.
Санкхья рассматривала прежде всего непосредственное видоизменение предметов (глина превращается в кувшин и т. п.), отталкиваясь от идеи единой «вселенской первопричины», по отношению к которой все другие причины вторичны. Тем не менее рациональная трактовка причинно-следственных связей – несомненное достижение этой системы и индийской философской мысли в целом.
Еще одной важной частью философии санкхьи служит ее «теория эволюции». Согласно данной концепции, материя первоначально находилась в нерасчлененной, «непроявленной» форме. Ее превращение в мир предметов и существ, открытый нашему восприятию, совершалось благодаря трем гунам – трем качествам, сочетания которых направляют движение и развитие вселенной. Названия гун как бы указывают на их характер: тамас (тьма), раджас (страсть) и саттва (сущность). Центральная из них, раджас, воплощает принцип энергии и активности, тамас – инерцию, саттва – ясность, равновесие, успокоение. Намек на тройственное деление «качеств бытия» встречается уже в упанишадах. В «Чхандогья-упанишаде» сказано: «Красный образ огня – это образ жара, белый – [образ] воды, черный – пищи» (VI, 4, 1). В «Шветашватара-упанишаде» и «Майтри-упанишаде» впервые появляется термин «гуна». Любопытно, что и в трактате санкхьи, и в произведениях, отразивших влияние этой системы, сохраняется цветовая символика: тамас всегда связывается с черным цветом, раджас – с красным, саттва – с белым.
«Концепция гун» в санкхье получает более детальную разработку: они ассоциируются с ее основным тезисом о материальной первопричине мира. Гуна – «нить», «веревка», «качество», «достоинство». Совмещение в одном слове двух различных понятий («нить» и «качество») определило те метафоры, которые создатели системы употребляли для толкования известной ранее «теории гун». Пракрити уподоблялась канату, сплетенному из трех прядей. Любая вещь, учили они, обязательно включает в себя все три гуны одновременно, однако соотношение их меняется и в зависимости от этого проявляется материя. Для объяснения механизма их взаимодействия приводилось сравнение с лампой: фитиль, масло и пламя – три обязательных компонента процесса горения. В «непроявленной» форме материи уже присутствуют три гуны, но они находятся в состоянии временного равновесия; с нарушением его гуны приходят в движение, которое и имеет следствием образование конкретных вещей.
В основе теории эволюции лежит представление о 24 элементах, или сущностях (таттва), составляющих сложную иерархическую систему. Из «непроявленной» материи (авьякта, мула-пракрити) возникает махат (букв. «великий»), занимающий первое место среди «проявленных» элементов пракрити. Эти два принципа дают начало параллельно «органам восприятия» и «органам действия» человека и «пяти вещественным элементам» (бхута), образующим внешний мир. Вещественные элементы создаются танматрами (тонкими сущностями), выражающими свойства того или иного элемента. В соответствии с уровнем развития естествознания того времени они трактовались как нечто близкое атомам (танматра огня, например, считалась носителем свойства «огненности как таковой»). «Грубые» элементы (махабхутани) включали эфир (танматрой его считался звук), воздух, огонь, воду и землю. В перечень таттв входили пять чувств и пять органов действия. К этим десяти органам чувств и действий индивида прибавлялся одиннадцатый – манас (ум), синтезирующий данные органов чувств и как бы перерабатывающий их.
Пракрити, махат, ахамкара («индивидуальное начало»), «одиннадцать проявлений человека», пять грубых элементов и пять танматр образуют в совокупности систему 24 начал (таттв). Отсюда и происходит термин «санкхья 24 элементов», которую противопоставляли санкхье 25 и 26 элементов (25-м элементом был пуруша, выражавший отдельное от материи духовное начало; под «санкхьей 26 элементов» понималась заметно отличавшаяся от санкхьи школа йоги, которая признавала личного бога и включала его в систему таттв как 26-й элемент). Элементы мира, по «эволюционной космогонии», выводятся из «первоначальной материи» как всеобъемлющей и универсальной причины всех явлений и процессов вселенной.
Какое же место в этой схеме занимают «принципы сознания» – буддхи и ахамкара, которые, согласно санкхье, предшествуют миру внешних предметов, составленному из пяти «грубых элементов»? Выявление роли этих двух «духовных» принципов в системе таттв породило столь значительные трудности для научной интерпретации, что известный историк индийской философии Г. Циммер назвал данную проблему «загадкой сфинкса». С. Радхакришнан полагал, что порядок таттв случаен и обусловлен воздействием каких-то предшествовавших санкхье воззрений, которые в их первоначальной форме до нас не дошли.
Несомненный интерес представляет и теория познания санкхьи. Знание о внешних объектах, согласно ее учению, может быть получено в три этапа. Первым и изначальным является непосредственное восприятие. Предметы, окружающие человека, воздействуют на его органы чувств, вызывая соответствующие образы, лишенные, правда, какой-либо четкости и напоминающие представления ребенка. Они и остались бы таковыми, если бы не способность индивида перерабатывать и критически анализировать данные органов чувств (второй этап). Манас обобщает сведения, поступающие от непосредственных ощущений, и благодаря его «работе» рождается ясное понимание вещи и ее отношения к другим вещам. Этот «материал» он «передает» ахамкаре и буддхи; последнее является главным инструментом достижения подлинного знания о сложных процессах, происходящих в мире.
Сама система мыслилась ее создателями как результат рационального обобщения и синтеза всей суммы ранее полученных конкретных сведений о природе и человеке. Санкхья опирается на чувственное восприятие (пратьякша), хотя основное место в ней принадлежит выводному знанию (анумана). Вместе с тем она не отвергала и третьего источника познания – аптавачана (авторитетное свидетельство). В комментариях к «Карике» пояснялось, что речь идет о положениях ведийских текстов, рассматривавшихся ортодоксальной традицией как «откровение».
Примечательно, однако, что в сочинениях санкхьи практически не встречаются ссылки на веды. Возможно, тезис о ценности «авторитетного свидетельства» был введен для того, чтобы пойти на своеобразный компромисс с ортодоксальной традицией. Судя по высказываниям Бадараяны, первоначальное учение совершенно не было связано с ведизмом; ведантисты объявляли санкхью школой, в принципе враждебной самому духу ведийских текстов. В дальнейшем ее теоретики заметно смягчили антиведийский характер своей доктрины и, пусть формально, склонились перед авторитетом вед. Это позволяло включить санкхью в число философских систем, не противоречащих господствующей традиции, и, быть может, помогло ей выстоять в борьбе с ведантистскими течениями. Кроме того, по мнению ряда исследователей, аптавачану санкхьи неправомерно отождествлять с безоговорочным признанием ведийских текстов. Термин означает наряду с ведийским авторитетом заслуживающее доверия свидетельство вообще.
Уже отмечалось, что рассматриваемая система является последовательно дуалистическим учением. Наравне с пракрити, творящей и формирующей мир, она допускает бытие «чистого сознания» (пуруша), определяемого как сущность, не зависимую от пракрити. Интерпретация этой категории порождает значительные трудности. Прежде всего бросается в глаза противоречивость характеристик пуруши в самих трактатах, что вызвало полемику между теоретиками школы. В первоначальном учении присутствовал тезис о множественности пуруш (пуруша-бахутвам), тогда как в позднейших сочинениях провозглашался уже принцип единого Пуруши, наделяемого качествами, близкими к атрибутам Атмана упанишад. «Санкхья-сутра» посредством весьма замысловатых и искусственных построений пыталась примирить оба положения.
Сохраненные в текстах свидетельства об аргументации сторонников теории «множественности пуруш» показывают, что в этом случае пурушу трудно идентифицировать лишь с «чистым субъектом». Ишваракришна говорит: «Если бы имелась только одна душа, то тогда, когда она рождалась, все должны были бы родиться. Когда она умирала, то все должны были умирать. Если бы имелся какой-либо порок в жизненных инструментах души, подобно глухоте, слепоте, немоте, увечью или хромоте, все должны были бы быть глухими, слепыми, немыми, увечными и хромыми…