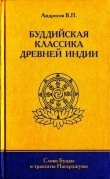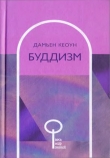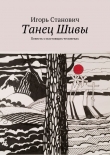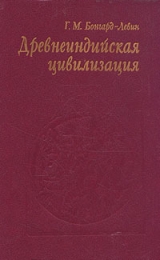
Текст книги "Древнеиндийская цивилизация"
Автор книги: Григорий Бонгард-Левин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 32 страниц)
Ряд факторов в зависимости от того, присущ он субстрату причины или привносится извне, выступает то в функции самаваи карана, то в нимитта карана. Но не всякая совокупность условий попадает в разряд причин. Так, палка горшечника является нимитта карана горшка, но цвет палки и материал, из которого она сделана, не входят в число причинных факторов. Равным образом не все, что производится совокупностью причин, может называться следствием, скажем звук, возникающий при работе гончарного круга.
Особую прочность причинно-следственной связи придает в вайшешике категория самаваи – присущность, или отношение нераздельных в пространстве и во времени целого и его частей, субстанции и качества, места и вмещаемого и т. п., в отличие от простой временной сопряженности чужеродных факторов – самайоги.
Отметим, что проблема причинности занимала философов и других школ, немало внимания ей уделяли, например, буддийские теоретики, но в их учении причинно-следственные связи не отделялись от субъекта и не рассматривались в отрыве от него. Концепция пратитья-самутпады характеризовала их хотя и не как случайные, но в основе иллюзорные. Позиция вайшешиков в данном вопросе была несомненным достижением древнеиндийской философской мысли.
Рационалистична в принципе и теория познания этой системы. Органы чувств (индрии) воспринимают внешний мир, а разум (манас) синтезирует и логически обобщает их свидетельства. Представления индивида о предметах ни в коем случае не субъективны, поскольку отражают реальные свойства вещей. В «Сутрах Канады» читаем: «Познание – [это есть белое] в отношении белого объекта – [получается] от познанчя субстанции, в которой присущность белизны существует, и от познания. Эти оба (познание белой субстанции и познание белизны. – Г. Б.-Л.) связаны как причина и следствие». Приведенный отрывок в полной мере иллюстрирует тенденцию вайшешиков считать всякое знание о мире результатом чувственного восприятия внешних предметов, опосредованного затем деятельностью разума. Мир принципиально познаваем, а критерием правильности суждений о нем служит их соответствие реальной действительности, устанавливаемое с помощью опыта.
В этом вайшешика сходится с локаятой, тоже отстаивающей эмпирическую природу наших знаний о вселенной и адекватность получаемых таким образом представлений. Однако в отличие от локаяты она признает значимость и рационального познания, осуществляемого средствами логического вывода – ануманы.
Дискуссионным остается в индологии вопрос об отношении изучаемой школы к ведийско-брахманистской традиции. Эту школу (как и санкхью) философы ортодоксального направления относили к астика, очевидно, на том основании, что известное им учение уже в значительной мере утратило первоначальную «атеистическую» направленность. Ранняя вайшешика не отрицала вед, но и не признавала за ними какой бы то ни было религиозной ценности: амхиты выступали таким же нейтральным источником сведений, как научные трактаты по тем или иным областям знания. В дальнейшем эта позиция в корне меняется. Шанкарамишра (XVI в.) прямо заявлял, что значение вед определяется их божественным происхождением; с этой целью он тенденциозно комментировал соответствующий отрывок из «Сутр Канады». Если представление о боге и Абсолюте в какой бы то ни было форме было чуждо ранней вайшешике, то в поздних текстах той же традиции этот религиозный принцип вводится в число ее положений. Впрочем, и здесь речь скорее может идти о формальном примирении с теистическими системами, нежели о принципиальной трансформации самого учения.
Ранняя вайшешика отвергает понятие «вселенской души» (параматман), принимая лишь идею индивидуальной духовной субстанции (атман). В позднейших же произведениях представление о параматмане, заимствованное из веданты, становится частью учения. Однако все эти искажения первоначальной сути доктрины не затронули онтологии вайшешиков и теории познания найяиков.
Значение последних в истории индийской мысли определяется прежде всего исключительным вниманием к вопросам логики и общей гносеологии. Первый дошедший до нас труд, систематически излагающий знания в этой области, – трактат Готамы «Ньяя-сутры» – показывает высокий уровень развития логических категорий.
Как и базовые тексты остальных даршан, сутры ньяя сложились на основе более ранних традиций этой школы. Уже в период V–I вв. до н. э. формируется то направление в диску рсии и ведении организованного дебата, из которого позднее образуется известная нам даршана. На этом этапе термин «ньяя» обозначает еще не конкретную философскую систему, но «дискурсивную науку» в целом. Гроцесс сложения «Ньяя-сутр» был многоступенчатым и завершился уже в зрелое средневековье (именно тогда Вачаспатимишра сделал попытку создания канона аутентичных сутр). В настоящее время может быть признана точка зрения В. Рубена, Дж. Туччи, Г. Оберхаммера, согласно которой историческое ядро текста составляли книги I и V, представлявшие собой индекс-перечень основных топиков учения, а также казуистических и софистических приемов ведения диспута и логических, а также прочих ошибок, ведущих к поражению в споре. Позднее к ним были присоединены остальные книги, где, в частности, подробно разработана метафизика системы. В конечном счете весь процесс завершился в основном в гуптскую эпоху, хотя «остов» сутр относится к кушанскому времени. Есть основания полагать, что формировавшиеся сутры быстро комментировались, возможно почти синхронно их созданию. В процессе сложения и базового текста, и толкований найяики быстро реагировали на критику со стороны буддистов (особенно мадхьямиков), в среде которых также параллельно создавались учебники по логике и дебату.
Готама исходил из идеи реальности внешнего мира, его независимости от субъекта и принципиальной познаваемости вселенной посредством ощущений, которые логически синтезируются умом. Главная проблема ньяи – законы «правильного мышления». Образы, возникающие в памяти, однократные наблюдения и предположения еще не дают адекватного представления о предметах. Критерием истинности может служить лишь их соответствие свидетельствам опыта. Только пропущенные через логический анализ «сообщения» опыта способны открыть подлинную сущность предмета и явления.
В центре внимания мыслителей ньяи – 16 категорий, или падартх, главные из них: средства достоверного познания (праманы) и объекты познания (прамея), а также познавательные ошибки и различные моменты теории диспутов (формы логического рассуждения, виды софистических аргументов и т. п.).
Учение о способах и приемах познания, особенно логических, разработано найяиками весьма детально. Они признают четыре вида праман: чувственное восприятие, логический вывод, сравнение и свидетельство авторитетного источника. Процесс познания трактуется как обнаружение объектов, существующих вне и независимо от человеческого сознания. Главным критерием его истинности является соответствие фактам, открываемым в реальном опыте.
Особый интерес представляет построение силлогизма (аваява), ибо здесь мы имеем дело с классической индийской логикой. Из пяти членов силлогизма составляется нормативное умозаключение, которое можно проиллюстрировать так: 1) тезис (пратиджня): «Звук не вечен»; 2) основание вывода, аргумент (хету): «Потому что он произведен»; 3) пример (удахарана) по сходству: «Все произведенное не вечно, как, например, горшок»; пример по несходству: «Все не невечное не произведено, как, скажем, Атман»; 4) применение (упаная) по сходству: «И звук также произведен»; применение по несходству: «Но звук не таков, как Атман»; 5) заключение (нигамана): «Поэтому звук не вечен».
По сравнению с аристотелевским силлогизм найяиков содержит два лишних члена. Но за этим внешним различием обнаруживаются и более серьезные расхождения. Античный силлогизм ориентирован на доказательство и на получение нового знания; индийский же – прежде всего на убеждение, на защиту определенной точки зрения в диспуте. Предложенная иллюстрация – а она выбрана не случайно (проблема вечности звука – традиционный и популярнейший предмет дебатов индийских философов) – позволяет видеть в индийском силлогизме не монологическое выведение следствий из посылок, но развернутую диалогическую речь, опирающуюся на риторическое построение.
Примечателен и топик «дискурсия» (тарка), характеризующаяся как размышление над неизвестным предметом путем отвержения альтернативного решения вопроса. Удостоверенность в истине (нирная) – это окончательное определение предмета дискурсии после учета обеих полемизирующих сторон.
Составители «Ньяя-сутр» четко разделяют серьезную дискуссию (вада) и «пререкание» (джалпа}, «придирки» (витанда), ошибки в аргументах (хетвабхаса), «увертки» (чхала), невалидные аргументы (джати) и, наконец, пункт поражения в диспуте (ниграхастхана).
Более подробно учение ньяи разработано в комментариях к сутрам «Ньяя-сутры-бхашья» Ватсьяяны (IV–V вв.) и «Ньяяварттика» Уддьотакары (VI–VII вв.).
Особое развитие в системе ньяи получила логика. Уже ранний буддизм способствовал ее определенному прогрессу. ф. И. Щербатской подчеркивал: хотя в палийском каноне отсутствуют сочинения специально на эту тему, идеологические споры, которые зафиксированы в текстах, «велись на таком высоком уровне философского дискутирования и содержали столько диалектических тонкостей, что есть все основания предполагать существование особых трудов, посвященных искусству философского диспута». С «северным буддизмом» связан интенсивный прогресс. «Нигилизм» философов махаяны, стремившихся не столько утверждать собственное представление о мире, сколько отрицать традиционные взгляды по поводу центральных онтологических категорий, естественно, побуждал их заниматься логикой как одной из важных частей своей доктрины.
Нагарджуна уделял логическим проблемам несомненное внимание. В тибетском переводе сохранились приписываемые ему два сочинения по искусству ведения диспута – «Опровержение в споре» («Виграха-вьявартана») и «Диалектическое расщепление любого тезиса» («Вайдалья-сутра»). С помощью идеи с всеобщей относительности он старался отвергнуть реальность и надежность всех основных афоризмов Готамы.
Однако наибольший вклад в развитие логики внесли подлинные реформаторы Дигнага и Дхармакирти. Оба они принадлежали к брахманским семьям Южной Индии, где в тот период (Дигнага жил в конце IV – начале V в., Дхармакирти – в VII в.) позиции буддизма были весьма прочными. Его приверженцами нередко являлись выходцы из индуистской элиты, не способной противостоять влиянию буддийской традиции.
Творчество Дигнаги и Дхармакирти знаменовало собой высшую точку в истории древней и средневековой индийской логики. Множество сделанных ими открытий в дальнейшем было воспринято и индуистской школой логиков в лице поздних представителей ньяи. Вопросы философского дискутирования, последовательности доказательства, механизма доводов – все это мыслители махаяны развили детальнее, чем найяики. (Кстати, западные эксперименты в области выработки общих правил логической дедукции, по мнению Щербатского, тоже во многом уступают достижениям буддистов.)
Вместе с тем собственно мировоззренческий аспект теории Дигнаги и Дхармакирти свидетельствовал о бесспорном шаге назад в общем процессе развития индийской логики: согласно их взглядам, логика не служит орудием объективного познания вещей и их закономерностей, а выявляет лишь некоторые внутренние законы самого процесса познания как некоей данности, совершенно независимой от мира, выступающего в качестве потенциального материала для деятельности ума. Никакие мыслительные операции, считал Дигнага, не могут установить существование или не-существование предметов. Идеалистический (отчасти даже субъективно-идеалистический) характер этих положений очевиден. Таким образом, борьба между рационалистическим и идеалистическим подходами к кардинальным проблемам бытия в полной мере проявлялась и в сфере выработки логических категорий, и в общем процессе развития логики как части философского знания.
Миманса. Традиционный список шести даршан всегда завершается системами миманса и веданта. Более точное название мимансы – пу рва-миманса, т. е. «первая» миманса, в отличие от «второй», уттара-мимансы, под которой в индийской традиции подразумевается веданта. Исследователи по-разному истолковывали смысл этого членения. Некоторые считали, что оно отражает хронологическое соотношение двух школ, однако большинство ученых, исходя из того, что отсутствуют сведения, позволяющие судить о том, какая из них возникла раньше, полагали, что речь идет скорее о содержательном соотношении. Нередко в индийских источниках пурва-миманса определяется и как карма-миманса, т. е. «миманса действия», что в конкретном контексте означает «учение о ритуальной практике», в отличие от уттара-мимансы, демонстрирующей высший уровень осмысления шрути.
Статус мимансы в индийской культуре оценивался по-разному. Если в одних источниках (например, в средневековых компендиумах «Сарва-даршана-санграха» или «Шад-даршана-самуччая») она представлена при изложении философских доктрин, то в ряде других – от брахман и упанишад до таких текстов, как трактат по поэтике «Кавьямиманса» Раджашекхары (XIII–XIV вв.) или «Прастханабхеда» Мадхусуданы Сарасвати (XVII в.), – рассматривается как особая вспомогательная дисциплина, часть брахманистской образованности, сопоставимая с дхармашастрами или пуранами.
Отношение к мимансе со стороны других течений индийской мысли в немалой степени зависело от того, какая характеристика выдвигалась на первый план. Значение ее в качестве экзегетико-ритуалистической дисциплины, по-видимому, не вызывало возражений у сторонников ортодоксии, зато философские взгляды мимансаков нередко становились предметом острых дискуссий и подвергались критике. Трудно с определенностью установить статус школы в различные исторические периоды. Но несомненно, что в ее развитии можно выделить несколько этапов. Сначала она сводилась исключительно к ритуалистическому учению и представала не отдельным идейным течением, а лишь своего рода вспомогательной дисциплиной. Хронологические рамки первого этапа крайне расплывчаты. Интересно, что, по свидетельству Шанкары, мимансаки в тот период комментировали не только канонический первоисточник своей системы – «Миманса-сутры» Джаймини, но и «Брахма-сутры» Бадараяны, составляющие основу веданты. В IV–V вв. происходит сложение философской доктрины мимансы, ее обособление от веданты и формирование в качестве самостоятельной даршаны. Расцвет приходится на VII–VIII вв. – следующий этап в истории школы, который сменяется третьим, ознаменовавшимся утратой мировоззренческой самостоятельности и поглощением ее ведантой.
В период позднего средневековья адепты мимансы отказываются от ряда кардинальных положений и по многим вопросам занимают позиции веданты. Однако как «дисциплина» миманса продолжает играть, важную роль в индийской культуре.
Ее основная проблема – исследование дхармы, понимаемой как совокупность ритуальных обязанностей. В качестве единственного достоверного источника знания о дхарме рассматриваются веды. Религиозно-практическая ориентация доктрины мимансы вызывала у ряда исследователей сомнение в правомерности отнесения ее к философской школе. Одни (как Ф. Макс Мюллер) считали, что ее лишь по традиции можно включать в перечень Дс-ршан, другие (С. Радхакришнан в своей знаменитой «Индийской философии»), признавая философский характер учения мимансы, указывали на его неоригинальность и вторичность. Однако детальное изучение текстов школы свидетельствует о формировании в ее рамках оригинальных философских (в первую очередь теоретико-познавательных и лингвофилософских) концепций. По мнению некоторых ученых (прежде всего Э. Фраувальнера и Ф. Цангенберга), вначале проблематика мимансы исчерпывалась областью религиозного ритуала, но затем, в условиях полемики и «конкуренции» с другими системами, было привлечено внимание к решению философских вопросов. Говоря о различных трактовках системы в индологической литературе, необходимо учитывать тот факт, что она является, вероятно, наименее изученной из шести классических даршан. Нужно отметить и то обстоятельство, что большая часть научных работ о мимансе посвящена средневековому периоду в истории школы, тогда как памятники древней мимансы остаются почти неисследованными.
Из сказанного ясно, насколько сложен вопрос о генезисе этой традиции: он далеко выходит за рамки собственно философской проблематики, и его решение требует анализа многочисленных «внешних» по отношению к мимансе источников, содержащих описание брахманистского ритуала и отражающих его эволюцию, попытки систематизации и теоретического осмысления. По словам известного историка индийской философии Г. Джха, уникальная роль мимансы в истории культуры древней и средневековой Индии заключается в том, что это единственная система, предложившая интерпретацию всей совокупности индуистских священных текстов применительно к практическому поведению человека.
Об основоположнике системы не сохранилось достоверных сведений. Древнейший канонический памятник ее – «Мимансасутры». Фигура Джаймини занимает одно из почетных мест среди индийских мудрецов: имя упоминается еще в «Самаведе»; к его творениям относят также «Джайминия-брахману». Точная датировка «Миманса-сутр» вряд ли возможна. По мнению некоторых ученых, они были зафиксированы примерно одновременно с «Брахма-сутрами»; при этом отмечалось, что в обоих сочинениях содержатся перекрестные цитаты: в «Брахма-сутрах» упоминается Джаймини, а в сутрах мимансы приводятся суждения Бадараяны.
Текст «Миманса-сутр» подразделяется на 12 частей (адхьяя), которые включают более мелкие единицы – пады; каждая состоит из адхикаран, или тематических элементов (обычно охватывающих одну или несколько сутр – кратких афористических изречений); всего – 890 адхикаран и 2621 сутра.
По содержанию сочинение Джаймини делится на два больших раздела: пурвашадука и уттарашадука. В первом рассматриваются ведийские предписания общего характера (упадеша), во втором анализируются различные обряды и подробно обсуждается «техника» жертвоприношения. Важное место занимают разъяснения, кто имеет право совершить тот или иной обряд и какое за это полагается вознаграждение.
В целом сутры Джаймини посвящены сюжетам, далеким от философии. Исключение составляют лишь первые пять сутр, в которых сформулированы главные установки мимансы, прежде всего обоснование дхармы. Это предполагает исследование источника знания о ней (ее признака – нимитта). Обыденный опыт, опирающийся на чувственное восприятие (пратьякша), непригоден. Средством познания дхармы служит слово вед (шабда). Их сообщение считается абсолютно достоверным и безошибочным по двум причинам. Прежде всего, связь слова с обозначаемым объектом, согласно мимансакам, носит изначальный, «прирожденный» (аутпаттика) характер, знание человеком смысла ведийского текста является врожденным. Кроме того, предложения, составляющие текст вед, представляют собой упадеша, т. е. предписания, а сущностью дхармы является императивность, призыв (чодана). Поэтому и наставление в дхарме не может содержать ошибок, к нему вообще не следует подходить с точки зрения соответствия или несоответствия реальности: оно не говорит о том, что существует и что не существует, а указывает на то. что надлежит делать.
Первые комментарии к сутрам Джаймини не сохранились. Имена их составителей (и некоторые приписываемые им идеи) известны благодаря упоминаниям, цитированию и изложению в произведениях позднейших адептов мимансы и представителей школ, полемизировавших с ней (в частности, буддистов).
Несомненно, полемика с буддистами и с другими настиками способствовала развитию школы, расширению круга интересов последователей Джаймини. В острой дискуссии мимансаки должны были отстаивать истинность своего учения, и естественно, что на первый план выдвинулась задача доказательства важнейших принципов; это и привело к интенсивной разработке теоретико-познавательных проблем. Создается оригинальное учение об источниках истинного знания (прамана). Оно, как и философская доктрина мимансы в целом, было впервые сформулировано в самом раннем из дошедших до нас (V в. н. э.) и наиболее авторитетном комментарии к «Миманса-сутрам» – в «Мимансасутры-бхашье». Составление его индийская традиция приписывает Шабаре (Шабарасвамину). Существенно, что фрагменты комментария представляли собой заимствование из другого, не сохранившегося комментаторского текста (вритти). Создатель «Вриттикараны» (имя его неизвестно) и был подлинным творцом эпистемологии мимансы.
Проблема, обсуждаемая и в комментарии, и в сутрах, – источник знания дхармы. Однако составитель его, в задачу которого входит доказательство истинности идей сутр, рассматривает различные вопросы. Объясняя, почему восприятие не является средством познания дхармы, он останавливается на вопросе о природе восприятия, о способности его верно отражать реальность и т. д. Откуда вообще может быть почерпнуто истинное знание? С точки зрения комментатора, высказывание бывает таковым в двух случаях: когда оно опирается на предписание вед или когда исходит от человека, заслуживающего доверия. В последнем случае оно обязательно должно основываться на восприятии, которое определяется как контакт индрий (органов чувств) с объектом; в нормальных условиях оно адекватно отображает действительность. Значительное место уделяется опровержению рассуждений (прежде всего буддийских) об иллюзорности восприятия, и им противопоставляется реалистическая концепция. Однако именно из-за своей достоверности восприятие не способно содействовать познанию дхармы, ибо оно ограничено тем, что существует и дано в опыте, тогда как дхарма – это то, что надлежит совершить, чего еще нет.
Но в обыденной (лаукика) сфере восприятие – необходимое условие познавательного процесса, основа для других праман. В «Миманса-сутрах» о них вообще ничего не говорится, но комментаторы Джаймини в споре с оппонентами призваны были объяснить вопрос о соотношении восприятия и праман. Составитель «Миманса-сутры-бхашьи» говорит о том, что обязательной предпосылкой каждой из праман – логического вывода (анумана), сравнения (упамана), постулирования (артхапатти) и отрицания (абхава) – служит восприятие.
Более подробно, чем в сутрах, в комментарии рассматривается и шабда. В сутрах непогрешимость ее как свидетельства о дхарме определяется тем, что связь слова и объекта имеет врожденный характер (аутпаттика). По мнению комментатора, «аутпаттика» употреблено у Джаймини в переносном смысле, в действительности же она вечна (нитья). Указанная связь не зависит от человека и только усваивается им в детстве, когда он узнает значения слов. Слово, таким образом, тоже вечно и лишь проявляется в момент произнесения. По сути, в «Миманса-сутры-бхашье» речь уже идет о связи слов не с эмпирическими конкретными предметами, а с универсалиями.
Теми же аргументами обосновывается авторитет вед. Их текст, состоящий из слов, вечен, существовал всегда, как и слова. Он никогда никем не был создан, и в его «безличности» – причина абсолютной непогрешимости предписаний вед. Раз у произведения нет создателя, некому и ошибиться. Эта мысль аргументируется весьма своеобразно: если бы автор, т. е. «соединитель» слов и объектов, был, то имя его – человека или бога – стало бы известно, его помнили бы люди, как помнят они, например, Панини – создателя грамматики.
Немалое место в «Миманса-сутры-бхашье» отведено анализу проблемы субъекта познания. Постановка этого вопроса вызвана прежде всего религиозно-практической причиной: мимансаки решительно отстаивали наличие у человека Атмана, ответственного за благие (дхармика) и дурные (адхармика) поступки.
Наряду с расширением области исследования более углубленно разрабатываются и проблемы ритуальной практики. Шабарасвамин, в частности, обстоятельно обсуждает цель совершения обряда, его результат. По мнению комментатора, успех полностью зависит от неукоснительного соблюдения предписаний вед. Божество жe, к которому обращено жертвоприношение, никакой роли не играет. Вообще вопрос о статусе ведийских богов мимансаки решают своеобразно – их реальность отрицается, существуют, согласно Шабарасвамину, лишь слова – имена богов, Жертвоприношение имеет самодостаточную ценность. Плоды его (апурва – букв. «не-первое», «отсутствовавшее вначале») накапливаются постепенно, как своего рода потенциальная энергия.
Идеи, сформулированные в «Миманса-сутры-бхашье», стали предметом интерпретации и дальнейшего развития в трудах последующих представителей школы. Среди них выделяются Кумарила Бхатта и Прабхакара (VII в. н. э.), явившиеся основоположниками двух направлений в мимансе. По многим вопросам они заметно расходятся, признают различное число праман (школа Прабхакары отрицает абхаву в качестве самостоятельного источника знания). Однако обоим принадлежит видная роль в развитии индийской философии, а также в становлении индуизма. Особенно это относится к Кумариле, значение которого как религиозного учителя и идеолога ортодоксии исключительно велико.
В тот период отмечается расширение сферы философских интересов мимансаков, складываются их взгляды на ряд проблем, традиционно обсуждавшихся различными школами, но не привлекших ранее внимания приверженцев Джаймини. Так, в сочинениях Кумарилы Бхатты и Прабхакары подробно анализируются вопросы натурфилософии и онтологии, конструируется система категорий, характеризующих качественное многообразие мира. Следует, однако, сказать, что в этой области мимансаки не столь оригинальны, как в решении гносеологических и лингвофилософских проблем. Перечень онтологических категорий и основные натурфилософские положения практически полностью взяты из учения вайшешиков. В средние века вычленяются другие важные аспекты доктрины мимансы: учение об отсутствии бога – создателя мира (Ишвары), развернутая критика концепции творения и разрушения мира. Эта своего рода атеистическая (в буквальном смысле слова) направленность системы сопряжена с представлением о вечности и безличном характере вед, выступающих в качестве Абсолюта, и с идеей автономной самоценности ритуала.
Деятельность Кумарилы и Прабхакары, а также их первых учеников и комментаторов знаменует расцвет школы. Позднее наблюдается отход от некоторых важных принципов учения, в частности от решительного неприятия концепции бога-творца. Теперь вечность вед начинает увязываться с богом Ишварой, в сознании которого они якобы хранились во время разрушения мира. Все это отражает усилившееся воздействие веданты, особенно школ Рамануджи и Мадхавы.
Для мимансы всегда оставалась важной задача толкования вед. Вклад школы в решение необычайно сложного вопроса о сочетании различных положений и предписаний вед, брахман и других священных текстов определялся тем, что учители ее в духе своей философии рассматривали шрути не как совокупность преданий, не как рассказы о совершившемся, а как видхи – руководство к действию. К нему они стремились свести все содержание шрути.
Речения вед, с точки зрения мимансаков, – эти либо разного рода видхи (от самых общих предписаний до конкретных наставлений по совершению того или иного обряда), либо мантра, т. е. текст, предназначенный для рецитирования в ходе выполнения видхи, либо нияма (запрет), либо артхавада (разъяснение смысла обряда). Любой фрагмент священного текста всегда можно было истолковать как завуалированное предписание. Такой подход дал возможность предложить единую и непротиворечивую интерпретацию разнообразной брахманистской религиозной литературы.
Принципы, сформулированные мимансаками, оказались удобными для обоснования норм индуистского обычного права. Им во многом следуют и кодексы, действующие в современной Индии. Это в первую очередь относится к школе Митакшары. Концепции мимансы затрагивают самые различные области юриспруденции: законы наследования, земельной собственности, свидетельств в суде и т. д.
Веданта. В средние века влияние этой системы становится преобладающим. Первое ее самостоятельное сочинение, «Брахма-сутры», приписываемое мудрецу Бадараяне, как отмечалось, относится ко II в. до н. э. – II в. н. э. Правда, сами ведантисты склонны были возводить свое учение непосредственно к упанишадам, считая их тексты отправными для своей школы. Тенденциозность подобного взгляда очевидна. Да и трактат Бадараяны, будучи сборником исключительно кратких изречений, скорее, наметил основные тенденции учения, нежели раскрыл его своеобразие. Однако он уже выразил кардинальный принцип веданты, осветив его преимущественно посредством ряда тезисов: мир не является производным от материальных сил; единственная реальность – Брахман (здесь – духовное начало), а «сущее» во всех своих формах исходит из него. Характерно, что Бадараяна чутко реагировал на идеи своих философских оппонентов; отсюда полемическая заостренность положений, направленных против санкхьи и локаяты.
Ряд идей ранней монистической веданты был сформулирован Гаудападой (ок. VI в.). Этот мыслитель был автором «Мандукьякарик» – метрического трактата к одной из упанишад. Считается, что он заимствовал некоторые положения буддийской виджняна-вады (например, представление о создании мира благодаря деятельности сознания) и, частично трансформировав их для придания большего сходства с ортодоксальными воззрениями, включил в свою систему. В результате Гаудапада, субъективно всегда остававшийся верным последователем традиционного брахманизма, фактически стал связующим звеном между ортодоксией и «еретическими» идеями махаяиского буддизма.
Чрезмерный лаконизм высказываний Бадараяны, естественно, способствовал развитию комментаторской традиции. В дальнейшем веданта дробится на пять направлений, названных по име-1 нам их основателей. Так, появляются школы Шанкары, Рамануджи, Мадхвы, Валлабхи и Нимбарки. Каждый из них писал свое основное сочинение в виде «бхашьи» к трактату Бадараяиы. Впрочем, только Шанкара, Рамануджа и Мадхва действительно оказали значительное воздействие на развитие ведантистского движения. Два последних философа, жившие, кстати, уже в позднее средневековье, не отличались оригинальностью в постановке и решении проблем, и их взгляды растворились в центральном русле общеведантистского философского направления.