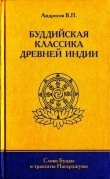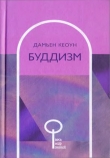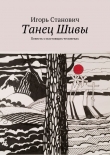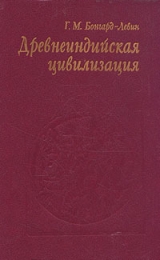
Текст книги "Древнеиндийская цивилизация"
Автор книги: Григорий Бонгард-Левин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 32 страниц)
В алгебре крупнейшим достижением индийских математиков явилось создание развитой символики, гораздо более богатой, чем у греческих ученых. В Индии впервые появились особые знаки для многих неизвестных величин, свободного члена уравнения, степеней. Символами служил первый слог или буква соответствующего санскритского слова. Неизвестную величину называли яват-тават (столько-сколько), обозначая слогом «я (йа)». Если неизвестных было несколько, то их называли словами, выражающими различные цвета: колика (черный), нилака (голубой), питака (желтый), панду (белый), лохита (красный), – и обозначали слогами – ка, ни, пи, па, ло. Иногда неизвестное заменялось знаком нуля, поскольку первоначально в таблицах пропорциональных величин для него оставлялась пустая клетка.
Тот же принцип использовали и применительно к арифметическим действиям. Сложение обозначалось знаком ю (юта – сложенный), умножение – гу (гунита – умноженный), деление – бха (бхага – деленный), вычитание – точкой над вычитаемым или знаком + справа от него (например, «отнять 3» записывалось так: 3 или 3+).
Начиная с Брахмагупты, индийские математики стали широко оперировать отрицательными величинами, трактуя положительное число как некое имущество, а отрицательное – как долг. Брахмагупта описывал все правила действия с отрицательными числами, хотя ему не была известна двузначность при извлечении квадратного корня. Впрочем, математик IX в. Махавира писал: «Квадрат положительного или отрицательного – числа положительные, их квадратные корни будут соответственно положительными и отрицательными». Это показывает, что Махавира уже ставил вопрос об извлечении корня из отрицательного числа, но пришел к выводу, что данная операция невозможна.
Задачи, приводящие к решению линейного уравнения с одним неизвестным, даны у Арьябхаты. Одна из них, получившая название «задача о курьерах», вошла в дальнейшем в мировую алгебраическую литературу. В ней требуется определить время встречи двух небесных светил, расстояние между которыми а, скорость же равна V1 и V2 соответственно. Арьябхата предлагал решение, в современной математике выражающееся формулой: t = a / V1 – V2 при движении в одну сторону. При движении навстречу расстояние необходимо разделить на сумму скоростей.
У Махавиры и других ученых встречаются задачи, приводящие к системам линейных уравнений с несколькими неизвестными. Были выработаны специальные правила решения таких систем. Разумеется, что речь шла о задачах с численными условиями, но правила формулировались в общем виде.
Задачи на квадратные уравнения зафиксированы уже в шульва-сутрах, но систематические их решения мы впервые находим у Арьябхаты. Такова, например, задача на сложные проценты, приводящая к квадратному уравнению: деньги р, отданные в рост, приносят за месяц неизвестную величину х, она отдается опять в рост на несколько месяцев t; первоначальный прирост вместе с вновь полученным составляет некую сумму q. Необходимо найти размер процента. Решение, по Арьябхате, можно выразить следующим уравнением: tx + px * ap.
Любопытно, что данная задача, как и «задача о курьерах», приводилась многими учеными не только в средние века, но и в новое время. С аналогичной задачи начинал раздел о квадратных уравнениях в своем учебнике по алгебре известный французский математик и механик А. Клеро (1746).
Значительных успехов достигли индийцы в решении неопределенных уравнений, к которым они прибегали в связи с календарно-астронимическими вычислениями, призванными определить периоды повторения одинаковых относительных положений небесных светил с различными временами обращения.
В отличие от древнегреческого математика Диофанта, предлагавшего только рациональные решения уравнений, индийцы нашли более сложный способ. Решение в целых числах неопределенного уравнения первой степени с двумя неизвестными (ax + Ь = су) приводит уже Арьябхата, более подробно оно изложено потом Брахмагуптой. Этот способ решения получил в индийской науке название «рассеивания», или «размельчения».
Вершина открытия индийских математиков в теории чисел – решение в целых положительных числах общего неопределенного уравнения второй степени с двумя неизвестными (ax 2+ b = y) и его важного частного случая (ах 2+ 1 = y), где а – целое, не являющееся квадратом целого числа. В Европе этими проблемами занимались Ферма, Эйлер, Лагранж, не предполагавшие, что индийцы за много столетий до них уже владели способом решения подобных уравнений.
Из достижений индийских ученых особо следует указать на вычисление отношения длины окружности к диаметру. Значения, определенные с различной степенью приближения, приводятся уже в шульвасутрах, где принимается равным от 3 до 3,16. В «Сурья-сиддханте» даны два значения – 3,06 и 3,08, но более точное встречается у Арьябхаты, согласно которому π = 3,1416. Это выражение он описывает такими словами: «Прибавь 4 к 100, умножь на 8 и прибавь ко всему этому 62 000. То, что получишь, – приближенное значение длины окружности, если ее диаметр 20 000». У него же имеется значение З.14.
Позднее Брахмагупта приводит для π приближенное V~10,– оно хотя и менее точное, чем у Арьябхаты, но более удобное.
Некоторые из сиддхант свидетельствуют о знакомстве из авторов с тригонометрией хорд александрийских астрономов. Опираясь на труды эллинистических ученых, индийцы внесли много нового. Главным явилась замена хорд синусами. Если греки именовали хорды «прямыми в круге», то индийцы стали называть их словом «джива» (букв. «тетива»), а перпендикуляр, опущенный из середины дуги на середину стягивающей ее хорды, – «стрелой». Варахамихира в «Панчасиддхантике» заменил хорду полухордой, т. е. линией синуса. Сама по себе такая замена может показаться и не столь существенной, ибо хорда дуги равна удвоенному синусу дуги 2f, т. е. отличается от синуса лишь постоянным коэффициентом. Но в действительности этот переход от хорды к полухорде был очень важен, поскольку позволил естественно ввести различные функции, связанные со сторонами и углами прямоугольного треугольника.
Многие астрономические и математические идеи индийцев оказали влияние на арабскую науку VII – первой половины VIII в., хотя прямое проникновение индийских математических и астрономических знаний относится к последней трети VIII в. «В 156 г. хиджры (т. е. в 773 г. – Г. Б.-Л.) из Индии в Багдад прибыл человек, весьма осведомленный в учениях своей родины. Этот человек владел приемом Синдхинд, относящимся к движениям светил и вычислениям с помощью синусов, следующих через четверть градуса. Он знал также различные способы определения затмений и восхода созвездий Зодиака. Он составил краткое изложение соответствующего сочинения. Халиф приказал перевести индийский трактат на арабский язык, чтобы мусульмане могли приобрести точное знание звезд. Перевод был поручен Мухаммаду, сыну Ибрагима ал-Фазари, который первым из мусульман приступил к углубленному изучению астрономии. Позднее этот перевод астрономы назвали Большим Синдхиндом» – так писал в своем биографическом словаре в XIII в. Абул-Хасан ал-Кифти.
Ал-Бируни отмечает, что приезд индийского астронома Канка состоялся несколько ранее: в 771 г. он привез два сочинения индийского математика и астронома Брахмагупты. Ал-Фазари выполнил сокращенный перевод его двух сочинений и представил их в виде традиционных для мусульманской науки зиджей – таблиц с необходимыми пояснениями и рекомендациями. Перевод-обработка первого трактата был назван «Большой Синдхинд» в отличие от других обработок сиддхант Брахмагупты.
По утверждению известного исследователя арабской астрономии К. Наллино, «Большой Синдхинд» настолько «прославился среди арабов, что они работали исключительно по нему вплоть до дней ал-Ма'Муна, когда начало распространяться учение Птолемея в сфере астрономических расчетов и таблиц». Перевод второго трактата Брахмагупты получил в мусульманской литературе название «Арканд». Это сочинение уступало по популярности первой работе, но и оно способствовало знакомству арабских ученых с античной астрономической традицией, проникновению индийских представлений о центре обитаемой Земли, о величине Земли и ряда других сведений.
Переводами и обработками не ограничивалось знакомство с индийской математической традицией. На основании сведений, полученных от индийских ученых, посетивших двор халифа ал-Мансура в 777–778 гг., багдадский астроном и математик Якуб ибн Тарик составил два трактата: «Строение небесных сфер»-и «Определение границ Земли и сферы», в которых, в частности, установил соотношение между индийскими и арабскими мерами длины, привел вычисленную индийцами величину окружности Земли – около 41 тысячи километров. Индийские научные традиции были развиты в работах Машалаха, работавшего с 762 по 809 г. в Ираке. Некоторые его сочинения дошли до нас на арабском языке, другие сохранились в переводах на латынь и греческий. Он был также знаком с сирийскими источниками, но наибольшее воздействие на него оказала наука сасанидского Ирана, откуда он узнал об индийской астрономии и математике.
Огромный вклад в распространение индийской математики внес ал-Хорезми (787 – ок. 850 г.). В его трактате «Об индийском счете» впервые в странах ислама излагается десятичная позиционная система счисления с применением нуля, которая быстро получила распространение среди математиков. Трактат положил начало применению этой системы не только на Ближнем и Среднем Востоке, но и в Европе: начиная с XII в. его латинский перевод был основным сочинением по практической арифметике. Ал-Хорезми подробно описал сложение, вычитание, умножение, деление и извлечение квадратного корня с помощью индийских цифр. Эти действия производились на специальной счетной доске, покрытой песком или пылью, чтобы легко было стирать использованные цифры, а на их место записывать новые. Такой способ вычислений был столь широко известен, что в ряде арабских стран даже сами индийские цифры, принявшие несколько иную форму, стали называть губар («пыль»). Способ выполнения арифметических операций был заимствован у индийцев вместе с системой нумерации; не случайно индийское название арифметики – патиганита переводится как «искусство вычисления на доске».
Кроме арифметического трактата ал-Хорезми принадлежат трактат по алгебре, астрономические таблицы широт и долгот городов, сочинение о календаре. Все они носят следы индийского влияния, хотя включают элеметы как вавилонской, так и грекоримской науки.
С индийской математикой связано немало сочинений в странах ислама: «Книга разделов об индийской арифметике» ал-Уклидиси, написанная в 952–953 гг. в Дамаске (в ней делается попытка введения десятичных дробей); «Достаточное об индийской арифметике» ан-Насави (ум. в 1030 г.), где имеется способ извлечения кубических корней; «Сборник по арифметике с помощью доски и пыли» ат-Туси (1201–1274), в котором дано описание извлечения корня любой степени из целого числа и т. д.
Весьма заметным было влияние индийской математики на науку Западной Европы. Проникновение сюда индийско-арабских цифр началось не позднее Х в. через Испанию. Наиболее ранняя из дошедших до нас европейская рукопись, в которой приведены индийско-арабские цифры, датируется 976 г. С XI в. новые цифры все чаще встречаются в многочисленных рукописях, причем в начертаниях отмечались существенные различия. Огромное значение для дальнейшего развития математики в странах Европы имели переводы с арабского: благодаря им европейские ученые познакомились с научными достижениями индийцев. Особенно интенсивно переводы осуществлялись в XI–XIII вв., но изучение арабского наследия продолжалось и позднее. Выполненный в середине XII в. латинский перевод арифметического трактата ал-Хорезми послужил отправной точкой для появления множества арифметических сочинений, основанных на десятичной позиционной системе счисления. Новая арифметика получила развитие не только в Западной Европе, но и в Византии. Так, Максим Плауд (XIII–XIV вв.) одно из своих сочинений посвятил индийской арифметике.
Кроме системы нумерации широко использовались зародившиеся в Индии арифметические, алгебраические, геометрические и тригонометрические правила. Ряд употребляемых ныне во всем мире специальных терминов – индийского происхождения (например, «цифра», «корень», «синус»). Санскритский термин, которым индийцы обозначали нуль – «шунья», был переведен арабами как «ас-сыфр»; в средневековой Европе слово cifra стало означать «нуль». Постепенно в XIV–XV вв. слово «цифра» стало применяться ко всем знакам от нуля до девяти. Индийцы именовали корень «пада» или «мула» (основание, сторона). Поскольку «мула» – это и «корень растения», арабские переводчики сиддхант передали этот термин словом «джизр», также обозначающим корень растения, в латинском переводе арабское название корня было передано словом radix, откуда и происходят наши термины «корень» и «радикал». Линию синуса индийцы называли «джива» или «джья» – «тетива». Переводчики транскрибировали его арабскими буквами «джиба», а так как в арабском краткие гласные не обозначаются и долгое «и» в слове «джиба» могло произноситься как «и», арабы восприняли это слово как «джайб» – «впадина» и соответственно на латынь этот термин был передан словом, имеющим то же значение.
Медицина. Традиционная индийская медицина, завоевавшая авторитет и признание во многих странах мира, зародилась в глубокой древности. Уже в ведийскую эпоху важную роль играла аюрведа (букв. «наука о долголетии»). Название указывает, по-видимому, на первоначально распространенное представление о том, что главной целью медицины является отыскание способов продлить жизнь человека. То же представление отражено и в созданных позже трактатах, посвященных лечению конкретных заболеваний, причем обеспечиваемое правильным режимом и лечением здоровье воспринималось как средство к достижению этой цели. Считалось, что человек должен не только долго жить, но и избавиться от страданий, причиняемых физическими недугами. В этом смысле все индийские медицинские сочинения по праву именовались «аюрведическими».
Приемы народной медицины, возникшей задолго до отдельных научных дисциплин, передавались из поколения в поколение, тайны врачевания свято оберегались, и таким образом древнейшие предписания сохранились до более позднего времени, когда были зафиксированы. Естественно, что медицинские знания той архаической эпохи еще не отделялись от магии. Освобождение от болезни, а также защита от злых духов рассматривались как монополия жрецов. Исцеляя людей, они вроде бы следовали примеру божеств, обладавших, согласно ведам, властью над недугами. В случае болезни или ранения обращались прежде всего к божественным близнецам Ашвинам – «небесным врачевателям», наделенным способностью излечивать любые заболевания и предохранять от преждевременного старения.
Неоднократно упоминался в этой связи и Рудра, которого в позднейших текстах величали «первым божественным исцелителем». Еще теснее эта тема связана в древнейшей из самхит с культом «владыки вод» Варуны.
В сознании людей той эпохи всякий недуг вызывался прежде всего гневом богов за совершенные грехи. Варуна, «хранитель вселенского равновесия и порядка», безжалостно «награждал» болезнями людей, виновных в нарушении этого порядка. Кары распространялись не только на человека, но и на животных и даже на растения. Чтобы получить прощение, индийцы пели «гимны об исцелении», приносили жертвы, произносили заклинания. «Сто, тысяча лекарств есть у тебя, о царь, – обращались они к Варуне. – В водах твоих нектар бессмертия, в них – могучая сила исцеления». Один из текстов «Ригведы», посвященный Соме, носит название «Хвала лечебным травам». Он свидетельствует, что индийцы уже тогда знали о лечебных свойствах растений и приписывали им божественную силу. «Травы, что поднялись из земли в древние времена, что на три века старше богов, – об их темноцветных 107 силах хочу я говорить» – такими словами открывается гимн. И далее: «Тот, у кого в руках запасы трав, подобен царю, окруженному множеством подданных. Лекарь – вот имя этого мудреца, он поражает демонов и гонит прочь болезнь». Поэт просит уберечь от ущерба того, кто выкапывал травы. Любопытно и то, что в «Ригведе» употребляется слово «лекарь»; врачевание рассматривалось тогда как профессия. В гимнах, например, он упоминается наряду с поэтом и мельником.
Все это указывает на сосуществование религиозно-мифологических представлений о болезни и лечении с зачатками действительно медицинских знаний. «Лекарь» не случайно встречается прежде всего в гимне, посвященном растениям. Использование лекарственных трав – древнейшая форма медицины у всех народов. Хорошо знали ее и индийцы. Собственно, в «Ригведе» это знание предстает еще в мифологизированном виде: травы превращаются в богов, требующих поклонения и умилостивительных формул, но сами эти формулы порождены уже вполне конкретным, практическим опытом.
Ранневедийская мысль отличала болезни врожденные от вызванных инфекцией или сменой времен года. Специальный гимн, например, призван был предохранять от лихорадки; поэт сулит излечение «с помощью жертвенного напитка». В духе наивных представлений о происхождении недугов, представлений, распространенных на раннем уровне развития фактически у всех народов, ведийские тексты объясняют всякое внезапное заболевание проявлением злого начала, идущего либо от демонов, либо от проникающих в организм человека червей. Вместе с тем в самхитах перечисляются разнообразные заболевания глаз, ушей, сердца, желудка, легких, кожи, мускулов, нервной системы: воспаление глаз, золотуха, хроническая астма, желтуха, камни в почках, водянка, ревматизм, проказа, эпилепсия и т. д. В текстах встречается около трехсот наименований различных частей и органов человеческого тела.
Несмотря на фрагментарность материала, знакомящего с древнейшим периодом истории индийской медицины, можно выявить, однако, применение разных форм лечения, в том числе хирургии: упоминаются операции при родах, ранениях, полученных в бою, повреждении глаз и т. д. В «Атхарваведе» сообщается об употреблении тростниковой палочки в качестве катетера. Надо сказать, что и здесь мифологические представления сочетались с вполне рациональными наблюдениями. Религиозное почитание вод предполагало и ту гигиеническую пользу, которую несет омовение, особенно в условиях жаркого климата. Впрочем, в вопросах гигиены ведийская медицина имела значительно более древнего предшественника. Раскопки Хараппских городов дали неоспоримое свидетельство существования прекрасно налаженной системы водоснабжения и канализации, за поддержанием которых строго следили городские власти. Ничего подобного не было создано другими древнейшими цивилизациями Востока.
Большое значение в ведийское время придавалось также диете. Из всей массы продуктов индийцы всегда выделяли молоко. По утверждению самхит, этот священный напиток даровал силу и ум, обеспечивал хорошее телосложение, предохранял от болезней; его особенно рекомендовали беременным женщинам. Целебными считались также мед и рис; последний советовали давать детям для нормального роста зубов. Позднейшие тексты содержали аналогичные наставления: молоко, смешанное с экстрактом куркумы, рассматривалось как средство от желтухи, масло в сочетании с лекарственными компонентами должно было предохранять от выкидыша, свежесбитое масло предписывали детям и беременным женщинам, тщательно очищенное – подросткам для возмужания. Все это демонстрирует вполне рациональный взгляд индийцев той эпохи, взгляд, далекий от магии и какого бы то ни было мистицизма.
Важным моментом мышления поздневедийского периода было получившая особое развитие в упанишадах идея пяти элементов, лежащих в основе всего сущего: земли – тверди (притхиви), воды – жидкости (апас), воздуха – ветра или газа (ваю), огня – энергии (джьоти), эфира – пустоты (акаша). Различные их комбинации создавали и человеческий организм, и всю вселенную. Каждый из элементов, в свою очередь, разделялся на несколько подэлементов, связанных с конкретными функциями организма. Ветру как явлению природы соответствовала нервная система, непосредственно контролирующая умственную и физическую деятельность. Подобные сведения содержатся в текстах религиозного или религиозно-философского характера, датируемых примерно VIII в. до н. э., когда медицина еще не превратилась в самостоятельную дисциплину. Естественно, что в таких сочинениях даже собственно врачебные сведения облекались в форму религиозно-философских категорий.
Медицинские представления, отраженные в раннебуддийских текстах, также не свободны от религиозно-философской оболочки, хотя тут она отнюдь не является доминирующей. Последнее обстоятельство объясняется не только тем, что сочинения палийского канона оформились несколько столетий спустя после ведийско-брахманских сборников, но и в не меньшей степени самим характером буддийской доктрины – ее практической направленностью и безразличием к традиционной мифологии. Составление и кодификация палийского канона совпали по времени с образованием первых государственных объединений, а затем и огромных империй (Нандов, Маурьев, Сатаваханов). Возникали крупные города – центры ремесла, торговли и науки. Особая роль принадлежала наиболее значительному из городов СевероЗападной Индии – Таксиле, известному, в частности, своей медицинской традицией. Письменные и археологические данные говорят о существовании здесь своего рода университета, судя по всему, древнейшего на территории Индии. «Студентами» его были миряне и буддийские монахи. Джатаки рассказывают, что курс обучения у специальных учителей-лекарей продолжался семь лет. Прошедшие его сдавали экзамены и получали затем «лицензию».
Тексты передают легенду о знаменитом Дживаке – лекаре царя Бимбисары. Он учился в Таксиле и должен был выдержать практический экзамен: обследовать местность вокруг города и определить, какие из трав не имеют лечебных свойств. После долгих опытов Дживака пришел к выводу, что нет таких трав, которые не могли бы получить применение в медицине (любопытно, что в санскритском каноне муля-сарваставадинов имеется даже отдельный трактат «О лечебных травах»). Учитель был удовлетворен ответом ученика и выдал ему разрешение на самостоятельное лечение больных. Дживака был весьма популярной фигурой, и в раннебуддийской литературе сохранилось немало рассказов об искусстве этого врачевателя. По преданию, он исцелил Бимбисару от фистулы (свища), после чего был назначен придворным лекарем. Богатому торговцу из Раджагрихи он будто бы сделал трепанацию черепа, сыну торговца из Варанаси (Бенареса), страдавшему от хронического внутреннего заболевания, посоветовал сменить место жительства, и эта перемена оказалась благотворной, царя Аванти вылечил, предписав ему гхи (топленое масло) в качестве лекарства. По утверждению буддистов, Дживака лечил даже самого Будду: предложил ему очистить желудок, проделать ряд других лечебных процедур, принять горячую ванну и добился в конце концов его полного выздоровления. В этих рассказах ощущается, впрочем, явная тенденциозность – успехи Дживаки предстают как результат его приверженности буддийской доктрине, однако в основе легенд, несомненно, лежат реальные события. Сам Дживака был, по-видимому, либо действительно историческим лицом, либо собирательным образом, соединившим в себе черты ряда выдающихся лекарей того времени.
О древней медицине как науке можно говорить с момента появления специальных сочинений, старейшие из которых традиция связывает с именами Бхелы (Бхеды), Чараки и Сушруты. Трактат Бхелы, дошедший до нас в отрывках, упоминается во многих более поздних трудах и считается первой в истории индийской медицины научной работой. Творчество Бхелы традиция относит еще к ведийской эпохе, на самом же деле речь идет о произведении, созданном на несколько веков позже, но явно предшествовавшем всем другим сочинениям такого рода. «Чарака-самхита» и «Сушрута-самхита» были написаны, очевидно, в начале нашей эры, а затем их материалы использовались в ряде средневековых медицинских работ, в том числе в наиболее известной среди них – труде Дридхабали (IX–X вв.).
Согласно преданию, Чарака жил в годы правления кушанского царя Канишки, и, хотя это свидетельство обоснованно опровергается большинством современных ученых, время жизни этого выдающегося медика, очевидно, приходится на самое начало I в. Подобно Дживаке, Чарака, вероятно, собирательный образ: его отождествляли даже с создателем философской системы санкхья. Весьма неточны сведения и о Сушруте, которого называли сыном ведийского риши Вишвамитры (фигура уже совершенно мифологическая). Катьяяна – комментатор Панини упоминает некоего Сушруту, но это, возможно, простое совпадение имен. При всей фантастичности этих сообщений они отражают огромный авторитет медицинских школ в древней Индии; не случайно последующие поколения связывали знаменитых врачей с могущественными царями, известными философами и священными мудрецами – риши.
Все медицинские трактаты сочетают в себе вполне рациональное знание, накопленное к тому времени, с отголосками ранних мифологических представлений. Они начинаются обычно с рассказа о происхождении аюрведы, в котором сообщается, что творцом ее был бог Брахма и что эта отрасль знания появилась в мире раньше человека. Брахма передал секреты врачевания богу Даншапати (в «Ригведе» – покровителю различных дарований), от него они перешли к божественным близнецам – Ашвинам, потом к могущественному Индре и, наконец, к мудрецу Бхарадвадже. Последний собрал мудрецов со всей Индии в гималайской обители и подробно изложил им «науку о человеческих болезнях и методах их преодоления для долгой и не омраченной страданиями жизни». Авторы трактатов, видимо, вполне сознательно возводили зарождение своей науки к богам, характерно, однако, что практическую медицину, по их сообщению, на землю принес не бог, а мудрец.
Три первых сочинения построены по единому принципу: в них освещаются восемь разделов аюрведы. Имеются, впрочем, и некоторые различия, определявшиеся направлением той или иной школы. «Чарака-самхита», например, по преимуществу разрабатывает вопросы терапии, хотя и другие отрасли медицины (в частности, хирургия) представлены в этом обширном труде, состоящем из 150 глав. «Сушрута» же особое внимание уделяет именно хирургии, но в ее 184 главах затрагиваются также вопросы патологии, эмбриологии, анатомии, терапии и т. д. Будучи приверженцем хирургии, автор особое место уделяет анатомированию.
Так, в «Сушруте» сказано: «Врач, желающий узнать причину недуга, должен взять мертвого человека и исследовать каждую его часть соответствующим образом». Трактат рекомендует использовать для этого тела людей нестарых, не перенесших тяжелых заболеваний, не истощенных голодом. Предлагается перед анатомированием освободить труп от остатков пищи и поместить его в холодную проточную воду, дабы сохранить от разложения, затем с помощью особого деревянного ножа (металлический скальпель может перерезать тонкие сосуды и связки) отделить «каждую часть тела – большую или маленькую, внутреннюю или внешнюю (начиная с кожи), чтобы выявить ее подлинное состояние». Кстати сказать, в большинстве стран в древности и средневековье хирургическое рассечение трупов было запрещено; античная медицина обратилась к методу анатомического исследования лишь в эллинистическую эпоху (у Гиппократа он еще не упоминается).
Содержание даже самых ранних индийских трактатов свидетельствует о весьма высоком уровне медицинских знаний. В «Чараке» перечисляется не менее 600 лекарственных средств (растительного, животного и минерального происхождения), в «Сушруте» – 650. Здесь же описывается более 300 различных операций и 120 хирургических инструментов.
Древнеиндийские лекари придавали большое значение выявлению симптомов заболевания. В текстах подробно фиксируются признаки туберкулеза, гангрены, желтухи, дифтерита, паралича, бешенства, проказы, эпилепсии и т. д. Наблюдения, сделанные в процессе лечения, использовались и в целях построения некоей общей медицинской теории, причем болезни объясняли нарушением изначального равновесия между «телом, душой и разумом».
Каждый раздел аюрведы объединял самостоятельные группы заболеваний. К первому – терапии (кая-чикитса), занимавшейся проблемами этиологии болезней, диагностики, лечения, – относили обычно такие заболевания, как лихорадка, гастрит, кашель, боли в почках. При этом рекомендовались лекарства – внутренние и наружные, а также диета. Следующий раздел – хирургические знания (шалья-тантра) – делился на два подраздела: общую хирургию и гинекологию – акушерство. Преимущества хирургических вмешательств особенно подчеркивал Сушрута, однако и другие школы не ставили под сомнение их вжность.
Отдельную группу составляли болезни уха, горла и носа (отоларингология), сюда же включали и заболевания глаз. Психические расстройства (бхута-видья – четвертый раздел аюрведы) в большей мере, чем другие виды заболеваний, рассматривались с традиционных мифологических позиций: потеря рассудка объяснялась вторжением в человеческую психику демонов. При этом отмечалось, что демоны властны только над «душой», физические процессы организма оставались вне сферы их влияния. Пятый раздел – педиатрия (кумара-бхритья) трактовали болезни маленьких детей и новорожденных. Впрочем, наравне с лекарствами здесь широко предлагалось произнесение священных текстов и заклинаний. Токсикология (агада-тантра) изучала симптомы, вызванные прикосновением к ядовитым растениям, минералам, укусами змей, а также меры первой помощи при отравлении и их лечение. Список ядов даже в наиболее ранних текстах был довольно велик. В этот же раздел входило описание змей и ядовитых насекомых.
Раздел седьмой (расаяна), касающийся разработки стимулирующих средств и вопросоь предотвращения старения организма, пользовался особой популярностью. Индийцы верили в практическое всемогущество лекарств, назначавшихся в этом случае; многие рекомендации раздела были явно почерпнуты из повседневного опыта: употребление молока, родниковой воды, очищенного масла, меда, исключение из пищи соли (бессолевая диета), специальные ежедневные физические упражнения. Существенным считалось и соблюдение правил нравственного порядка: долгая жизнь обеспечивалась лишь воздержанием, незлобивостью, душевным покоем и т. п. Наконец, последний раздел был посвящен проблемам сохранения половой способности у мужчин (ваджи-карана-тантра) и избавления от бесплодия. Потеря потенции считалась чрезвычайно опасной для общего состояния организма, поэтому постоянно подчеркивалась разрушительная роль любых сексуальных эксцессов и польза умеренности.