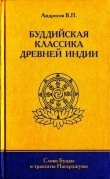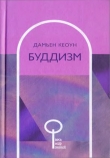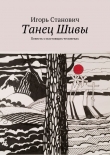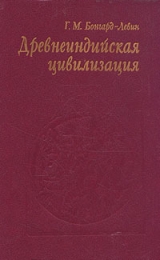
Текст книги "Древнеиндийская цивилизация"
Автор книги: Григорий Бонгард-Левин
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 32 страниц)
Шанкара (ок. VIII в.) был создателем многих религиозно-философских произведений; традиция приписывает ему более трехсот философских трактатов, комментариев и даже религиозно-мистических стихотворений. В настоящее время достоверно принадлежащими ему считаются комментарии к «тройственному канону» веданты: к основным упанишадам, «Брахма-сутрам» и «Бхагавадгите», а также ряд небольших самостоятельных произведений – «Упадеша-сахасри» («Тысяча учений»), «Вивека-чудамани» («Жемчужина различения») и «Атма-бодха» («Пробуждение Атмана») и некоторые стихотворные циклы, написанные в духе эротически окрашенного шиваизма.
В соответствии с доктриной Шанкары, мир – это иллюзия, порожденная Абсолютом: материальная природа нереальна, как нереально и эмпирическое «я». Реален лишь Атман – своего рода проекция Абсолюта (Брахмана) на тот воображаемый психофизический комплекс, который на повседневном языке называется человеческой личностью. Многовековой спор между двумя главными течениями ведантистской традиции касался прежде всего трактовки центральной идеи упанишад. Шанкара считал единственно верным «путь знания» (т. е. понимания иллюзорности собственного бытия на фоне универсальной и всеохватывающей реальности Брахмана) и в связи с этим отстаивал тезис об абсолютном тождестве «я» и «Атмана-Брахмана». Рамануджа же, приверженец «пути религиозной любви», видел конечный идеал в слиянии индивидуального начала с божеством, в слиянии, при котором адепт приходит лишь в соприкосновение с объектом своей веры, но не становится равным ему. В религиозном плане учение Рамануджи и его приверженцев было исключительно влиятельным в позднесредневековом индуизме; что же касается собственно философского аспекта, то «веданта Шанкары» оказалась намного более значимым элементом общеиндуистской традиции. К тому же на ее стороне был и хронологический приоритет.
Шанкара оставил заметный след в духовной истории страны. Он был одним из немногих индийских «мудрецов», которым посвящались специальные сочинения: до нашего времени дошло несколько его биографий. Время жизни философа с точностью не установлено, обычно ее принято датировать 788–820 гг., однако более вероятно, что он жил в конце VII–VIII в. По преданию, он происходил из брахманской семьи Малабара (ныне штат Керала), исповедовавшей шиваизм, но позиции буддизма на Юге в то время еще не были подорваны. Связь доктрины Шанкары с некоторыми идеями школы мадхьямиков отмечалась в индологических трудах неоднократно (наиболее ортодоксальные индуисты так и не простили Шанкаре этого обстоятельства, называя его «скрытым буддистом» – «прачханна-бауддха»).
Кардинальные положения своего учения он сформулировал в молодости, а затем предпринял поездку по стране, распространяя созданный им вариант веданты. Всюду он основывал монашеские обители (ашрамы), некоторые из них не утрачивали значения в течение всего периода средневековья (самая крупная из них – Бадаринатх у истоков Ганга в Гималаях). Последние годы жизни Шанкара провел на Севере Индии и умер в Кедарнатхе – шиваитской святыне в Гималаях, оставшейся и поныне одним из самых посещаемых мест паломничества индуистов.
Шанкара был известен не только как философ, но и как поэт: ему принадлежало немало религиозных гимнов, и, видимо, поэтому традиция приписала ему авторство «Саундарья-лахари» – главного текста индуистского шактизма, выдающегося художественного произведения. В настоящее время доказано, что поэма была составлена много времени спустя после смерти философа, но традиционное отождествление его с действительным создателем текста свидетельствует о том, что слава Шанкары-поэта не уступала его авторитету мыслителя.
Все свои философские построения он возводил к упанишадам и стремился в максимальной степени развить учение об идентичности Атмана и Брахмана, сделав его отправным концептуальным положением доктрины. Реалистические тенденции упанишад Шанкара решительно отвергал: мир порожден несовершенством сознания и исчезает в момент подлинного озарения, как ночные тени рассеиваются с восходом солнца.
Понимая, что данное положение вызовет возражения со стороны представителей других школ, отстаивающих близкие к реализму установки, философ уделил серьезное внимание критике своих оппонентов. В этих высказываниях в полной мере проявилось его дарование полемиста, знакомого с «искусством спора», он использовал все богатство аргументации и разнообразие приемов для защиты своего учения.
Короткий трактат «Атма-бодха», состоящий всего из 68 двустиший, можно считать своего рода резюме многочисленных сочинений Шанкары. Познание внешнего мира посредством органов чувств, утверждает автор, – самообман, поскольку и внешние объекты, и «познающие способности» индивида не более чем иллюзия. «Следует видеть, что тело и прочее, возникшее от незнания, недолговечно, подобно пузырям». Первопричиной и тела и «прочего» (т. е. внешнего мира) объявляется незнание (авидья), неспособность принять Абсолют как единственную реальность. Это «внутреннее заблуждение» и превращается в принцип мироздания, для Шанкары оно тождественно вселенской иллюзии-майе. «Считая себя дживой (в данном случае – эмпирическое „я“ – Г. Б.-Л.), [человек] ощущает страх, как [страшатся], приняв веревку за змею». Здесь философ употребляет постоянно повторяющуюся в веданте метафору – веревка, которую тянут по траве, издали кажется змеей. Так и мы собственное воображение, порождаемое майей, принимаем за реальность. «Путь мудрости», по его мнению, состоит в обращении к первопричине всего сущего – Брахману, который по отношению к человеку проявляет себя как Атман. Предельно ясно выражают эту мысль следующие шлоки: «Но даже постоянно присутствующий [в нас] Атман как бы не присутствует из-за незнания; с уничтожением этого [незнания] он сияет, как присутствующий, подобно украшению на собственной шее.
Как [принимают иногда] пень за человека, так в заблуждении видят в Брахмане [индивидуальную] дживу; когда же обнаружен истинный образ дживы, в этом [Брахмане джива] исчезает». Религиозно-философский идеал Шанкары кратко сформулирован далее: «Всепостигающий йогин видит оком знания весь мир в себе, и все – как единого Атмана».
Таким образом, Шанкара проповедует всеобъемлющий идеалистический монизм и сводит многообразные явления внешнего мира к проекции космического Абсолюта – Брахмана. В его системе различаются два аспекта Брахмана: высшее состояние, когда он предстает лишенным каких бы то ни было характеристик и определений (Ниргуна-Брахман), и своего рода низшее состояние, когда для несовершенного человеческого постижения он кажется наделенным качествами (Сагуна-Брахман). При этом такое разделение обусловлено не природой самого Брахмана, но вселенским неведением – авидьей, которое, согласно Шанкаре, тождественно творящей иллюзии (майе), обеспечивающей кажущееся развертывание феноменального мира.
Один из важнейших постулатов Шанкары – тезис единства и даже полного тождества Брахмана и Атмана – определил название всего учения – адвайта-веданта, т. е. веданта «недвойственности». Спасение же от сансарного круга перерождений понималось в нем как освобождение этого сознания от ложных свойств и ограничений, налагаемых авидьей, освобождение, которое закономерно приводит адепта к полному растворению в Ниргуна-Брахмане.
Отстаивая высшую ценность «пути знания» (джняна-марга), мыслитель признавал лишь относительную значимость традиционных ритуалов и почитания персонифицированного бога-творца – Ишвары. По сути, он рассматривал всю сферу обычной религиозной практики в качестве вспомогательного средства или предварительной ступени достижения освобождения (мокши).
Теистические направления в рамках веданты складывались в раннесредневековый период на Юге Индии, где в это время правила династия Чолов. Возрождение индуизма, наиболее активно проходившее в южных феодальных государствах в X–XII вв., во многом было прямо направлено против идей ранней веданты, нашедших концентрированное выражение в религиозно-философском учении Шанкары. Бесспорным главой вишнуитского течения и одновременно одним из самых непримиримых критиков адвайты стал Рамануджа (годы жизни, по преданию, – 1017–1137; он родился в районе современного Тамилнада). Биографические сведения, которые сохранились о нем, настолько перемешаны с легендами, что факты его жизни остаются крайне неясными. Рамануджа принадлежал к брахманской семье и с ранних лет посвятил себя-изучению философии. Согласно традиции, его наставник был поражен способностями ученика и предсказал ему славное будущее. Умирая, он завещал ему сделать то, что не успел сам, – создать исчерпывающий комментарий к «Брахмасутрам». Рамануджа выполнил этот завет: его бхашья к трактату Бадараяны и комментарий к «Бхагавадгите» были составлены весьма подробно и в дальнейшем заняли место в ряду самых популярных и почитаемых философских произведений индуизма.
В основе религиозно-философской системы Рамануджи лежит доктрина бхакти – бесконечная преданность, любовь и сопричастность богу. Эта доктрина ярко представлена в вишнуитских текстах «Панчараты» («Вишну-самхита», «Падма-самхита» и др.), где особое значение приобретает личный аспект божества, а также в мистико-эротических гимнах альваров (тамильских религиозных поэтов), которые к началу Х в. были собраны в единый канон и интерпретированы Натхамуни. Помимо Натхамуни, непосредственным предшественником и учителем Рамануджи был Ямуна, автор трактата «Сиддхи-трайя», в котором оказались впервые представленными центральные идеи вишнуитского направления веданты.
Учение Рамануджи – вишишта-адвайта, или «не-двойственность различенного», изложена в девяти его произведениях, главными из которых считаются трактаты «Ведартха-санграха» («Изложение смысла Вед»), «Веданта-сара» («Сущность веданты») и «Веданта-дипа» («Светильник веданты»), а также знаменитый комментарий к «Брахма-сутрам», известный под названием «Шрибхашья» («Почтенный комментарий»).
Уже в начале этого комментария Рамануджа прямо выступает против воззрений своего выдающегося предшественника – Шанкары. В первом разделе первой главы он выдвигает «семь возражений» (сапта-анупапатти), обращенных к адвайте. Полемические аргументы затрагивают прежде всего представление Шанкары о майя-авидье (т. е. о неведении, составляющем основу иллюзорного видения мира) и его концепцию Брахмана. По мнению Рамануджи, адвайтистское представление о Брахмане как принципиально бескачественной и неописуемой сущности не просто непонятно, но и опасно зависает на грани небытия. Ибо Брахман не бескачественное и непостижимое «чистое знание», а реальный бог, верховный правитель, наделенный множеством добродетелей и достоинств, это личный бог-творец (Ишвара), или Нараяна-Вишну, каким он предстает в народной индуистской религии и мифологии. Иронизируя над неопределенностью высшего Брахмана адвайты и трудностью перехода от такого первоначала к многообразию вселенной, которое обусловлено майейавидьей, Рамануджа называет Шанкару «скрытым буддистом», проницательно подмечая некоторые общие идеи, свойственные адвайте и буддийской шунья-ваде.
В системе Рамануджи Брахман выступает и как инструментальная (нимитта), и как материальная (упадана) причина мира, причем этот мир, в противоположность адвайтистской концепции, считается реальным развертыванием (паринама) высшего начала. Иными словами, вариант саткарья-вады (учения о том, что следствие предсуществует в причине и определяется ею), развиваемый вишишта-адвайтой, на деле стоит гораздо ближе к концепции санкхьи, чем к саткарья-ваде адвайты (в которой представление о причинности реализуется в форме доктрины виварта-вада, или учения о видимости, иллюзорности мира). Вишишта-адвайта признает реальное существование высшего Брахмана (Ишвары), бесчисленных душ (джива) и неодушевленной природы. При этом души живых существ выступают отдельными модусами Ишвары и как таковые служат ему своеобразным «телом» (их собственные тела, в свою очередь, образованы неодушевленными элементами – джада); одновременно дживы являются и неотъемлемыми атрибутами (вишешана) бога. Брахман оказывается нераздельно связанным с дживами, они составляют его живую целокупность. Именно в свете отношения Брахмана и душ Рамануджа раскрывает центральный тезис – представление о единстве Атмана (внутренней души) и Брахмана. Становится понятным и происхождение самого названия учения, толкующего о не-двойственности сущностей, каждая из которых обладает присущими ей свойствами и отличительными чертами.
Если для адвайты высшее знание, тождественное чистому Брахману, лишено каких-либо характеристик (отпадает даже деление на субъект и объект познания), то в вишишта-адвайте оно всегда направлено на некий объект и несет в себе различающие качества. Такое атрибутивное знание, с точки зрения автора «Шрибхашьи», непременно является свойством некоторого субъекта – Брахмана или отдельной души. Всякое знание в вишишта-адвайте считается в какой-то степени истинным, мера же подобной истинности определяется свойствами его носителя и широтой охвата предметной области. Поэтому Рамануджа исключает абсолютное противостояние истины и ошибки, реальности и иллюзии в отличие от адвайты; выбор же восприятий, которые считаются в вишишта-адвайте наиболее «правильными», объясняется их большей прагматической ценностью, т. е. в конечном счете потребностями практики.
В эпистемологической теории вишишта-адвайты признается существование трех источников достоверного познания: пратьякши (чувственного восприятия), ануманы (логического вывода) и агамы (свидетельства авторитета). Все они дают субъекту конкретное и качественно определенное знание (дхармабхута-джняна). Высший род познания – свидетельство священного авторитета, опирающееся на тексты шрути.
В вишишта-адвайте Брахман выступает опорой всех живых существ, их внутренним управителем, направляющим души к мокше. Рамануджа полностью принимает представления народной религии о многообразных воплощениях Ишвары (классификация этих воплощений включает чистую форму бога – пара, его основные эманации – вьюха, традиционные инкарнации Вишну – аватара, внутренние руководители отдельных душ – антарьямин, а также арча – частицы божественной природы в храмовых объектах поклонения). По его мнению, бог соглашается по-разному воплощаться в мире благодаря своему бесконечному милосердию (крипа) по отношению к живущим. В свою очередь, дживе, пока она остается связанной сансарой, следует дать божеству случай проявить свое милосердие.
В этико-сотериологической доктрине вишишта-адвайты наблюдается стремление к соединению «пути знания» и «пути действия». Возможность такого соединения, согласно учению Рамануджи, лежит в практике бхакти, где сливаются вместе любовь к Брахману, вырастающая из религиозного ритуала, и постижение Брахмана. Освобождение понимается как дар бога, однако душа, выступающая здесь в качестве познающего и деятельного Атмана, сохраняет свою индивидуальность даже после соединения с Брахманом при достижении мокши.
В средние века идеи вишишта-адвайты пользовались гораздо большей популярностью, чем учение Шанкары, что объясняется как сочувственным восприятием традиционных вишнуитских культов и доктрины бхакти, так и относительно большей простотой и доступностью ее философских положений. Последователи Рамануджи стремились опереться не только на тексты традиционного «тройственного канона» веданты, но и на тамильский канон «Прабандхам», отличавшийся ярко выраженной мистической направленностью.
Крупнейшим представителем вишишта-адвайты после Рамануджи и одновременно сторонником двух упомянутых канонических традиций был Венкатанатха, или Ведантадешика (традиционно указываемые годы жизни – 1268–1369). Он явился основателем так называемой северной школы (вадагалаи) вишишта-адвайты и автором многочисленных комментаторских работ к произведениям Рамануджи («Таттва-тика») и Ямуны («Рахасья-ракша», «Гитартха-санграхараюпа»), равно как и самостоятельных религиозно-философских трактатов и поэтических произведений.
В целом оставаясь в рамках учения Рамануджи, Венкатанатха разрабатывал по преимуществу проблемы этики и теории познания, в которой использовал отдельные положения ньяи и мимансы, истолкованные в ведантистском духе. На его взгляд, моральное совершенствование души, призванное в конечном счете привести адепта к освобождению, прямо зависит от расположения Ишвары (Вишну), который благоприятствует постепенному возрастанию бхакти в душе человека. Венкатанатха толкует бхакти прежде всего как аффективно окрашенную интеллектуальную привязанность к божеству, находящую выход в непрерывной медитации. Бхакти включает в качестве составной части и прапатти, т. е. преклонение перед богом.
В данной главе затронуты лишь некоторые общие вопросы становления и эволюции различных мировоззренческих учений древней Индии, но даже приведенный материал свидетельствует об их важном месте в истории духовной культуры страны и мировой философии. Оформившиеся в далеком прошлом локаята, санкхья, йога, веданта и другие школы существовали вплоть до позднего средневековья. Их учения оказали заметное воздействие на идеологическое развитие Индии нового и новейшего времени, к ним и сегодня постоянно обращаются ученые, писатели, художники, общественные и политические деятели.
По поводу проблем древнеиндийского философского наследия не прекращается научная полемика, ведется острая идеологическая борьба. Вклад отдельных школ в этот «источник философской мудрости» был неравнозначен, однако, подчеркивая достижения систем «реалистического направления», не следует недооценивать значение таких течений, как мадхьямика и виджняна-вада, джайнизм, йога, веданта. Некоторые идеи, выдвинутые мыслителями древности, переросли рамки своего времени и во многом предвосхитили философские взгляды последующих эпох, другие же сейчас представляют уже лишь историографический интерес.
Глава одиннадцатая
Математики, астрономы, врачи
Древние индийцы добились значительных успехов в развитии научных знаний. Еще в далеком прошлом их ученые предвосхитили многие открытия, сделанные европейскими исследователями в средние века и новое время. Достижения в области лингвистики, математики, астрономии, медицины оказали несомненное влияние на другие древневосточные и античную культуры. Один из арабских авторов IX в., аль-Джахиз, писал: «Что касается индийцев, то мы обнаружили, что они преуспели в астрономии, арифметике… и в медицине, овладели тайнами врачебного искусства. Они высекают скульптуры и изображения, имеется у них богатое буквами письмо… У индийцев богатая поэзия, развитое ораторское искусство, медицина, философия, этика… Наука астрономия происходит от них, и прочие люди ее заимствовали… От них пошла наука мыслить».
Математика и астрономия. Самые ранние сведения о знаниях индийцев по названным дисциплинам относятся к эпохе Хараппской цивилизации. Поскольку математико-астрономические тексты того периода до нас не дошли, а имеющиеся надписи пока не расшифрованы, судить об уровне этих знаний можно лишь косвенно – по сохранившимся предметам материальной культуры.
В Мохенджо-Даро был найден обломок линейки, которая представляет собой узкую полоску раковины с нанесенными на ней девятью делениями. В ту отдаленную эпоху, очевидно, уже существовала десятичная система счисления, ею пользовались и за пределами Индии. В Лотхале была открыта часть линейки из слоновой кости длиной 12 см и 1,5 см шириной. На отрезке в 4,6 см нанесены 27 вертикальных черточек, среднее расстояние между двумя отметками – 1,7 мм. Шестая и двадцать первая линии длиннее, чем остальные; возможно, в основу была положена пятеричная система счисления или система кратных пяти. Деления на этой линейке более частые по сравнению с ними же на мерном инструменте из Мохенджо-Даро, и с ее помощью можно выполнять более точные измерения. Так, ширина между двумя соседними делениями на линейке из Мохенджо-Даро 6,7 мм, т. е. в 4 раза больше, чем на линейке из Лотхала. Следует отметить, что десять делений последней – 17,7 мм примерно равны ангуле (17,86 мм) – линейной мере, упоминавшейся в «Артхашастре». Единицами линейных мер в Хараппскую эпоху, вероятно, служили «ступня» и «локоть». «Ступня» составляла 33,5 см, а величина «локтя» колебалась от 51,5 см до 52,8 см. Это были довольно крупные величины, потому применялись и более мелкие единицы измерения, например 5,7 см – единица, неоднократно встречающаяся при обмерах кирпичей.
Одним из способов обозначения чисел служили штрихи-зарубки. Штрихи могли наноситься горизонтально – в ряд или вертикально – одни под другими. Так, цифра 2 записывалась двояко: в одном случае оба штриха находились рядом, в другом – располагались один под другим. Цифры 3, 5, 7 также записывались двумя способами: при вертикальной записи в два ряда в нижнем ряду стоит меньшее число зарубок. Цифра 9 изображалась тремя способами: в первом случае все девять штрихов располагались один рядом с другим, во втором – в два ряда (в верхнем ряду пять зарубок, в нижнем – четыре), в третьем – в три ряда, в каждом по три штриха. Помещение чисел в два и три ряда, очевидно, объяснялось удобством подсчета (меньше штрихов), а также небольшими размерами печатей и необходимостью экономить место при записи большого числа штрихов.
Для обозначения десятки наряду с десятью штрихами применялся и особый знак – полукруг. Цифра 12 изображалась на печатях сочетанием полукруга и двух штрихов; 20, 30, 70 – повторением знака для десятки – полукруга – 2, 3 и 7 раз вертикально. Способы обозначения чисел с помощью горизонтальных и вертикальных штрихов сохранились в позднейших числовых системах Индии.
При выполнении арифметических операций использовался специальный счетный прибор – возможный прародитель абака, широко применявшегося в эллинистической и средневековой европейской математике. В Мохенджо-Даро был найден кирпич с тремя рядами вырезанных на нем прямоугольников, по четыре в каждом ряду; одна из клеток на этом кирпиче отмечена перекрестными линиями. Обнаружен также кирпич с отбитым концом, на одной стороне которого выдолблено четыре ряда углублений. В Лотхале была найдена кирпичная доска квадратной формы; каждая сторона ее была разделена на пять прямоугольников. Вероятно, эти кирпичи служили счетными приборами при выполнении простейших арифметических операций. Не исключено, что для того же. судя по раскопкам, применялись камешки или бобы.
Жители Хараппских поселений играли в кости. В Лотхале открыты игральные кости кубической формы из терракоты, на которых ямочками обозначались цифры: 1 против 2; 3 против 4; 5 против 6. Было другое расположение цифр: 1 против 6; 2 против 5; 3 против 4. При таком расположении сумма двух противоположных сторон равнялась 7.
Эта игра была широко распространена и позднее. В «Махабхарате» царевич Пандава говорит, что при игре в кости он потерял все, включая царство. В «Ригведе» упоминается сорт дерева, из которого изготовляли игральные кости.
Археологи обнаружили множество каменных гирь, применявшихся при торговых операциях. Соотношения между ними – 2, 4, б, 8, 16, 32, 64, 120, т. е. система гирь основывалась на удвоении или, иначе говоря, система весов представляла собой геометрическую прогрессию со знаменателем 2. Для небольших весов она строилась по принципу утроения. Гири из Лотхала имели форму усеченного шара. Между ними существовало соотношение 7/2, 7, 14, 28, т. е. данная система тоже составляла геометрическую прогрессию со знаменателем 2 и первым членом 7/2.
Следует отметить, что цитадели в Мохенджо-Даро, Хараппе, Лотхале и других городах в плане представляют прямоугольник и равнобедренную трапецию; есть основания полагать, что эти цитадели строились по заранее расчерченной схеме. При раскопках найдено множество разнообразных предметов, имеющих правильную геометрическую форму. При вычерчивании окружностей, видимо, использовался специальный инструмент, аналогичный современному циркулю. Для изготовления одинаковых по форме, но различных по величине предметов нужно было знать основы подобия – элементарные, чаще всего полученные эмпирическим путем, а также сведения о центре подобия и коэффициенте пропорциональности. Большое количество обнаруженных предметов представляли собой прекрасные образцы осевой симметрии.
Необходимо было решать ряд задач на построение и преобразования: построение прямой, кривой, замкнутой, ломаной линий; прямого угла и перпендикуляра; квадрата, четырехугольника, окружности, многоугольника; куба, параллелепипеда; деление отрезка пополам и на равные части, круга пополам и на четыре равные части, сферы пополам; построение сектора и сегмента круга; концентрических окружностей; параллельных линий.
Огромный интерес представили раскопки в Лотхале – крупном портовом городе. Здесь был построен искусственный док для стоянки судов, они заходили сюда из Египта и Месопотамии. По своим техническим характеристикам док в Лотхале превосходил более поздние финикийские и римские доки. Средние размеры его составляли 21х36 м, максимальная глубина – 4,15 м; он был окружен кирпичными стенами шириной от 1,04 до 1,78 м. Суда входили в док через 12-метровые ворота. Водный шлюз при постоянных приливах и отливах регулировал поступление воды в док, что позволяло не прекращать судоходство доже при отливе. Все это требовало немалых познаний в математике, вычислительной технике, строительной механике. Не исключено, что при сооружении более поздних по времени доков, которые повторяли некоторые черты Лотхальского, вместе со строительными приемами были заимствованы и математические методы.
В ходе исследований протоиндийских материалов – объектов с надписями, изображениями и символами – появилась возможность более точно судить об астрономических познаниях жителей Хараппских поселений, а также составить представление, хотя и неполное, о календаре и хронологии. Протоиндийский год делился на два полугодия между зимним и летним солнцестоянием. Вместе с тем его подразделяли на шесть сезонов – каждый из двух месяцев, или четырех полумесяцев. Наряду с месяцем в качестве единицы времени существовали и полумесяцы, в зависимости от фаз луны – новолуния и полнолуния. Выделялись периоды равноденствия. О большой преемственности между Хараппской цивилизацией и позднейшими культурами Индостана говорит тот факт, что деление года на два полугодия между периодами равноденствия сохранилось в позднейшей традиции. Есть основания полагать, что система «лунных стоянок» – накшатр, хорошо известная в ведийский период, частично была известна уже в Хараппскую эпоху.
Тогда использовался цикл, состоявший из пяти 12-летних периодов. Принятие пятилетнего цикла свидетельствует о том, что продолжительность солнечного года считалась равной 360 дням; лунный год определялся в 354 дня и охватывал 12 лунных месяцев. При этом за пять лет разница между солнечным и лунным календарями равнялась приблизительно 30 дням, когда повторялась та же фаза Луны, что и пять лет до того. Широкое распространение получил и 12-летний цикл, учитывающий соотнесенность движения Солнца и Юпитера. Объединение обоих циклов позволило ввести 60-летний период, основанный на согласовании движения Солнца, Луны и Юпитера.
В Мохенджо-Даро были открыты каменные астрономические обсерватории, где, очевидно, жрецы вели свои наблюдения. До нас дошли сделанные из камня цилиндрические кольца, на которых имеются углубления. Вероятно, с помощью таких «календарных колец» выполнялись простейшие астрономические наблюдения, удовлетворявшие требования повседневной практики.
Последующие сведения о математических знаниях индийцев относятся к эпохе вед. Один из разделов ведийской литературы под названием шульва-сутры включает трактаты, связанные с правилами измерений и построений различных жертвенных алтарей. Шульва-сутры (или «правила веревки») сохранились в четырех редакциях – Баудхаяны, Манавы, Апастамбы, Катьяяны.
Широкое распространение в период вед получила десятичная система нумерации, известная еще в эпоху Хараппской цивилизации, была разработана специальная терминология для больших степеней десяти, вплоть до 1053. Эти наименования образовывались с помощью принципов сложения, вычитания, умножения – именно тех принципов, которые позднее стали необходимыми компонентами при создании десятичной позиционной системы счисления. Определения и правила выполнения четырех арифметических действий в ведийской литературе не встречаются, хотя приводятся многочисленные примеры этих операций.
В ведийский период сложились основы арифметики, алгебры, теории чисел, геометрии. Санскритское название арифметики – вьяктаганита – «искусство вычисления с известными величинами». Иногда выполнение вычислений именовали дхуликарма – «работа с пылью», поскольку вычисления производились на счетной доске, покрытой песком или пылью, а то и прямо на земле. Числа писали заостренной палочкой; при выполнении арифметических действий легко было стирать одни результаты и на их месте записывать новые.
Санскритское название алгебры – авьяктаганита – означало «искусство вычисления с неизвестными величинами», а также биджаганита – «основы искусства вычисления», или «искусство вычисления с элементами». Зачатки индийской алгебры можно найти в шульва-сутрах, но она в основном была выражена в геометрической форме – той, которая позднее получила блестящее развитие в греческой науке. Так, геометрический метод преобразования квадрата в прямоугольник, одна из сторон которого задана, эквивалентен решению линейного уравнения с одним неизвестным: ахЧ).
В III–II вв. до н. э. сложилась индийская система обозначения степеней – за пять веков до Диофанта – (III в. н. э.), когда греческая числовая алгебра достигла своей кульминации. В конце ведийской эпохи начала создаваться математическая символика: вторая степень называлась пратхама-варга («первый квадрат»), четвертая – двития-варга («второй квадрат»), восьмая – трития-варга («третий квадрат»); корень второй степени обозначался как пратхама-варга-мула («первый квадратный корень»), корень четвертой степени – двития-варга-мула («второй квадратный корень»). Символами служили первые слоги соответствующих санскритских слов. Следует отметить, что и Диофант, подобно индийским ученым, строил буквенную символику именно для степеней неизвестных; показательно, что и способ образования символов – первые или последние буквы соответствующих терминов – полностью аналогичен индийскому.