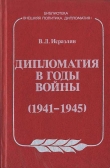Текст книги "Истоки. Книга первая"
Автор книги: Григорий Коновалов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
VII
«Суетимся, горячимся, будто первый день живем на свете», – думал Денис, устало шагая по липовой аллее к заводоуправлению. Последнее время он уставал и все острее чувствовал отвращение к бурным разговорам. Жара, тяжкое гудение мартеновских печей, газы и огненная метель искр меньше томили его, чем возбужденные речи, ошалелые глаза управленцев. «Наплодили чиновников, дали в руки карандаши да бумагу, вот и записывают одно и то же, только в разные блокноты. Недовыполнили – кричат с горя, перевыполнили – кричат от радости. И всегда мечутся, как настеганные», – сердито думал Денис. Ему казалось, что эти люди не знали меры: хвалили отборно высокими словами, ругали сплеча, раздувая обычные неполадки до масштабов катастрофы. Это стремление к крайностям подмывало Дениса сказать людям тяжелое слово. Однако решил, что придорожная пыль небо не коптит.
В приемной никого не было, только у раскрытого на Волгу окна курила секретарша, моложавая, завитая, свободная в обращении с любым заводским начальством.
– О, Денис Степанович! Я ищу вас целую вечность. – Она взяла шляпу и бересклетовую палку Дениса.
Расчесывая седые короткие кудри перед зеркалом, Денис сказал то же самое, что говорил уже лет десять всякий раз при встрече с секретаршей:
– Замуж вышла?
Она удивилась бы, если бы обер-мастер не спросил об этом, а коли спрашивает, значит, еще молода, еще резва.
– За кого? – загадочно улыбнулась она. – Молодежь ветрена.
– Чай, не все! Не греши, девка, не греши! – Денис погрозил пальцем в зеркало.
– Как я рада, что вы, Денис Степанович, ни капельки не стареете!
Денис взглянул на женщину посветлевшими глазами, взбадривая усы. Спросил, однако ж, строго:
– Кому понадобился я?
– Заместителю наркома. Он там, в кабинете.
Секретарша забежала вперед, открыла обшитую желтой кожей дверь. Денис сверкнул глазами и, расправив плечи, вошел в кабинет.
По паркету, заложив руки за спину, быстро ходил Савва, плотный, с резкими чертами властного лица, с бритой головой. Черты крупновские, только как бы чуточку преувеличены: нос горбатее и побольше, глаза круглее и взгляд их упорнее. Все на нем было в обтяжку: шевровые голенища сапог обнимали икры, темно-синий китель обтягивал грудь, казавшуюся шире плеч; воротник, обхватив толстую белую шею, подпирал тяжелый, раздвоенный подбородок.
От Дениса не ускользнуло мгновенное выражение растерянности в лице брата, всегда самоуверенного, энергичного.
Не выпуская руки Дениса, Савва почти толкнул его на диван, сел на стул, выпятив подбородок. Прямо глядя в лицо голубыми глазами, сказал бодрым, наигранно-беспечным тоном:
– Учестили Савву ни в честь ни в славу.
– Что случилось?
– Братка, я больше не замнаркома.
Денис отпрянул, а Савва закончил уже тихо и печально:
– Это очень плохо, но это правда, и ты ее должен знать.
– Знать надо. Выворачивай наизнанку.
– Суть короткая: не справился…
Как ни больно было Денису слушать брата, он слушал внимательно, глядя в лицо его спокойно, грустновато.
– Видишь, как все просто, Денис Степанович, – с оттенком удальства и даже легкомыслия сказал Савва, тогда как ему было не по себе.
И Денис отлично понимал его.
– Что-то уж очень просто и даже… того… страшновато. Лучше бы и не браться…
– Но ведь я верил в себя, верил! А потом чувствую: засыпаюсь. И ничего поделать не могу. Как во сне, хочешь бежать, а ноги не двигаются. Что делать? Пошел в ЦК, сказал: не справлюсь.
– Это честно. А дальше?
– Согласились. Но черт возьми! Сам просился отпустить, а тут стало обидно, что освободили.
– Хотелось уговоров, похвал?
– Я привык считать себя неглупым человеком. Многое могу! У меня есть сила, опыт. Я…
Слова эти уже не трогали Дениса. Он рассматривал кабинет. Потому ли, что ничего не изменилось в кабинете, если не считать замены жесткого кресла мягким, потому ли, что Денис был недоволен самооценками Саввы, но только подумалось ему, что ничего не изменилось за это время и на заводе. А вот Савва, наверное, думает, что без него жизнь людей пошла каким-то иным путем. А ведь этого нет. Люди работают так же хорошо и временами неудачно, радуются и огорчаются, то есть живут той многообразной жизнью, над которой любой директор, Зуйкин ли это, Савва ли Крупнов, властен не в большей мере, чем ученый агроном, составляющий план посева, властен над приходом весны.
– Потом я увидел, братушка, что и прежняя моя работа на заводе была не ахти как хороша: рубил в два топора, да работа не спора. Печальный опыт научил многому. Понимаешь, перетряхиваю, пересматриваю всю жизнь.
И тут Денис заметил: перед ним сидит, расстегнув китель, усталый, с нервным румянцем на лице человек, оглушенный свалившимся на него несчастьем.
– Гроза бьет по высокому дереву. Наверху голова кружится. Ну а в чем же, Савва, твоя главная вина?
– А в том, что заграницу не обставили по качеству стали.
– Это плохо. Ведь и за границей, я думаю, не сплошь дураки, а через одного, – усмехнулся Денис. – Но не по твоей же, черт возьми, оплошности мы меньше Америки выплавляем стали! Не ты и не я задержали Россию на сотни лет. Мы, коммунисты, не испугались отсталости, взялись догонять и обгонять. Так в чем вина твоя? Правду режь!
«В чем вина?» – Савва думал тяжело и напряженно.
В силу данной ему большой единоначальной власти и оказанного доверия он привык действовать решительно. Он познал вкус власти, нравилось ему командовать тысячами инженеров, рабочих, мастеров, среди которых, как он подозревал, наверное, были люди умнее и сильнее его, способные занять его место и с таким же успехом и вкусом командовать. Но какие бы они умные и пытливые ни были, смысл жизни и деятельности всех этих нерядовых и рядовых работников он видел в том, чтобы они усиливали и поддерживали его волю, его единоначалие, направленное к одной цели – выполнению планов. Он с глубокой искренностью поддерживал в людях и особенно в самом себе представление о начальнике как твердокаменном человеке, силой воли избавленном от тех раздумий, душевных затруднений, какие бывают у людей обыкновенных, «естественных», сырых – так называл он всех, кто не проявлял таланта к руководству. Если Савва хотел руководить (а иначе ему его жизнь до сих пор и не представлялась), он должен быть всегда решительным, смелым, бодрым, свободным от излишнего раздумья. Этого же он требовал от других. Он чувствовал себя аккумулятором целесообразных устремлений и повелений государства. Вся его жизнь без остатка представлялась ему орудием высокой, для него самого несколько таинственной исторической неизбежности.
Но так было прежде, до тех пор, пока он поднимался по служебной спирали. И ему казалось, что с каждым новым подъемом он становился умнее, сильнее, необходимее в жизни государства. Окружающие говорили ему то же самое.
Теперь же внезапный провал, как замыкание тока в сердце, потряс его, и ему стало казаться это катастрофой. Но причин катастрофы Савва не знал и потому не мог сказать старшему брату, в чем его вина…
– Теперь-то что делать собираешься? – прервал Денис его невеселое раздумье.
– А? Что делать, говоришь? Опять директором на завод послали… Пока, значит, послали…
– Ну, что ж, опыт у тебя теперь наркомовский. Берись за завод.
– Делом займемся, а стыд побоку!
– И стыд твой, Савва, другому не подкинешь. Горек хлеб руководителей, ответственность не штаны, не сбросишь ее. Однако духом-то не падай, не нудься. Бывает хуже… Приходи к нам, потолкуем, с теоретической стороны заглянуть на твою осечку поможет Матвей. У Юрия тоже глаз свежий.
– У вас я был, поплакался на груди Любови Андриановны. А Матвей что? Удачник. Сияет, острит. Юрий – секретарь парткома. Трудно ладить с ним, Денис Степанович. Был он в ЦК, с докладом о заводе. Мимоходом под ложечку двинул. Словом, облил и меня густо.
– Дуги гнул? Не похоже на Юрия, – сказал Денис, грозно хмурясь. – Вернется из горкома – поговорю.
– Сгущал краски. Горяч и нетерпим. Хотя я и любил прежде сталкиваться с ним – искры летят, – однако сработаюсь ли сейчас?
– Ты старше, подскажи парню. К хорошему слову Юрий не глух. Не дипломатничай с ним, зоб не надувай. Правда выше жалости, Савва. Виноватых не ищи. И откуда взялась у тебя привычка смотреть сверху вниз? Назвала братом – норовишь в отцы.
– Почему прежде не говорил мне об этом? Эх, братка, лежачего бить легко.
– Поутихни. Говорил я тебе и раньше. Ты улыбкой заслонялся от меня, не пускал слова в душу. Сколько гордыни и сейчас: «лежащего бить». Если ты не замнаркома, то уже повержен? Выходит, я, рядовой, на усах да бровях по жизни ползу? Начальники стоят и все видят? Ты же не цапля, какая стоит на одной ноге, нос задрала, – безжалостно говорил Денис именно потому, что жалел брата, огорчался его неудачами, пока не примиряясь душой с крутыми мерами по отношению к нему.
Савва сказал, что заводу поручили в порядке эксперимента варить броневую сталь, правда, в небольшом пока количестве. Можно справиться на одном мартене.
Денис задумался. Эта новость связалась в его сознании с тем, что говорил ему Матвей о напряженности в мире. И еще вспомнилось: последний раз завод выпускал бронепоезда в 1919 году. С тех пор мартеновский цех выдавал обычный прокат, машиностроительные цехи – сельскохозяйственные машины, в том числе колесные тракторы.
– Так вот, Денис Степанович, возьмись-ка ты за броневую. С главным металлургом обсудите, изучите документацию.
– С молодежью возьмусь – с Сашей и Рэмом Солнцевым.
Секретарша просунула в дверь веселую, завитую голову, доложила, что вызванные на совещание люди собрались в приемной.
– Пусть входят, – сказал Савва. – Денис Степанович, ты мне вроде отца родного… Посиди, посмотри, как я прыгну сейчас в холодную воду. – Он прошел за дубовый на двух тумбах стол, резким движенцем загнал мягкое кресло в угол, сел на жесткий стул.
Как только вошли в кабинет начальники цехов, технологи и конструкторы, Савва объявил, подчеркивая каждое слово, будто читал декларацию:
– Ставлю вас в известность: во-первых, я освобожден от работы в наркомате.
Он умолк, предоставляя людям время прийти в себя. Убрал со стола в ящик различные мелкие предметы, которые накопил его предшественник: модель колесного трактора, кубок заводской спортивной команды, пепельницу, даже чернильный прибор с двумя башенками, туго забитыми цветными карандашами. Обладая редкой памятью, Савва никогда ничего не записывал.
– Не справился, братцы. Взлет орлиный, а слет куриный. – Савва прищурил жесткие глаза, закончил, как угрозу: – Во-вторых, директором завода, назначен я!
И теперь всем показалось, что он не покидал завода, всегда сидел за этим дубовым столом, положив на него свои огромные, в коричневых веснушках кулаки.
– На одном мартене будем варить броневую сталь. И это не все. Два новых цеха должны построить. Если у нас не хватит умения работать как следует, то я окажусь непригодным директором не только такого мощного комбината, а и конфетной фабрики. – Савва помолчал, а руки все гуще краснели, натекали, подбородок все тяжелее давил на воротник. – А кем вы, командиры производства, окажетесь, судите сами. Бить нас придется сухой палкой по самому больному месту! – Савва скосил глаза на главного инженера, человека застенчивого. – Вас это не касается! Вас, в виде исключения, будут бить сырой палкой.
Теперь исчезли в голосе хрипота и сухость, раскатисто гудели басовитые ноты. Перед людьми был прежний Савва, или «Молния», как прозвали его за ту бешеную стремительность, с какой обрушивался он на неполадки.
Денису противна была эта резкость, хотя он понимал и даже извинял Савву: за грубостью пытается скрыть стыд и уязвленное самолюбие. После Саввы выступил военный представитель на заводе, ядовитый сухонький старичок.
Денис ушел. У ворот завода, встретился с Юрием.
– Слыхал, как громыхнулся наш Савва?
– Знаю. А что, синяков много?
– Тяжело ему, сынок, тяжело. Ты бы поговорил с ним, посочувствовал, может быть, пожалел.
Юрий ответил очень мягко, с улыбкой:
– Жена пожалеет. – Закурил и добавил: – А успокоят подхалимы. Этого скота хоть отбавляй.
Денис удивленно взглянул выше рыжеватых густых бровей сына.
– Отец, не умею притворяться. Не удивил меня дядя Савва. Душевный механизм его ясен для меня, – говорил Юрий с категоричностью молодого человека, уверенного, что знает людей.
– Конечно, конечно, надо быть самим собой. Я ведь к тому… Понимаешь, он чего-то боится, ждет худшего, что ли… Петушится, шумит, а винты ослабли в душе. Меня не обманешь. Опасается за дальнейшее, ждет, говорю, еще удара.
– Каждый ждет того, что заслужил. Я, например, не жду ни ордена, ни выговора. Не за что пока.
– Не хорохорься. Не всегда награждают и бьют по заслугам. Ни за что ни про что бьют иной раз насмерть. Тяжело Савве. В общем, он к тебе придет в партком.
– Хоть он и богатырь, яркая личность, но без парткома ему не обойтись, несмотря на его наркомовский характер, – говорил Юрий жестко, хотя и был огорчен тем, что «скис» не кто-нибудь, а Крупнов Савва. – Он один прикатил или с семьей? Впрочем, уверен, что без семьи. Надеется, передумают в Москве и тотчас же снова кликнут к наркомовскому рулю. Хватит о гигантах. Знаешь, батя, плохо у нас в семье. Светлану жалко, все натянулось в ней до предела… Боюсь за Женю: тоскует по отцу. Ах, Женя, Женя, душа голуба!
VIII
Юрий прошел в партком. В приемной комнатке технический секретарь Марфа Холодова, пожимая широкими, пышными плечами, певуче говорила Рэму Солнцеву:
– Ни одно государство не удержится на холостяках. – И розовые пальцы ее порхали над клавишами пишущей машинки.
Рэм с улыбкой смотрел сквозь дым своей папиросы на грудь Марфы. Увидев Юрия, он вскочил со стула, прошел вместе с Юрием в кабинет. Отбрасывая назад красноватые волосы, загадочно улыбаясь умными нагловатыми глазами, сказал:
– Вам поклон. Угадайте, от кого?
Юрий редко краснел, зато если краснел, то до ушей, до корней волос, и тогда странным, чужим казалось выражение смущения на его чеканном, спокойном лице.
– Скажите, от мужчины или от женщины, и тогда я попытаюсь угадать. – Под наигранной небрежностью Юрий скрывал свое острое волнение.
– Среди мужиков у вас нет друзей: красивых и удачливых не любят. Им завидуют. Я первый завистник. Девушка кланяется, – сказал Рэм и помахал голубым конвертом. – Скоро приедет. В заводском поселке не найдется комнатушки? Помогите сестренке.
– Если она захочет. А то ведь откажется, да еще и обидится. Я немного знаю ее.
– Еще бы! Да, она такая… – Рэм вздохнул, вспомнив, что за характер у сестры.
– Юлия Тихоновна не вышла замуж?
– Что за вопрос, Юрий Денисович? – обидчиво удивился Рэм, и в этом удивлении чувствовался упрек Юрию, который лучше кого бы то ни было должен был знать, что Юлия не выйдет замуж, пока он не захочет этого. – По-моему, она останется одинокой.
– Многие девицы бунтуют против замужества до поры до времени, но верной своему девическому непорочному знамени остается только одна Холодова Марфа.
– И она, кажется, гнездо вить собирается…
– На земле или на дереве?
– Как бы не в светелке, где живет ваш Саша.
Юрий чуть приподнял рыжеватую бровь.
– Почему бы сестре не остановиться у отца родного? – спросил он.
– До бога далеко, до отца высоко. Я не переступлю порога отцовского дома, пока мадам Персиянцева под одной крышей с моим Тихоном Тарасовичем. Если Юлька поселится, я ей не брат. – Рэм сжал зубы, желваки забегали под темной кожей на челюстях.
– Рэм Тихонович… мне, право, неловко… Я не имею права… – смущенно заговорил Юрий.
– А если я верю вам? – продолжал Рэм с настойчивостью человека, решившегося высказаться до конца. – Я откровенный! Мадам пустит в ход все свое змеиное очарование, чтобы отвратить Юльку от вас. Спит и во сне видит, как бы породниться с одним человеком – с товарищем Ивановым. Разумеется, через Юлию. Есть такое редчайшее дарование – Иванов: поэт, политический деятель. Я все знаю! Есть у меня в отцовском раю-особнячке агентура. Теща папаши. Жалостливая старушка. Любит нас с Юлькой, хотя мы так и не согласились надеть на шеи крестики… Помогите, Юрий Денисович, сестренке, не обижайте ее. Иначе осерчаю. – Рэм уж открыл дверь и сказал с порога с бесшабашным озорством. – Бабусе той, как она преставится, отопью памятник из нержавеющей стали!
– У насмешников зубы болят.
Разговор с Рэмом Солнцевым оставил в сердце Юрия мутный, неприятный осадок. Было в этом что-то лишнее, злое.
Но, отпустив домой Марфу Холодову, Юрий почувствовал приятную облегченность: впервые за день остался один. Снял пиджак, развязал галстук, сел в кресло, расслабив мускулы, свободно вытянув ноги и раскинув руки. Любил эти редкие минуты, когда выключался из потока жизни. Они напоминали любимое развлечение на Волге. Ляжет, бывало, на спину, и река несет его, а он бездумно смотрит в синеву небес, на одинокое, снежной белизны облако.
Но ему только так казалось сейчас, что он ни о чем не думает. Где-то в глубине сознания под привычный с детства басовитый гул заводов шла напряженная работа. Вставал в памяти нежный профиль Юли Солнцевой, и Юрий спрашивал себя: что за странные отношения у него с этой женщиной? Юля писала, что они слишком схожие натуры и поэтому между ними не может быть контакта, необходимого для семейной жизни.
«Отказать ей в искренности не могу, в правильности слов ее сомневаюсь… А эта Рита… бедная девочка, она называет меня жестоким, очевидно, за то, что мне противно ее крикливое желание выйти за меня замуж. А, все пустяки пока! Впереди у меня жизнь, я молод, здоров, свободен. Пусть будет все: любовь – так безоглядная, сильнее разума. Горе – поборемся и с горем! Пусть жизнь будет круто замешана!»
Звонок телефона, как внезапный грубый окрик, встряхнул Юрия. Бодрым, шутливым тоном Савва спрашивал, играя генеральским баском, можно ли ему зайти в партийный штаб.
В шутке этой Юрий почувствовал затаенное желание Саввы не уронить себя, его снисходительную усмешку над ним, молодым работником.
– Заходите, Савва Степанович, через десять минут. Давно не видались.
Зашнуровал ботинки, повязал галстук, зачесал назад растопыренными пальцами мягкие вьющиеся волосы и встал у окна.
В памяти всплыло властное, в коричневых веснушках лицо дяди. В его глазах Савва был самобытный человек большого размаха, сильного накала. Работать с ним трудно и хорошо. Он гордился дядей, его умом, волей. Но Юрий не сходился близко с ним, в то время как дружил с другими, куда менее яркими и умными людьми. Объяснить такое внутреннее отталкивание от него Юрий не мог даже самому себе, да и не пытался.
В свое время из молодых работников завода Юрий был единственный, на кого Савва не поднимал раскатистого властного баса. Раз как-то, когда Юрий, окончив вечерний институт, стал работать сменным инженером, Савва по-свойски налетел на него с крепким словом. Юрий протянул руку с длинными крупными пальцами и, пропуская слова сквозь плотно сжатые зубы, сказал, сильнее обычного окая:
– Оставьте озорство.
Савва фыркнул.
– Грохочете… как порожняя бочка, – сказал Юрий, когда Савва неожиданно для себя уже успокоился и благодушно покуривал.
– Ты это серьезно, Юра, насчет озорства-то?
– Потешаю вас, – с обидным миролюбием ответил тогда Юрий.
Савва пришел минута в минуту, широко распахнул двери и сразу же заговорил, ворча с начальнической фамильярностью:
– Покоряюсь судьбе, покоряюсь. Уезжая в Москву, надеялся навсегда избавиться от твоего милого общества, но… судьба! Год совместного пребывания с тобой в одной упряжке нужно равнять с десятью годами работы во вреднейшем цехе.
– Подвиг ваш зачтется вам, Савва Степанович.
Тыча пальцем в грудь Юрия, Савва долго говорил о сроках строительства новых цехов. Смущали эти сроки Юрия необычайной сжатостью.
– Это реальный расчет! – напористо говорил Савва.
Юрий любил в Савве вот эту молодую энергию, волю и размах. До Саввы был директор добрый, сыроватый, нерешительный. Как стена резиновая: сколько ни бейся головой, не прошибешь и не зашибешься.
– Ну как, Юра, рассказать о моих приключениях? – спросил Савва вдруг усталым голосом. – Не подымай высоко, не опускай низко.
Юрию очень хотелось знать, что же могло произойти с этим умным и честным человеком, но ему в то же время было жалко его и еще было совестно копаться в больном сердце. Он тепло глянул в его глаза:
– Потом как-нибудь, Савва Степанович. На охоте или на рыбалке. Врастайте в коллектив всем своим горячим сердцем. Со временем горечь осядет, второстепенное отсеется, а главное покажется в несколько ином свете. А там, глядишь, и не захочется толковать о своем черном дне.
– Упрощаешь немного, Юра.
– Зачем же усложнять сложное? Только запутывать. По себе знаю, Савва Степанович, чувства горькие границ не имеют. Лучше не давать им волю. Ушибов трогать не будем. По возможности, конечно. Поедем к нам, отдохнете, а?
– Вези меня в горком, к Солнцеву, – приказал Савва и, усмехаясь, иронически добавил: – Воспламеним Тихона Тарасовича перспективой.