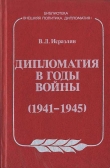Текст книги "Истоки. Книга первая"
Автор книги: Григорий Коновалов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 30 страниц)
Валдаев скользнул взглядом по его фигуре, потом снова, прищурившись, внимательно посмотрел на его юное, с энергично выпятившимся вперед подбородком лицо, улыбнулся. Он узнал в молодом майоре своего приятного собеседника во время инспекции войск, подал ему руку в перчатке.
Холодов потом не раз вспоминал, как, не торопясь, пожал руку знаменитому военному начальнику, и радостное чувство переполняло его.
«Какой он замечательный человек! Узнал же меня! – думал Валентин Холодов. – Люблю его. Я не имею права распыляться. Меня ждет что-то большое. И страну ждут большие события».
«В перчатках ходит Валдаев. Форсит! – Чоборцов вспомнил, как у Халхин-Гола Степан Петрович прямо стоял под японскими шрапнелями, неторопливо смазывая вазелином обветренные губы. – Форсит!»
VIII
В пестрый клубок заматывалась жизнь Валентина Холодова, и это держало его в состоянии повышенного раздражения. Вопреки своему зароку не видеться с Верой, он почти каждый день встречался с нею. Всегда и во всем аккуратный, он оставался верным себе даже в нарушении аккуратности: как бы ни был занят, в семь часов вечера приходил в читальный зал, раздвигал портьеры и молча упорно смотрел на Веру. Она сидела за первым столом, склонив голову с туго зачесанными назад каштановыми волосами. Ему доставляло удовольствие, испытывая силу своего взгляда, пристально смотреть на ее невысокий красивый лоб, прямо в ту точку, откуда начинался разлет угольно-черных, невеселых широких бровей. Она поднимала голову, и золотистые глаза ярко вспыхивали.
Оба были очень заняты: она сдавала государственные экзамены, он на курсах старшего комсостава изучал опыт финской кампании. Он приглашал ее обедать, но она шарахалась от ресторана, как от подозрительного заведения. Эта провинциальная диковатая чистоплотность уронила Веру в глазах много повидавшего майора. Пришлось ходить с нею в студенческую столовую, есть ячневую кашу с постным маслом.
Однажды Вера рассказала ему под вымышленными именами историю своих отношений с Михаилом Крупновым, похвально отозвавшись о себе самой, как о волевой девушке. К огорчению ее, Холодов посмеялся над волевой девицей и дружески пожурил мягкого парня за излишнее самоунижение.
– Я уважаю волевых мужчин. Но воля в женщине – нечто инородное, чуждое ей, – сказал он подчеркнуто. – В женщине мне нравится мягкость, слабость, то есть женственность.
Определенно и ясно высказывал он свои мнения, о чем бы ни спрашивала его Вера. Должно быть, красива и проста душа этого человека, покоряющего своей прямотой. Из таких и получаются герои вроде Чкалова. Их ничем не удивишь. О Париже, в котором был он с одним генералом, говорил буднично, будто речь шла о районном центре Подосинники. Остроумно высмеивал «дикую архитектуру» домов-коробок на Пироговской улице. Снисходительно отзывался об игре знаменитой киноартистки.
После встреч с Холодовым скучной казалась Вере комната в общежитии с длинным классным столом, кисейными занавесками на окнах, озабоченными подругами в простеньких платьях. Как на чужие, смотрела она на свои большие руки, которые столько перестирали белья, перештопали носков за время сиротской жизни. Она и конспекты писала с таким же усердием и нажимом, как в свое время гладила костюмы для чужих людей. Никогда не смывались чернила с указательного пальца правой руки.
В отношениях Веры и Холодова наступил тот особенный момент, за которым должны следовать или женитьба, или резкое охлаждение. И они оба чувствовали это. Никогда еще не было в сердце ее столько нежности к нему, такого веселого желания любить и такой уверенности в своем счастье, как в эту трудную пору их отношений…
На выпускной вечер в институт Вера не пошла. Подруги и товарищи упрекнули ее в глупости и измене.
Но она, счастливая одним лишь ожиданием счастья, обнимала и целовала их. Оставшись одна, Вера вымыла пол, попрятала книги и конспекты в тумбочки, надела белое платье. Из скудной стипендии она сэкономила рубли, чтобы купить дорогие, любимые Валентином папиросы «Герцеговина флор» и бутылку вина.
В этот вечер получила письмо от своей подруги Марфы Холодовой.
«Мы с тобой разные люди: ты сильная и разумная, я слабая и глупая, ты не веришь в предчувствия, а я верю. А вдруг война начнется вот сейчас же? Что будет с моим братом, с тобой? Валентин – кадровик, первым пойдет на фронт. Ты не отстанешь от него, потому что любишь его. И он любит тебя. Я завидую тебе, Верка! Я прошу от жизни немного: мужа и детей. А жизнь не дает, как будто не знает, что мне уже двадцать три года. Если сейчас ничего не получается, то что же будет в войну? Что за наваждение напало на меня? Если я наделаю глупостей, не удивляйся».
Ровно минута в минуту, в девять часов, Валентин легким, размеренным шагом зашел в комнату. Был он в белой гимнастерке, сдержанно оживленный, от него пахло духами. Таким она больше всего и любила его.
– Поедем ко мне, у меня лучше, – сказал Валентин.
– Я соглсна, – ответила Вера, на мгновение прижавшись головой к его груди.
Молча ехали до гостиницы. Вера боялась, что у него будут приятели со своими барышнями, будут песни, вино, неестественное возбуждение пьяных, мутные глаза которых всегда вызывали у нее головокружение и грустное сознание бестолковости жизни.
Однако ни пьяных, ни трезвых в номере не оказалось. Официант до их прихода накрыл столик с витом и закусками. Валентин скрылся за дверью и скоро вышел к столу в гражданском костюме, с зачесанными назад волосами, красивый, празднично возбужденный.
– Мы могли бы поехать на ужин к моему генералу. Как ты думаешь, Вера?
– Вдвоем нам лучше, Валя.
– Ты домоседка, – сказал он неопределенным тоном.
Чтобы понравиться ему, она ответила:
– О да!
Валентин сидел напротив, подперев рукой подбородок, восхищенными глазами смотрел в ее лицо.
– Любуюсь твоей красотой, Вера.
За этими словами скрывалось что-то такое, что не понравилось Вере, но она постаралась забыть об этом: ей радостно было видеть близко от себя красивое лицо, ясные янтарные глаза. Валентин налил вино в высокие рюмки, похожие на алые цветы, и они выпили.
– Ты не женщина, ты выше. Ты не для жизни, а для любования…
– Перестань говорить глупости! Мне очень хорошо и легко с тобой, – сказала Вера именно потому, что легкости-то она как раз и не испытывала. – Налей вина.
– Вера! Какая ты…
Глаза ее темнели, зрачки расширялись. Прикусив нижнюю полную губу, она улыбалась просяще и немного жалко.
– Я люблю тебя… – виновато сказала Вера. Вышла из-за стола, зажмурилась и, качнувшись, неловко и порывисто обняла Холодова.
Обнимая ее тонкий стан, он не забыл свободной рукой поставить опрокинувшуюся рюмку, потом усадил Веру на ее место за столом, поправил двумя пальцами ее брови, запахнул пиджак на своей груди.
Вера засиделась допоздна, а потом ей стало дурно, и она осталась ночевать. Сняла туфли, легла на диван, вытянув ноги в простеньких чулках, закинув руки за голову.
Целомудренно держал себя Холодов в эти предутренние часы. Сидел он на стуле около дивана, спокойно покуривал, пускал дым кольцами, шутил над ее слабостью: от такой дозы даже кролики не пьянеют. Как видно, у майора было железное здоровье: не задремал до утра, даже тень усталости не легла на его твердое свежее лицо.
И Вера, протрезвев и отдохнув, преклонилась перед его мужской выдержанностью, целомудрием и силой. «Он бережет меня, потому что любит».
Но с этого дня жить стало томительнее и тягостнее. Холодов не говорил о любви, казалось, он не знал, что через несколько дней она получит путевку на работу и они расстанутся, если загс не скрепит их семейными узами. В это время в Москве начались переговоры с Прибалтийскими государствами – Латвией, Литвой, Эстонией, и майор в срочном порядке выехал на запад, в свою армию. Вера и Холодов условились встретиться в своем родном городе на Волге.
IX
По какому-то таинственному веянию, по разговорам и настроению в народе Крупновы чувствовали, как и все люди, что надвигается грозное время и им представляется едва ли не последний случай собраться всем вместе. Не воспользоваться этим случаем было бы непростительной ошибкой. Об этом никто не говорил, но чувствовали это все, и Крупновы, от мала до стара. Именно поэтому Денис перенес свой отпуск с марта на август, когда и должны были слететься в родное гнездо сыновья.
У многих Крупновых, за исключением Любови, острота горя притупилась: воспоминания о Константине, очищенные временем от острой боли, приняли характер молчаливой грусти.
Жизнь брала верх над всеми огорчениями людей, и даже Светлана забывала щедрую ласку мужа. Она поступила на завод маркировщицей, и люди втянули ее в коловерть жизни, как Волга вбирает в себя воды больших и малых рек. И Светлана захотела жить, как живут все молодые женщины…
Платья она свои перешила по новому фасону, укоротила и завила волосы. Зацвела ее вторая молодость со своими обогащенными опытом желаниями счастья и осмотрительными, трезвыми надеждами на замужество. Теперь и сыновей своих любила она крепче прежнего, потому что видела их только под вечер, после работы, всегда вымытыми, сытыми, здоровыми, и еще потому, что дети героя украшали ее. Повеселевшая мать стала ближе и понятнее Жене, все чаще он ходил с нею в кино, и Светлана радовалась, что через год-два сын станет ее помощником и товарищем.
Переболев тоской по отцу, мальчик решительно повзрослел. Только маленький Коська рос около бабушки, никого не ожидая, взятый на учет пока лишь одной детской консультацией, где его взвешивала и ощупывала добродушно-ворчливая врачиха с усиками. Коська рано поднялся с четверенек и совершал большие походы вокруг огромного стола.
Смелыми, открытыми глазами и вьющимся чубком он до сладкой боли напоминал Светлане мужа. Он еще не понимал своего несчастья, этот маленький гражданин, потому что у него было три мамы: кормившая его грудью Света, веселая, игравшая с ним Лена, убаюкивающая его в кроватке ласковая Люба.
Пап было тоже трое: Денис с седыми усами, пахнувший дымом, Юрий с воркующим густым голосом и голубыми глазами и третий, Саша, широкие ладони которого удобны, как детский стул: посадит на одну из них Коську и несет над головой. Коська, вцепившись пальцами в мягкие отрастающие кудри дяди, улыбался.
Любовь Андриановна экономила на каждом пустяке, чтобы было на что угостить сыновей. Никогда, ни днем ни ночью, не переставала она ждать их, а после гибели Константина ожидания эти переросли в постоянную тревожную тоску. Пока шла война с Финляндией, жила под неослабным опасением получить такое же короткое извещение о Саше или Мише, какое было получено о Косте.
Любовь после длинной телеграммы от Александра и Михаила о том, что они едут домой, не останавливаясь в Москве, лишилась сна и покоя. Но Миша обманул ее ожидания. Однако Любовь так радовалась возвращению меньшого сына, что на первых порах как будто смирилась с этим. Радовало ее, как удивительно быстро Саня сбросил с себя солдатчину. В баню пошел военным, в гимнастерке и галифе с прозеленью, а к чаю вернулся заводским парнем: в спортивных фланелевых штанах, в черной косоворотке, в пиджаке внакидку. Светлая улыбка на молодом сильном лице говорила всем: «Я все такой же, как и был прежде. Куда бы меня ни послали, какие бы наряды ни надевали на мои плечи, я как был Санька Крупнов, так Крупновым и останусь!» И, как бы утверждая это свое крупновское постоянство, он на второй же день вместе с отцом и Светланой отправился на завод. А вечером Александр уже склонялся в светелке над столом, готовился к летней экзаменационной сессии в заочном политехническом институте. И все поверили в невероятное: никуда Саша не уходил из дому, никакой войны не было, а был просто дурной сон.
Вениамину Ясакову, пришедшему звать его в клуб, ответил с прежней твердостью:
– Не могу – работа. Поумнеть хочется.
– Да ну тебя, Шурка, от работы лошади дохнут!
– Тогда отдыхай, а то, чего доброго, околеешь. – Александр помолчал и потом добавил: – Или ты не в родстве с конягами?
Ничего особенного не рассказывал он и о войне, разве лишь о том, что иногда бывало холодно.
– Обычно говорят, жарко на войне, – возразила Лена.
– Жарко бывает в бане и на экзаменах, – ответил Александр и закончил деловито: – Поскорее надо закругляться с учебой, времени в обрез.
Когда спросили его о Михаиле, он покраснел и, скованный застенчивостью, ответил неопределенно:
– Живе-е-ет.
– Скоро он приедет? – затормошила его Лена. – Какой он?
– Шабутной, семь пятниц на неделе. Приедет – увидишь.
– А над чем он работает сейчас?
– Над собой, все никак не определит, с какой ноги надо утром ступать.
Сноха Светлана сказала о девере с особенной улыбкой, опуская мягкие ресницы:
– Когда-то Мишенька был общительный и… влюбчивый. – Из чувства неловкости она умалчивала о том, что Михаил неравнодушен был к ней. – Теперь он, наверное, остепенился, да?
Александр махнул рукой.
– И сейчас в этих делах он баламут: любая женщина для него богиня… Влюбляется во всех, только пожарной каланче не объяснялся. – Посмотрел на сестру, горестно предположил: – В нашем городе, пожалуй, и каланче объяснится.
Приезд племянника Федора, сына покойного Евграфа, заставил на время забыть о Михаиле. Сияющим метеором влетел в дом морячок Федор. Было солнечное утро, и золотые шевроны, мичманские нашивки на рукаве его кителя блестели, ослепляя глаза. Это был высокий, стройный молодец, сразу же затмивший всех знакомых парней Лены. Веселый балагур, несколько рисовавшийся перед девушками, он так им понравился, что они целыми косяками ходили в сад Крупновых.
Привез он с собой двухрядку с нарядными мехами. Вечерами веселил родню задушевной игрой. Денис заказывал ему старые революционные песни и сам подпевал вполголоса.
Женя не отставал от веселого, бравого дяди. Теперь он свою жизнь не мыслил иначе, как на флоте, в океане.
С приездом Федора воцарился в доме праздник, и только Любовь все чаще стала вспоминать сыновей такими вот маленькими, как Коська. И тут всегда представлялся ей Михаил – он родился в тюрьме. Интеллигентный следователь, выведенный из себя молчанием Любавы, вдруг залетел в камеру, выхватил из рук Любавы Мишку. Тот даже не плакал, а недоуменно моргал. Следователь положил младенца на пол, занес над ним ногу в сапоге: «Раздавлю гаденыша!» Пнул так, что Миша укатился к параше. Арестантки кормили Мишку жевками, когда Люба слегла. Не уберегли только от проникшей в тюрьму оспы. Миша и потом, на воле, часто хворал. Однажды так заболел, что едва дышал. К его смерти все были готовы, но он оклемался, вошел в силу. И росли братья разными: Костя – спокойный, Юра – живой, активный, быстроглазый; Мишка же всегда о чем-то думал, колупая в носу или посасывая большой палец. И внешностью он резко отличался от братьев: круглый, как телеш, неизвестно в кого чуть раскосый, темноглазый.
Редко и сдержанно ласкала его Любовь. Воспоминания об этой поре мучили ее, а возникшая запоздалая жалость к сыну больно давила сердце. Усиливалась эта жалость еще тем, что мальчишка никогда ничего не просил, не обижался, не удивлялся, как будто бы лучшего он и не ожидал от людей. Он никогда не дрался с ребятишками. Если они налетали на Мишку, он не убегал, спокойно, с какой-то обреченностью стоял, не уклонялся от ударов, а только удивленно смотрел в глаза обидчиков, как бы говоря: «Ну, ну, покажи себя, скотина!»
Но на одиннадцатом году жизни Мишка неожиданно и резко изменился. Каждый день проникал на завод, лазил по цехам. Кепку носил козырьком назад, ловко плевал через правое плечо. Редкая мальчишеская свалка в школе и рабочем поселке обходилась без него. Мишка выдумывал невероятные истории, уверяя всех, что это правда. Если кто из сверстников не соглашался с ним, он тыкал пальцем в его лоб, говорил:
– Мозги твои оловянные! – И загибал такие россказни, что на него поглядывали с опаской.
Однажды прибежал Юрий.
– Мишку опять избили! – сказал он, вытирая окровавленный нос разорванным рукавом.
Любовь нашла Мишку на берегу Волги: лежал грудью на камнях, окунал лицо в воду и отплевывался кровью.
– Что это такое? – Она схватила его за руку и поставила перед собой.
Жгуче поблескивая темными глазами, он ответил преспокойно:
– Идиоты! Не верят, что тятя – сын Степана Разина.
Любовь засмеялась, скупо погладив мокрую голову сына.
– Что ты выдумываешь? Стенька-то Разин когда жил?
– Каждый живет в свое время. Я им все-таки вдолблю в башку правду.
Вечером отец собрал сыновей, рассказал им родословную Крупновых: ничего особенного, рабочие люди. Но Мишка, видимо, успел так основательно вскружить головы себе и братьям выдумками о необыкновенной судьбе Крупновых, что даже недоверчивый Юрий сказал:
– Насчет Разина Мишук по незнанию трепанул. А вот революционный кружок организовал на заводе ты, отец. Это верно!
– Неверно. Кружок создал мой брат, покойный Евграф, вместе с Федосовым. А я всего лишь связной, – сказал отец. – Хотя что ж, это не так уж мало для тех времен. За это шли на каторгу и виселицу… Все былое быльем поросло.
Ночью Мишка исчез. Отца дома не было, Любовь металась как угорелая, братья сбились с ног, бегая по знакомым.
Милиция задержала Мишку в Астрахани, в древнем соборе, с колокольни которого когда-то Степан Разин сбросил воеводу. Мальчишка упорно разыскивал древнюю старуху, якобы современницу атамана. Долго не могли выяснить, кто он и откуда. Каждый день рассказывал новый вариант своей биографии: то он из Перми, то из Владивостока, а один раз назвал своей родиной Афганистан.
Никогда, видно, Любовь не простит себе одной своей жестокой оплошности: когда сын очутился в местном отделении милиции, отказываясь идти домой, она сначала уговаривала его, а потом со свойственной ей горячностью ремнем связала руки за спиной, силой повела по улице. Пока дошли до дома, он в кровь искусал толстые свои губы. Долго смотрел на рубцы – отпечатки ремня, потом тихо сказал:
– Свобода для человека – самое дорогое. Если кто попробует отнять ее у меня, – не выйдет.
«Где те замечательные времена, когда я был чудным мальчишкой, которого нужно было водить домой на веревке?» – вопрошал в последнем письме сын. Дальше шли такие пылкие излияния в любви к матери, отцу, братьям, что всем становилось хорошо и… немного неловко.
– Не смеется ли парень-то? – в раздумье сказала Любовь.
Денис опроверг ее подозрения:
– От души бормочет. Не злопамятный.
Любопытство к Михаилу возрастало с каждым днем. Его ждали домой с нетерпением.
X
За время пути от Москвы до родного города в душном, переполненном вагоне Михаил укрепился в своем мрачноватом намерении жить по-новому. Верилось, что навсегда осталась позади прежняя жизнь. Много в ней было личной свободы, которой он бестолково пользовался во вред себе, а еще больше было неоправданных надежд. Теперь с этим покончено! Заживет без слепых дерзаний, покладисто и размеренно. Михаил был доволен, что никто из родных не встретил его на вокзале. Ящики с книгами, чемодан и сундук с инструментами сдал в камеру хранения, шинель скатал по-солдатски и хомутом надел через голову на левое плечо. Горячий полдень жег спину, пыльный рыжий воздух окатывал лицо, а Михаил споро шел по солнечной стороне. Приятен был пот, градом катившийся со лба.
«Посмотрю, чего тут понастроили в мое отсутствие», – задиристо подумал Михаил. Стремясь глубже проникнуться духом родного города, принять его в сердце таким, каков он теперь есть, Михаил купил свежий номер местной газеты.
Стихи его знакомого Анатолия Волгаря, как петушиный крик на рассвете, вдруг разбудили Михаила, и он понял: вернулся к тому, от чего бежал много лет назад, – к провинции мысли, нравов, чувств, вкусов. Как и много лет назад, Волгарь (он же Иванов) слагал песнопения все о том же: Волга-матушка, Жигули кудрявые, наливные яблоки, стерлядь. Но появились и новые мотивы: огнедышащие мартены, жирная кровь земли – нефть, истошный призыв к борьбе с засухой, которую поэт называл «багрово раскаленным языком пустыни».
В отделе объявлений крупными буквами сообщалось, что путешествующая по Волге бригада московских поэтов во главе с певцом халхин-голских героев Игорем Дежневым проездом остановилась в городе и только один раз выступит в Парке культуры.
«Правильно решили выступить один раз, не рискуя долго испытывать терпение публики», – одобрил поэтическую бригаду Михаил. Он представил себе Иванова: спесиво надувая смуглые щеки, будет читать москвичам свои стихи, а столичные, снисходительно похвалив, отметят зависимость его разудалых ритмов от частушечного перепляса молодых модных поэтов: «Я девчонка молодая, боевая, резвая!»
У Волгаря и его учителей герои раскрываются лишь во время цветения фруктовых деревьев, отела коров или стихийного бедствия, вроде градобоя, пожара, урагана, наводнения. Одна поэтическая провинция подражает другой провинции.
«Любопытно, что скажет Юрий, человек зрелых чувств, аналитического ума, поклонник Маяковского и Уитмена, Бетховена и Мусоргского, прочитав эту коровью поэзию несчастных случаев, – подумал Михаил и неожиданно для себя решил: – Жить тут не буду! Повидаюсь с родными и уеду… На Колыме еще не был».
Но вот старый город с банным духом накаленных камней остался позади. Михаил поднялся на высокую приволжскую гору. Как и много лет назад, в этот предвечерний час по аллеям, среди цветов, проминались люди сидячих профессий, любители пейзажей щелкали фотоаппаратами, а у толстого ствола липы притаился лохматый художник с мольбертом, чтобы во всех подробностях воспроизвести Богатырь-гору, за которой некогда стояли струги Разина. К реке сбегала коленчатая лестница, знаменитая своими двумя тысячами ступенек. Каждый новый председатель городского Совета покушался заменить лестницу фуникулером, но заканчивал свою деятельность тем, что старые дубовые стояки заменял осиновыми.
Отсюда, с горы, внезапно во всю ширь и даль открывалась Волга с лугами, лесами на островах, а за ней в неоглядной синеве терялась бескрайняя степь. Река искристо переливалась на солнце, покачивая на волнах катера и лодки. Внизу, под горой, сверкали крыши заводов, плечистые и широкогрудые высились элеваторы, портальные краны переносили с берега на суда тракторы и машины. Волга, обросшая трубами заводов, судов, жила играючи, весело, и казалось, что нет ей никакого дела до того, в какой разряд земных рек внесли ее поэты, местные и проезжие.
Михаил сдвинул на затылок пилотку, ринулся вниз по лестнице, скользя ладонью по перилам, до блеска отшлифованным. Плотные запахи цветов, волглой затененной земли, травы, клубники устойчиво держались в зеленеющей непролази садов. Родниковым холодком несло со дна каменистого оврага. Гулкий утиный кряк оглашал изумрудное озерко, над которым нависла косматая ива. И чем ближе подходил Михаил к Волге, тем глубже, будто засыпая, забывал самого себя, со всеми своими путаными настроениями, бодливым желанием кого-то подковырнуть, над кем-то посмеяться. Ноги сами собой переступали по ступенькам, а глаза отмечали то спину обогнавшего рабочего, то покачивание бедер и мелькание смуглых ног молодой женщины, то раскрасневшиеся лица парней и девушек, поднимавшихся снизу.
Когда же подошел к берегу, закиданному шлифованной галькой, и присел на бревно, Волга так глянула в его глаза, что поверилось, будто и не расставался с нею. Запахи масла, краски, железа, рыбы, лука, сладковатый дух размокшей сосны в плотах, басовитые гудки пароходов, скрежетание землечерпалки, таскавшей ковшами со дна реки зеленоватый ил, урчание катеров; все цвета, от нежно-голубого до фиолетовой парчи мазутного пятна на воде, белобокое сияние теплоходов, говор людей, горячее взвизгивание торопливой татарской гармошки в кругу крючников, протяжная, медлительная, как река, русская песня, смех и возгласы – вся эта яркая, сильная и веселая жизнь втянула в себя Михаила, сделала его неотъемлемо своим.
По всему берегу, от ажурного железнодорожного сизого моста до далекой трубы хлебозавода, притерлись баржи и суда к дебаркадерам, когтистыми якорями вцепившимся в землю. Бесконечные текли конвейерные полотна с цементом, кирпичом, солью, бочками с рыбой, запасными частями машин. Мощная береговая фабрика, облитая солнцем, жила напряженно, весело и целесообразно.
Хорошо вот так, вернувшись с войны, сидеть на бревне, опустив босые потные ноги в воду, ни о чем не думая, как вон тот мальчишка в трусиках, закинувший удочку с плота.
Шумя, посмеиваясь косыми скулами, волна покачивала бревно, солнечные блики метались, на мгновение засматривая лукаво в глаза, а влажный ветер дружески, точно обнюхивая, щупал мохнатой лапой лицо и шею. Ярко догорал субботний день.
Михаил подошел к парому, встал в очередь вместе с большой группой рабочих – с детства знакомые худощавые, мускулистые люди с пристальным и прямым взглядом, независимой, свободной осанкой.
На паром медленно, сотрясая кругляши и доски настила, пошли грузовые машины со станками, резиновыми покрышками, с корзинами, полными огурцов. Охотники и рыбаки ехали вверх, за город, на полуторках, мотоциклах, лошадях, шли пешком. А Михаил стоял, облокотившись о перила, и все смотрел и смотрел бездумно на поток людей, на кудрявые воронки и пену.
– Спокойнее, девочка! – прикрикнул на лопоухую собаку маленький охотник с облупившимся красным носом.
И этого унес людской поток на паром.
– Дуняша, соль-то захватила? – громко и таким домашним тоном спрашивала пожилая женщина, точно она была у себя на кухне.
Узкоглазая чувашка с тугими румяными щеками ответила, неся на плече корзинку:
– Взяла.
И эти уплыли. Высокий, улыбающийся щербатым ртом рыбак в ватной куртке, распахнутой на потной загорелой груди, сказал весело, проходя мимо:
– А пожалуй, Федяшка, в аккурат к клеву подгребем.
– А то нет! Знамо, подгребем! – подхватил здоровый парень, поднявший над головой целый лес удилищ.
И этих унесло. Люди все шли и шли, и каждый, теряясь в толпе на пароме, оставлял в душе Михаила радостное впечатление неумолкающей жизни. Он последним вошел на паром. Как всегда это бывает на Волге, среди пассажиров оказались гармонисты и плясуны. И хотя тесно было на палубе, для плясунов нашлось место, и они плясали, пока паром, швартуясь к пристани, не встряхнул их на своей груди.
За дубами бронзой отливали рубленые сосновые стены родного дома, зеленела пятискатная крыша, а на шпиле ершисто ощетинилась проволокой метелка антенны.
Михаил перевел дух, погладил грудь, успокаивая сердце, не без робости открыл решетчатую с навесом калитку. Двери сеней примкнуты на цепочку. Снял через голову хомутину шинели, присел на скамеечку перед клумбой цветов. Закурил трубку, утвердив локти на коленях.
Давний, нерушимо строгий порядок отцовского дома чувствовал он в каждой мелочи: от крыльца до калитки текла песчаная дорожка с белыми камнями по краям, в гору от глухой стены дома поднимались дубы, а к Волге ниспадал густой обработанный сад. Курилась за вишняком баня, за ней играла река; пресное, освежающее дыхание ее докатывалось и сюда. Берег кинул тень мазутной черноты, и вода глядела из-за деревьев бездонным магическим зрачком. На далеком изумрудном займище рубили леса, расчищая дно будущего моря. Теряя свои зеленые кудри, грустно, старчески лысели желтые бугры островов. У серебряных чаш луговых озер дыбились рыжие костры рыбаков, линяющая пустошь небес всасывала голубые стояки дыма. Значит, в газетах не зря писали, что будут строить на Волге плотину. Если, конечно, не помешает война.
Михаил не вскочил, когда увидел меж кривоногих яблонь женщину с ребенком на плече; медленно шла она по извилистой тропе, и белый платок ее и кумачовая рубаха ребенка то исчезали за кустами, то снова появлялись все ближе и ближе к дому.
Михаил не сразу признал в круглоликой женщине жену своего покойного брата. Отрывисто всхлипнула Светлана, когда он обнял ее налитые плечи. Мальчишка надул губы, стукнул дядю кулаком по голове.
– Да это ж настоящий Костя! – воскликнул Михаил.
Невестка смахнула с ресниц слезы. Присев на скамейку, купая пальцы в светлых кудрях сына, стала рассказывать о своих детях так напористо, будто Михаил не верил, какие они хорошие и здоровые. Все ждут Михаила, блудного молодого человека, пусть он приготовится к головомойке. Сейчас мать и отец, Федька и Женька на рыбалке, Ленка, наверное, в школе, а Саня и Юра скоро вернутся – один с завода, другой из горкома.
Уложили Коську в плетенную из белотала качалку. На удивленный вопрос Михаила, почему мальчик так покорно лег и быстро заснул, Светлана ответила:
– Александр приучил… Вообще Саша все держит в руках. – И, улыбаясь, пригрозила: – Он и до вас руки протянет!
– Меня он, кажется, любит.
– Он всеми командует любя. Этак вполголоса. – И Светлана, приподняв левую бровь, подражая Александру, сказала баритоном: – «Ага, явился, милый братец!»
– А Юрка тоже слушается Саньку?
– Юрий не из таких, чтобы гладили его. Да и дома-то он только ночует. Оба вы с Юрием непутевые… не женитесь.
На веранде, обвитой корявыми дланями заматерелого виноградника, Светлана собрала деверю закусить, подсела к столу, загорелой до запястья рукой подперла щеку, покрытую, как персик, золотым пушком. Приветливо улыбались ее круглые карие глаза с маленькими бусинками зрачков, и было в этой доброй бабьей улыбке что-то такое, что смущало Михаила.
– У него тоже, когда он ел, уши немного двигались, – сказала Светлана. – Чем-то вы похожи на Костю… Да, о вас слава тут ходит, что вы опасный человек. Это правда?
– Я опасен лишь для самого себя.
Солнце потухло на ее щеках, скрылось за дубовой рощей, гаснущие отблески недолго калили докрасна оконце в бане, а потом сразу наступили сумерки. На веранде особенно густо темнел теплый воздух.
– Я тоже сейчас думал о нем, – сказал Михаил.
– Думал? А я никогда не перестану думать… о нем и о себе… Двое детей! А ведь я еще не старуха… Что делать? Ты брат мне, умный парень, подскажи, – покорно-просяще тосковал ее голос в мягком вечернем полумраке. И казалось Михаилу, говорит не эта женщина, а кто-то маленький застрял в кустах сирени и тихо и печально жалуется на свою сиротскую судьбину.
– Ну что я могу сказать тебе, милая Света? Беду нелегко со стороны рассудить, а когда она самого тебя ошарашит, тут уж никакие слова не помогут. И все-таки надо жить, терпеть, ведь не может же быть, чтобы смерть самого родного навсегда контузила живых! Тяжело, а жить надо.
– Я понимаю. Горько, милый мой, очень горько. Но я живу, работаю, детей воспитываю. А его нет и не будет. Страшно привыкнуть к этому! Забываться начала, а как приехал Федя да вот ты, так асе и кинулось в память…