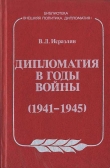Текст книги "Истоки. Книга первая"
Автор книги: Григорий Коновалов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Теперь ни жалобы, ни упрека не слышалось в ее смирившемся с несчастьем голосе. Сумерки до неузнаваемости стушевали лицо женщины. Слушая ее, Михаил покорно отдавался воспоминаниям детства, видя его в том грустном свете, который вдруг среди радости и дела вспыхивает в душе человека, когда он обнаруживает у себя первый испорченный зуб, седой волос на висках.
«Не Костя, так другой, может быть я, должен был умереть, и какая-то женщина должна остаться вдовой, а дети сиротами. Такова жизнь, и такой еще долго будет она… За наш век не расхлебаешь ни горя, ни страданий», – думал Михаил.
– В баню сейчас пойдете или отца будете ждать? – спросила Светлана и, не получив ответа, вздохнула: – Костя любил мыться в первом пару.
Заботливо собрала Светлана мужское белье и даже на крылечко вышла проводить деверя: радовала забота о мужчине.
Впервые за несколько лет Михаил пошел босиком по заросшей муравой тропе, ощущая ногами холодные брызги вечерней росы. И казалось ему, что каким-то чудом перенесся он в ту пору жизни, когда не было (или он забыл о них) ни сомнений, ни обидных оплошностей.
Дальнейшее произошло как-то внезапно. Все слилось в одно потрясшее его впечатление: встали перед глазами две кривые яблони, и за ними он увидел рыбаков у берега, на Волге загудела самоходка, и в то же время роса сильно обрызгала ноги, и в душе его что-то всколыхнулось. Со всех ног бросился он к рыбакам, глаза разбегались, отыскивая мать. Среди десятка мужчин были три женщины, их лиц он не видел. Но по тому, как защемило сердце при взгляде на маленькую женщину в брезентовой тужурке, в черном платке на голове, он понял: это мать. Во что бы ни была одета она, он все равно узнал бы ее по особенной манере держать голову. Прижал к груди седую голову, целовал лицо, пахнувшее рыбой и тем особенным запахом матери, который навсегда остался в памяти. Рыбаки расступились, и за ними стоял отец, широкоплечий, ладный, держа в руках осетра. Бросив осетра в общую кучу рыбы на брезенте, отец стал торопливо снимать пиджак, измазанный песком и чешуей, но, выпростав только одну руку, шагнул к сыну, обнял его, прикрыв голову пиджаком.
– Хорошо, спасибо, милой. Любава, вот он, гляди! – Отец взбодрил усы, и сухощавое лицо его с туго натянутой кожей на мослаках вдруг обмякло, глаза заморгали.
Прыжками подбежал молодец в тельняшке.
– Мишка!
– А, Федька!
Посматривая то на парней-молодцов, то на товарищей, обняв жену, Денис ронял густым баритоном:
– Орлы! Крупновых много, всех их никакая сила не истребит. Очень хорошо! Ну, товарищи, делите сами осетра, а мы домой. Ясаков, командуй!
Пожимая толстыми плечами, Макар Ясаков сказал:
– Делить его нечего: угощай ребятишек!
– Верно, Степаныч, бери осетра.
Михаил шел рядом с матерью, заглядывая в лицо ее.
– Мамака, ты не хвораешь?
– Жива-здорова. Зимой прихворнула, это когда от тебя и Саньки писем долго не было… Был у нас в гостях Костин товарищ, говорил… – Плечи матери опустились, обветренные губы морщила горькая улыбка.
У тропинки, обняв яблоню, плакала Светлана.
XI
Во дворе на летней печке мать и невестка готовили ужин, отец колдовал с вином в погребе, а Михаил и Женя, одетые по-праздничному, расставляли на веранде стулья. Федор, как заправский корабельный кок, накрывал на стол, проворно бегал то в дом, то в сад к печке, то на погреб, подметая широким клешем землю, носил тарелки, графины. Женя заглядывал в лицо Михаила, доверительно рассказывал:
– Мама-то молодая, хочет жениться, а я не против. Он хороший, папин приятель, лейтенант. – Женя умолкал, а потом снова продолжал: – Конечно, если вы навсегда приехали домой, то я никуда не поеду. Будем жить в светелке.
К ногам Михаила упал алый цветок, из-за листьев виноградника смотрели на него отчаянные глаза. Потом они вдруг исчезли, точно ветром распахнуло парусину на дверях, и на веранду влетело светлое существо в полосатой майке, короткой юбочке и тапочках на босу ногу.
– Разрешите с вами познакомиться, Михаил Денисович. – Девушка поклонилась, коснувшись рукой земли. – Лена Крупнова!
– Ленка? Это ты такая… такая. А?
– Длинная, да? – Она встала рядом с братом. – Господи, выше тебя! Ну зачем я такая, верста столбовая?!
– Ты красавица! Вылитая мама, только ростом в отца.
– О брат мой, я представляла тебя совсем иным! Но все равно буду любить…
Лена прижалась щекой к его лицу. Желтые волосы, загорелое тонкое лицо пахли летним зноем, цветами.
Женя поначалу снисходительно смотрел на эту сцену, а потом, взвизгивая, обнял дядю и Лену.
А Лена расспрашивала Михаила о Москве, сама горячо и сбивчиво рассказывала о подругах, о пляже, о каком-то кабинете в саду, который приготовила она «для творческой работы Михаила».
– Я тебе дам целую сотню сюжетов. Только пиши!
Юрий и Александр пришли вместе, сияя розовыми после бани лицами, Александр молча, сердечно пожал руку Михаила.
– Вот это пополнение в крупновскую гвардию! – Юрий снял со своей шеи полотенце, накинул его на шею Михаила, притянул к себе, прижавшись горбатым носом к носу брата, как это делал давно, в детстве. – Ну, как нашел крупновский корень?
– Потом, потом расскажу, Егор.
– Вот и дождались мы с матерью, – сказал Денис. – Налетай, ребята, на закуску, пока подешевела!
Мать, Лена, Светлана и Женя угощали Михаила наперебой, лаская его глазами. И он устыдился своего прежнего безразличного отношения к родным. Сейчас произошло с ним то же самое, что случилось в детстве, когда он, неудачно ныряя в реку, глохнул от попавшей в ухо воды, а потом прыгал на берегу на одной ноге, склонив голову набок, и вода вытекала из уха, и вдруг начинал слышать лучше прежнего. Теперь внутренние пластинки, мешавшие ясно видеть и слышать, отодвинулись. И бессвязные ласковые слова, улыбающийся белозубый рот Ленки, руки матери, гладившие его руку, счастливая удовлетворенная улыбка отца из-под усов, веселые братья – все вдруг показало ему, что его любят таким, каков он есть, – дурным, несуразным. Окинув взглядом стол, уставленный свежей и вяленой рыбой, мочеными яблоками, ягодами и луком, он невольно сравнивал свою неустроенную жизнь с жизнью в отцовском доме. Да, тут все лучше, все добыто своими руками, чистое, свежее, пахнущее соками родной земли, возделанной трудом многих поколений. И теперь казалось ему, что стоит поселиться под крылом отца, поступить на завод, зажить суровой и правдивой жизнью труженика, как уже никакие ошибки с ним не случатся. Жизнь отца, матери, братьев представилась ему теперь не обособленной, а продолжением бесконечной жизни бесконечного множества разнообразных людей, и еще он подумал, что люди эти близки и нужны ему, потому что он крепко связан с ними не только родством крови, но и еще чем-то более сильным и глубоким. И свое прежнее он не принимал больше только за ошибку: то была жизнь со всеми ее сложностями и противоречиями. И никогда от прожитого не уйдешь, да и уходить не надо. И новую жизнь не начнешь без прошлого, хотя было в этом прошлом и постыдное.
– Мама, батя, братцы! – пьянея от вина и возбуждения, кричал Михаил. – Никакая сила не вытащит теперь меня из дому. Только вы не гоните меня. Не погоните? Я не хочу, чтобы меня отпускали.
– Ну что ты говоришь, сынок? – сокрушенно вздохнула мать, боясь, что сынок опять начнет опасно чудить. – Все для вас, живите дружно. Женитесь, детей растите.
– Я виноват во всем. Если бы вы знали, сколько за мной грехов накопилось!
– Да ну? – весело удивился отец.
– Да, много ржавчины. Вон Саня знает все.
– Хватит тебе исповедоваться-то, – твердо отрезал Саша. – Искупаешься в Волге, она смоет всю окалину.
В садике зазвенел девичий смех, какая-то кокетливая поманила:
– Море, выдь на минутку из берегов!
Федор ушел, белея в темноте мичманской фуражкой. Следом ушла Лена. Светлана, смочив духами свою белую шею, торопливо сбежала по ступенькам в сад, будто опасаясь, что ее задержат.
Денис опустил пониже пампу с голубым абажуром, откинулся в плетеном ивовом кресле.
– Не устал с дороги? Ну, тогда расскажи, сынок, как воевал.
– По-всякому, отец, воевали. Да я уж и забыл. Как увидел Волгу, попал в дом родной – прошлое отодвинулось далеко. Саша-то разве не рассказывал?
– Саня еще не разговорился, что-нибудь через год скажет. Он привез кусочек брони от нашего разбитого танка.
– И еще головку бронебойного снаряда неприятеля, – сказал Юрий. – Снаряд немецких заводов. Хорошая сталь! Хейтели делали для финнов снаряды. – Юрий склонился к уху Михаила, закончил шепотом: – Костю убила тоже хейтелевская пуля. Чуешь, какие узлы, какой еще не решенный спор!
Лежавший на пороге веранды Добряк вскочил и стариковским махом охранителя крупновской семьи метнулся во двор по частоколу светотеней.
Вошел в белом кителе Савва. На минуту Михаил почти исчез в его широких объятиях. От рук и груди Саввы пахнуло железом и мазутом.
– Значит, по-всякому воевали? – заговорил Савва. – Ну, ну, расскажи. Послушаем. Нас это касается, – он налил рюмку коньяку, кивнул раздвоенным подбородком, выпил. – Говори, Михайло!
Но мысли Михаила уже лихорадочно работали над тем, что сказал ему Юрий: о злой роли Хейтелей, бывших хозяев здешнего завода, в судьбе Крупновых. Рождение в тюрьме, каторга отца, смерть Кости, боец с отрезанными ногами, гибель молодых парней у дотов – все вязалось в одну тяжелую железную цепь.
– Ей-богу, моя информация субъективная, – сказал Михаил.
– Объективное-то нам малость ведомо. Ты выкладывай просто, от души. Разберемся, – подзадорил Савва. – Старикашка полковник Агафон Иванович Холодов уже просветил нас насчет стратегического значения нашей победы. Восторгался боевыми успехами нашей подшефной Волжской дивизии.
Имя Холодова разбередило в душе Михаила боль, пережитые унижения перед Верой, сознание своего позора.
– Сначала воевали плохо, мешал излишний энтузиазм. Целыми батальонами ходили в атаку на доты. Много погибало… Может, это только на нашем участке – я не знаю, я рядовой. И по должности и по характеру рядовой.
– Разве у вас не было артиллерии? – возмутился Савва.
– Пушки были, а инициаторов атаковать еще больше было. Лежат в цепи, и вот, не дожидаясь приказа командира, какой-нибудь энтузиаст, вроде меня, вскакивает и орет: «Ура! За Родину! За мной!» Все встают и бегут. Нельзя же отставать, когда за Родину побежали! – с затаенной внутренней болью сказал Михаил.
– Где же командиры были? К чему такой произвол? – спросил отец строго.
– Считалось непатриотичным сдерживать горячих. А они дезорганизовали управление войсками. К тому же ни одна армия в мире не встречалась с такими мощными укреплениями среди лесов, скал, валунов, озер, в суровые морозы и метели. Недаром о Западном фронте на время все как бы забыли. Внимание приковал Карельский перешеек. Там испытывалось искусство немецких, английских, французских и американских инженеров, построивших линию Маннергейма. На первых порах не ладилось, а потом приехал Валдаев, и дело пошло.
– Валдаев – видный красный полководец, – сказал отец.
– О нем даже песни поют, – добавил Юрий.
– Начинай, я подтяну. Мне не привыкать петь с чужого голоса.
– Ого, да ты, Михайло, оказывается, не прежний теленок, – сказал Савва.
Непривычная взвинченность Михаила насторожила Любовь. Положив руку на плечо сына, она сказала:
– Ты очень впечатлительный.
– Да мне что, мама! Если хотите знать – нет худа без добра. Хорошо, что хейтели испытали нас огнем и железом в малой войне.
– Уберем со стола и займемся делом. Хочу поделиться с вами кое-какими мыслями о своей работе, – сказал Юрий.
Михаил встал, не глядя на родителей, хотел уйти, но отец удержал его за руку.
– От своих у нас секретов нет.
– Тем более от солдата, – подхватил Савва. – Да, кстати, почему ты беспартийный, Миша?
– Не дорос. Не вижу пользы от себя для партии. Малодушен. О таких говорят: видно ворону по полету, а добра молодца – по соплям.
Дядя, отец и Юрий придвинулись к столу, сблизив рыжие головы, Михаил сел подле матери, вязавшей шаль. Покуривая трубку, отец поглядывал на Михаила с улыбкой. Ничего интересного для себя Михаил не ждал от этих «деловых, партийных» разговоров. Всегда и всюду, казалось ему, говорили одно и то же: недостатки, промахи, исправить, поднять. И так без выпряжки, без передыха много лет. В конце концов все может надоесть, даже героическое. Ковыряясь ногтями в своих обмякших после бани мозолях на широкой короткой ладони, он исподлобья глядел на Юрия. Тот говорил медленно, очевидно сдерживая внутреннее волнение, ноздри раздувались, темнели голубые глаза. И постепенно открывалась Михаилу неведомая ему жизнь и работа родных людей…
Когда-то Юрий думал, что не сумеет сработаться с Тихоном Солнцевым в промышленном отделе горкома партии. Так оно и получилось. Солнцев грозил снять с него стружку, если плохо поведет дело. Уж что другое, а стружку снимать он умеет. Скольким поломал жизнь! Юрий не то что боялся, а как бы опасливо присматривался к Солнцеву. Добрый от природы, но огрубевший и ожесточившийся в жизни, Тихон лихорадочно изменчив в своих отношениях с людьми: то безжалостно суров, то напоминает порой предшественника Саввы на заводе: как стена резиновая, хоть головой бейся об нее – не прошибешь и не зашибешься.
«А что делал я, когда с Юрки стружку снимали? – подумал Михаил. – Кажется, спорил с критиком о том, почему одни ворчливо поучают, другие выслушивают их грубость. Ага… значит, брат хотел, чтобы с него требовали».
– Сначала Солнцев заявил: «Я тебя, парень, выпускаю на оперативный простор. Вторгайся в жизнь заводов, изучай, вноси предложения на бюро. Ты инженер, тебе на рычагах держать руки». Я поверил. Две недели не вылезал из цехов шарикоподшипникового. Вместе с парторгом и директором подготовили материалы на бюро горкома. Завод нуждался в срочной помощи. «Хорошо, изучу ваш документ», – сказал Тихон Тарасович. И до сих пор изучает. Стыдно после этого встречаться с рабочими «шарика». Нашему комбинату позарез нужны кирпичи, цемент. Что ж сделал Солнцев? Нажал на рычаг, и материалы потекли на строительную площадку для Театра музыкальной комедии. Тут-то мы и сшиблись с Тихоном… Сдался, но потянул стройматериалы для театра с других объектов. А эта новая, недостроенная парадная лестница к Волге! Сколько всадили в нее бетона, металла! Страсть как хочется Солнцеву, чтобы в городе – у него! – была самая красивая на Волге лестница. Вот, мол, какой в этом городе руководитель! Бьет на внешние эффекты, фасадом любит ослепить. Недаром он заводские районы до сих пор называет окраинами. Львиную долю средств расходует на благоустройство центра города. И нелегко расстается Тихон с тем, что ему по душе. Каждый день ездит на строительство промышленной выставки, все просит, чтобы арочки были повоздушнее. Втридорога встанет нам эта преждевременная затея. И поди ж ты, убедил вышестоящих товарищей, что выставка нужна именно сейчас! Один раз удалось сломить его, поехали на станкостроительный. Но дальше заводских ворот не двинулся: лужа помешала. Остановил машину среди лужи, пальцем поманил директора. Тот подошел прямо по луже. Минут двадцать читал ему Тихон нотацию. «Не приеду к тебе, пока дорогу не наладишь». Лужу ликвидировали, но Тихон забыл о заводе. А как рабочие ждали! Я в их глазах трепачом оказался. А сколько жалоб заказчиков на ваши заводы по месяцу лежит под сукном! И соседям не любит помогать, боится, как бы не обогнали наш город. Вот вам и оперативный простор! К черту, на холостых оборотах я работать не привык! Временами порывался уйти на завод, встать к мартену. Но это значило бы умыть руки, закрыть глаза, пойти на сделку с совестью. А посмотрели бы вы, как проходят заседания бюро! Трехчасовые речи «хозяина», длинные решения, похожие одно на другое, как близнецы. И что удивительно: старик минуты не сидит без дела. Приходит в горком чуть ли не раньше уборщиц, остается до глубокой ночи, а то в пионерских лагерях, у костра, держит речь с красным галстуком на шее; в пригородном плодово-ягодном совхозе дегустирует вина. Часами беседует там, а принять изобретателей, рационализаторов времени не находит.
Создалось ненормальное положение: инженеры, парторги, рабочие идут теперь, минуя секретаря, в промышленный отдел. Солнцев возмутился, обвинил работников отдела в подмене власти и все, до мелочей, прибрал к своим рукам. Без согласования с ним горсовет даже комнаты не может дать кому-нибудь. Нет недостатка в красивых словах о творческой инициативе, о человеке, на деле же пугает и мнет, и временами кажется, что сам уж не осознает этого. Он опасен тем, что, пережив себя и свое время, не уходит на покой, проникся подозрением к товарищам. А сейчас нужно решительно восстанавливать и укреплять доверие между людьми.
Савва заметил с усмешкой, что-де у многих из нас есть кое-что похожее на Тихона Солнцева, ибо мы – сыны времени сложного и великого.
– Поговорим потом и о тех, кто чувствует себя родственным Тихону Тарасовичу, – сказал Юрий. – На днях схватились с ним почти насмерть: не советуясь с нашим отделом, он стал назначать на стройки и заводы работников по своему усмотрению. Пригляди, Савва Степанович, за своим начальником строительства, этаким пожилым красавцем. Как бы не подвел тебя. Есть у меня такое подозрение, что на руку нечист.
– Я умею бить по рукам, – бросил Савва.
Не все понимал Михаил, что скрывается за словами «местничество», «однобокий генеральный план города», «дачные настроения» товарища Солнцева. Но одно чувствовал: устарел этот человек и, кажется, нужно ему помочь уйти на покой. Он видел, что между братом и Солнцевым идет упорная борьба и миром эта борьба кончиться не может. Борьба эта обострилась из-за каких-то кредитов распределения средств не по назначению.
Когда Юрий говорил об этом, отец как-то особенно пристально посмотрел на Савву. Дядя опустил ястребиные глаза. Юрий сказал, что обо всех обстоятельствах дела он уж написал в ЦК. Мать встревожилась: только бы, боже упаси, он не примешал сюда Юлю! Юрий коротко ответил: с ней все покончено. Она захлебывается счастьем с Мишкиным приятелем, Толькой Ивановым. Еще бы! Человек энциклопедического дарования, этот Иванов.
Как бывало в детстве, Юрий и Михаил легли спать в саду, в беседке, постелив тюфяки рядом. Долго разговаривали, перемешивая воспоминания о прошлом с тем, чем жили и о чем думали сейчас.
Очевидно, Юрий все-таки не вырвал из сердца Юлию Солнцеву, мучился и уже этим одним был близок и дорог Михаилу.
– Миша, тебе непременно надо побывать на литературном четверге. Там бывает Юля.
«Он хочет, чтобы я познакомился с Юлией. Пойду», – подумал Михаил, прислушиваясь к невнятному, тяжелому бормотанию вечно работающей Волги.
XII
Михаил был доволен тем, что сделал первый шаг к новой жизни – поступил контролером-мотористом на главный конвейер. Тут собирали гусеничные тракторы, а он вместе с другими мотористами испытывал работу моторов на стенде. Однажды, оглохнув от рычания моторов, он вернулся домой, сел в беседке и залюбовался Волгой.
После недавнего ураганного ливня установились тихие дни. Спокойствием своим Волга напоминала едва колышущееся бархатное полотно. Но вот, сверкая стеклами, прошел щеголеватый теплоход, побежали косые волны, и снова отливает золотом проутюженная текучая гладь, выпрямляются отражения деревьев и домов. Такой же вот покой овладевал и сердцем Михаила, хотя все еще не выветрился из ушей шум моторов.
Подошла Лена в белом фартуке, села на перила.
– Почему тебе никто не пишет? – опросила она, тепля улыбку в уголках рта. – Странно! Прожить столько лет и не иметь друзей… – Умолкла, заметив, как потемнело рябое лицо брата.
– Избаловали тебя, Лена! – Михаил сам удивился своему скрипучему голосу.
– Видно, судьба моя – слушать нотации. Эх, братка, и ты такой же моралист, как уважаемый Александр Денисович!
– Александра не тронь! Мы с тобой в подметки ему не годимся.
– Не слишком ли дорогой товар для обуви? Не сердись. У меня что-то есть для тебя. – Лена прижала ладони к груди. – Угадаешь – отдам.
– Письмо.
– Ну как это ты сразу угадываешь? Нехорошо! А знаешь, письмо от Веры Заплесковой.
«Аккуратная: пригрозилась еще письменно разжевать, почему я плохой, и исполнила угрозу. Но я увернусь от этого булыжника, брошенного вдогонку», – подумал Михаил.
– Читать не буду, – сказал он.
– О, братушка! Ты начинаешь мне нравиться. Мне было обидно за тебя. – Лена извлекла двумя пальцами зеленый конверт из-за пазухи, долго всматривалась в почерк. – Эта твоя Вера плохая, холодная. Так пишут только крохоборы: каждая буква выписана, вылизана… Может быть, все-таки прочитаем?
– Нет.
– Сжечь?
– Жги. – И Михаил чиркнул спичкой.
Лена несколько раз подносила письмо к пламени и тут же отдергивала.
– Не могу, Миша. Отдай мне письмо, а?
– Если хочешь научиться жестокости, бери!
Лена выхватила из его рук спички, присела на корточки. Письмо горело нехотя, листочки кудрявились, пепел вился над головой Лены. Михаил покуривал трубку, скосив глаза на бледное лицо сестры.
– Плохая она или очень хорошая и красивая, но отныне я ее враг на всю жизнь! А если ты смалодушничаешь, напишешь ей, я перестану уважать тебя. – Лена растоптала ногой осевшие на пол хлопья пепла и, не взглянув на брата, вышла из беседки.
У яблони остановилась, одной рукой держась за ствол, другую положив на темя. Михаил смотрел на ее острый детский локоть, и ему было стыдно от колкого разговора с ней, от глупой показной твердости при сжигании письма. Вдруг сестра повернулась к нему, и в этом порывистом движении почуялось ему что-то недоброе.
– Дикарь! Комик! – крикнула она и убежала, не оглянувшись.
Поднялась в светелку к Александру.
– Какие мы гадкие люди, Саша! Он-то зол, ну, а я, дура, что сделала, а? Ужасно подло. – Лена рассказала, как сожгла письмо.
– А письмо от кого, говоришь ты?
– От этой самой Веры…
– Вера? – спросил Александр, и Лене показалось, что губы его озябли, шевелились непослушно.
– Саша! Тебе-то что? А-а-а… Я хочу ее видеть, Саша. Я никому не позволю унижать моих братьев…
– Лена, ты преувеличиваешь. Иди готовь обед. А Веру… познакомишься с ней – полюбишь.
– Я поклялась ненавидеть ее, – ответила Лена, уходя из светелки.
К Михаилу подошел Федор с лопатой и гармошкой, напевая вполголоса:
И садились на песочек, на желтый песок…
– Михайло, тебя вызывает генерал.
– Какой еще генерал?
– Сам Александр Денисович. Я уже стоял перед ним навытяжку, получил наряд: копать дренажную канаву. Товарищ генерал считает, что у меня избыток животной силы, что я могу от безделья натворить глупостей. – Федор повесил гармонь на сучок дуба, начал рыть канаву.
Из сеней, ведя за руку маленького нарядного Коську, вышла Любовь Андриановна в праздничном коричневом платье; из-под полей соломенной шляпы улыбчиво светились глаза.
– Мама, чего бы перекусить? – спросил Михаил.
– Не знаю. Я, сынок, курортная дама с сегодняшнего утра. Саша объявил: «Мама, иди в очередной отпуск, а домашними делами займется Лена». Вот и идем с Константином Константиновичем гулять… Да, ты вчера передал мне деньги, возьми их, Саня велел.
– Меня потешает, как все вы побаиваетесь Саньку. Я поставлю его на место!
Михаил поднялся по внутренней винтовой лестнице. Перед раскрытыми дверями светелки постоял с минуту, проникаясь невольным уважением к этому опрятно и строго прибранному жилищу меньшого брата. Окно наполовину завешено полотняной шторой. За столом перед чертежом сидел в трусах, спиной к дверям, Александр. Не спеша убрал он готовальню, чертеж, подвинул Михаилу стул, а сам встал у книжной полки, скрестив руки на груди.
Михаил положил на стол деньги, но Александр силой засунул их в карман брата.
– Сейчас тебе шайбы нужны, – сказал он. Лицо его озарилось кротким и теплым светом спокойных глаз.
– Милый Саня, я уже старик, ты молод. Прошу тебя, купи себе костюм на эти деньги, а?
– Нарком обороны приготовил для меня наряд получше.
– И тебе хочется?
– Воевать все равно придется. Дядя Матвей намекал. Лучше уж со знанием дела, с толком, с расстановкой.
– А я не хочу, Саша. Не люблю военную жизнь, не люблю войну. Убьют – ладно, а вот изувечат… И будет тебе жизнь в тягость. Не могу прикидываться дураком и, насилуя себя, усматривать в шагистике высшую мудрость жизни. Один случай открыл мне глаза на многое. Понимаешь, стою в строю однажды, сержант уставился на меня, и в глазах у него ужас, потом презрение, будто видит он самое последнее, падшее существо. Я черт знает что подумал, а оказалось всего-навсего незастегнутой одна пуговица гимнастерки. В общем, добровольно я не солдат.
– Разные мы люди, братка, – спокойно сказал Александр. – О главном давай поговорим. Скоро Федя и я покинем дом. Хочу знать: в семье останешься или опять уедешь?
– Есть ли толк от моего пребывания в семье?
– Пока толку маловато. Поживешь – все наладится. Итак, ты останешься со стариками, с Леночкой, Женей и Костей. Сноха вышла замуж, сегодня уедет.
– Лучше бы мне идти, чем тебе, Саша.
– У каждого свой долг, и никто его не выполнит за меня или за тебя.
«Светло и ладно в душе его. А ведь я в его годы знал такое, что рано мне было знать!» – подумал Михаил.
За ужином Александр объявил родным, что через три недели его призывают в армию. Посидел минуту и ушел в светелку.
– Не повезло Сашке: не попал на флот, – сказам Федор.
Михаила раздражало детское хвастовство мичмана. С боевитыми нотками в голосе Федор ораторствовал, блестя белозубой улыбкой:
– Моряки – цвет вооруженных сил. На корабле рядовой матрос с образованием. Морской кок равен сухопутному полковнику. – Он любовно погладил золотые шевроны на рукаве. Лена не сводила с двоюродного брата восторженного взгляда и преднамеренно не замечала Михаила.
– Вчера я отрекомендовался представителю царицы полей, Светланиному супругу: мичман флота! Так он вскочил. А ведь лейтенант.
– Железная у моряков дисциплина: один за всех, все за одного! Рабочих много на флоте, – сказал Денис.
В каждой черте крепкого загорелого липа Федора трепетала молодая рьяная сила, не знающая сомнений.
– На корабле чистота! За всю службу только один случай был, – Федор посмотрел на женщин. – Извините, тетя Люба, за вульгарность: был случай – обнаружилась единственная вошь на всю бригаду торпедных катеров.
– Где же им там завестись, – с легкой иронией сказала Любовь Андриановна, – воздух чистый, воды много.
– Так об этом случае сообщили самому адмиралу как о чрезвычайном происшествии! Насекомое не убили, а посадили в баночку, как заморское чудо, и отправили на берег для лабораторного исследования…
Федор снял китель, засучил рукава полосатой тельняшки и старательно стал вписывать новую морскую песенку в альбом Лены. За верандой вполголоса переговаривалась Лена с подругами, боясь спугнуть вдохновение моряка.
Брат и сестра ушли. Михаилу захотелось метнуться куда-нибудь, чтобы вырваться из тисков железной тоски. Ничего интересного пока не было в новом образе жизни. И меньше всего было той свободы, которую искал. Чувствовал, что братья и родители не понимают его, а если и поймут со временем, то не разделят с ним его настроений. Ушел в беседку. Над поселком сомкнулся сумрак, душный, тяжелый. Наплывали тучи, за Волгой над темной степью глухо рычал гром.
Отец принес из погреба кувшин холодного пива, мать – на деревянной тарелке воблу. Зажгли свечу. Она потрескивала, пламя испуганно металось. Денис снял пиджак со своих костлявых плеч. Мать села на ступеньки.
– Хвораешь, сынок? Глаза у тебя скучные.
– Ты всегда был немного чудной, но скучным, придавленным не был. Парень в силе, а гулять не ходишь, все что-то думаешь. Даже Федя не мог тебя поджечь, а уж на что огневой, веселый. Недоволен жизнью? – спросил отец.
Жалко было Михаилу этих старых людей, любивших его, но он не знал, о чем и как говорить с ними. А за Волгой все так же угрюмо-раздражающе гром глушил степные просторы, поджигала сухая гроза темный полог неба.
– Мне скоро тридцать лет. А что я сделал? Два раза выстрелил в шюцкоров. Эх, да стоит ли говорить! Расскажи, отец, о себе. Твоя жизнь настоящая.
– Какой же интерес у тебя к моей жизни, если ты свою считаешь пустяком? Отмахиваешься от нее, как от комаров. Ну что ж, я доволен пройденным путем. С матерью мы жили дружно. Дети здоровые, молодец к молодцу. Как не радоваться? И нам, старикам, есть уважение от народа. – Денис усмехнулся в усы, а Михаил не понял: над собой или над ним смеется отец. – За сорок пять лет я сварил тысячи тонн стали. Вон Федя хвалит корабли. А мне приятно: и моя сила, мое умение в них заключены. Для уныния у меня нет причин, если говорить в целом о жизни. А настроения всякие бывали…
– Счастливый!
– Опять хитро подвел, Михайло. Я-то, скажем, в простоте душевной считаю, что недаром калачи ел, а ты поглядишь с высокой колокольни и скажешь: ну и свин, сделал на полтину и доволен. Так, что ли?
– В моей жизни, как в пустыне: ни кустика, ни травинки.
Михаил стоял рядом с высоким отцом. Лицо мягкое, глаза беспомощно косят. У отца сильный подбородок, тугие, железные скулы, орлиный взгляд.
– Вредно иметь столько свободного времени. Я всю жизнь, как маховое колесо, крутился и не мог долго разглядывать себя. Остановлюсь, когда вот это перестанет стукать. – Денис прижал ладонь к сердцу. – Вон она, Волга, вечно работает, не останавливается для лишних раздумий. Застойная вода, наоборот, все стоит и думает, дремлет, оттого она и плесневеет. Дрянь в ней всякая заводится.
– Запутался в чем-то, споткнулся где-то. Да вам, наверное, Саша рассказывал о моей греховодной жизни.
– Что ты? Какие же особенные грехи у тебя, Миша? Пьешь? – спросила мать.
– О всех не скажу… чтобы не гордились, мол, всего знаем. Но одну беду назову: женщина. – Слово «женщина» Михаил произнес с такой шипящей злобой, что отец и мать смущенно потупились.
– А кто же их не любит! – воскликнул Денис, подмигнув жене. – Без подруги хлеб горек, не ясно солнце. Половиной зовется недаром.
Темная краска долго не отливала с испятнанного оспой лица Михаила.
– Э-эх, да нечего обо мне толковать! – Михаил пропаще махнул рукой.
Денис поймал его руку и, заглядывая в глаза, участливо спросил:
– А может быть, лучше думать о жизни других, и тогда веселее будет?
Михаил нахмурился, закусив трубку.
– Куда я иду? Впрочем, я никуда не иду, я попал в какой-то круговорот: принимаю себя не за того, кто я есть на самом деле. Часто думаю о смерти. Юрий говорит, о смерти думают больные или дураки. Я здоров, дураком назвать себя не хочется. Это сделают друзья.
– Запутался, заврался! – жестко бросил отец.
Михаил потер лоб.
– Не то я хотел сказать. Общество не ошибается, как и сама матушка-природа. Так вот, я хочу всем сердцем познать и разделить радости и горечь, правду и заблуждения нашего времени. А между тем у меня ни черта не получается… Скверно себя чувствую, временами так больно, будто бегу куда-то по гвоздям. Вот и все.