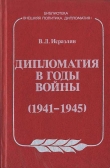Текст книги "Истоки. Книга первая"
Автор книги: Григорий Коновалов
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
II
После чая Холодовы собрались в кабинете у радиоприемника – места задушевных бесед. Стены заставлены книжными полками, туго набитыми сочинениями и мемуарами полководцев. Тут были книги, в которых если не обстоятельно, то хотя бы вскользь упоминались предки Холодовых, считавших себя потомками чингизидов. На столе статуэтка Суворова – веселый, неукрощенный бес хитрости и ума. Над старым диваном шкура тигра, лет тридцать назад убитого Агафоном в камышах Приаралья.
Семен в нижней рубахе стоял у приемника, скрестив на груди волосатые руки. По радио передавали сообщение агентства Трансоциан об успехах германских войск в Европе.
– Небось приятно, что «друзья» проучили старую хитрюгу Англию? – спросил Агафон сына.
Катя и Семен переглянулись: начиналась старая история! С того дня, как вспыхнула война в Европе, Катя, как и большинство семейных женщин, по-своему чувствовала приближение несчастья, понимала тревогу свекра, знала, почему каждый день разгорались споры в семье.
– Кому они друзья, а нам лютые недруги, – ответила она за мужа.
– Франция… Черт возьми! Страна в сорок пять миллионов человек продержалась всего лишь сорок дней. Чудовищно! Лондон засыпан бомбами. Вырастили Гитлера на свою голову, расплачиваются уже. Как бы к нам не пошел. Ну да я, может быть, не доживу до этого…
– Папа, зачем напрасно распаляете себя? – сказал Семен. – Нужно понимать диалектику развития истории.
– Объясни, Семен Агафонович, эту диалектику, – смиренно попросил старик, но усмешка кривила его тонкие губы.
Привыкнув убеждать таких людей, не огорчаясь их искренней или притворной непонятливостью, Семен неторопливо, с наивным сознанием своего достоинства стал доказывать отцу (уж который раз!), что Германия не так уж сильна, что аппетиты ее ограничатся Западом. Но Агафон оборвал его:
– Врешь! Гитлер захапал всю промышленность Европы! Устарел я, милок, не угонюсь за быстрыми изменениями жизни, – не сожалея, а как бы даже гордясь этим, говорил он. – Ну да ладно, сойдет, я не нарком и не маршал, мои заблуждения не повлияют на высокую политику. Может быть, они мешают твоему пищеварению?
Семен понимал отца: старик завидовал своим товарищам, далеко продвинувшимся по военной службе, в то время как он, умный и волевой, «командовал» заводскими осоавиахимовцами, гоняя их до упаду по волжскому пригорку.
– Хорошо, что я маленький чин! – дребезжаще смеялся отец. – Большим начальникам житуха трудная: надо умные вещи говорить. А вот я могу и глупости себе позволить…
Он начал было утихать, но сын неосторожной фразой снова взвинтил его:
– В наше время глупость есть порок.
– А я желаю быть глупым! Я шестьдесят лет драил и утюжил себя. Теперь вольнодумствую, глуплю. Раньше полковой батюшка стращал меня богом, а ты припугиваешь какими-то историческими закономерностями, всесильными, как поповский господь бог. Идеалисты вы… Вот немец возьмет и пожалует к нам в гости, а?
– Немецкий народ не подымет оружие на отечество трудящихся…
– Почему же не подымет? А если его убедили, что это отечество можно пограбить?
Семен снисходительно улыбнулся.
Агафон проворно положил в карманы френча табак, спички, встал, скрипя протезом. Поцеловал в макушку меньшого внука, Илюшку, в качалке и, постукивая костылем, вышел, опасливо косясь на живот снохи.
С весны и до заморозков он обычно жил в саду в походной палатке.
Привычная обстановка в брезентовой палатке: стол со свечкой в бронзовом подсвечнике, походная раскладная койка, карта Европы с отметками линии фронта, толстая тетрадь с подневной записью мыслей, воспоминаний, сам воздух, пропитанный запахами табака и сада, – все это вернуло Агафона в привычное расположение духа: недовольство самим собой, желание работать. Но только он сел за дневник, вошла Катя с одеялом в руках. Убрала с койки шинель, пахнувшую ветхостью, стариковским потом.
– Агафон Иванович, вы не поняли Сеню, он говорил…
– Что он говорил? Надо, любезная моя, историю войн знать. Не верю никаким договорам. Посадите меня за это в тюрьму, а? А я все равно говорил и буду говорить: с древнейших времен завоеватели не считались с договорами… – Агафон тыкал в карту костлявым прокуренным пальцем, грозно сверкая глазами.
При слабом свете свечи Катя тревожно посматривала на сердитое лицо старика. Тяжело было ей войти в палатку, а еще тяжелее выйти. Привыкшие к делу руки взяли со стола подсвечник, она протерла его передником. Под удивленным взглядом свекра Катя потерялась, забыла, на каком месте стоял подсвечник, поставить же на другое место боялась. Стеарин капал на пальцы, на карту.
– Какой же уважающий себя разбойник будет предупреждать свою жертву о нападении на нее? – бушевал Агафон, а Катя, не понимая, зачем он говорит это, прислушивалась, не плачет ли ребенок в доме.
– Ну, я пойду к Илюшке, – сказала она очень некстати: старик вошел в раж, развивая свои соображения о войне в Европе.
– А я вас, любезная, не звал сюда и тем более не задерживаю, – с ледяным спокойствием ответил он, поджимая губы.
– Илюшка любит вас.
– Гм, гм! Хотя что ж, дети иногда умнее взрослых… если даже эти взрослые – их родители. Правду чувствуют дети. – Старик посопел, потом мягко сказал: – Илюшка смышленый… Вообще, внуки ядреные, как боровички.
И Катя вдруг вспомнила, где подсвечник стоял раньше. Агафон притих, лег на койку, заслонив книгой свечу. Трубка, разгораясь, озаряла худое, морщинистое лицо. Не обращая внимания на фырчание и деревянный смех свекра, Катя с мягкой и несокрушимой настойчивостью укрыла его одеялом, приговаривая:
– Я вон какая толстая и то зябну.
В дом она вернулась счастливая, смущенная своей радостью, потому что суровый старик похвалил ее детей.
Семен, посадив сына голой заднюшкой на свою ладонь, ходил по детской, надувал щеки и таращил глаза.
– Ворчал домовой? – спросил он, передавая сына жене. – Давай, Катя, разделимся с отцом, пусть живут с Марфой.
Катя поправила грудь, чтобы она не заваливала ноздри сосунку, ответила:
– Нельзя, он устроит ей черную жизнь… Девушке нужно помочь, Сеня. Не понимаю, как это случилось?
Но тут вспомнилось: однажды, набирая стружку в сарае на растопку, нашла гребенку Марфы.
– Отец виноват. Завел в доме казарменную строгость, девка докладывала ему о каждом своем шаге, а потом… стала удирать по ночам из окошка. И чего он ждал от обыкновенной девчонки? Ума у нее нет… Старик носится с Валентином: герой! Тамерлан, Наполеон, Фрунзе! Хорошо, что на меня никаких надежд не возлагает. Нам, Катюша, надо разойтись с батей. Возьмут меня на войну, пропадешь с ним: запилит.
Катя положила в качалку уснувшего сына, потянулась сильным телом, кинула на шею мужа полные руки.
– Если это случится, не одна же я солдаткой останусь… А может быть, пронесет мимо…
С этого дня Агафон перестал спорить с Семеном, хотя молниеносные успехи гитлеровцев произвели на него гнетущее впечатление. Потом от войны отвлекли более важные и близкие ему события: старый его приятель, первый командир Волжской дивизии Рубачев умер после продолжительной болезни… Это был веселый человек, любивший посидеть с друзьями в саду за графином доброго вина, вспоминая боевые походы времен гражданской войны.
Свою последнюю волю высказал так: похоронить в братской могиле, где лежат герои Волжской дивизии, павшие при штурме города в 1919 году.
Гроб с телом Рубачева стоял в клубе местного гарнизона. Там собирались старые друзья покойного.
По пути к клубу Агафон Холодов спустился в погребок, а оттуда вышел повеселевшим, бойко и уверенно попирая палкой тротуар. Брат покойного увел Агафона в садик, под яблоню, где начдив любил сиживать вечерами, угостил вином из серебряного бокальчика.
– Братец давно приготовил, да не успел выпить. Велел угощаться… Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы…
Холодов выпил, посмотрел на голубое небо, вздохнул, вытер глаза и еще выпил. В почетном карауле его слегка покачивало. Но он, тайно придерживаясь за гроб, выстоял свои пять минут и даже под конец, когда фотограф наставил на него аппарат, приосанился, выпятив грудь, украшенную орденом.
Длинная процессия двигалась по улице к братским могилам. Агафон отказался ехать в машине и теперь изнемогал от жары и пыли. Новый протез затруднял ходьбу. Из упрямства старик не сдавался, но чувствовал, что вряд ли ему добраться до могилы. Вдруг кто-то сзади положил руку на его плечо.
«Что за неуместное баловство?» – Агафон обернулся и застыл от изумления: Валентин, похудевший и возмужавший. Загорелое лицо, молодые усы, брови, прижженные солнцем, придавали ему вид храброго, здорового солдата.
Отступили к тротуару, под тень лохматого тополя.
– Папа, я не один.
– Ну, ну, показывай свою о с о б у.
– Ее сейчас нет. Со мной кто-то другой. Угадайте! – смеясь, говорил Валентин. – Представьте себе, спешим на всех парах домой, и вдруг похоронная процессия! Мертвое встало на пути живого.
Тут, как бы в наказание людям за их пустые разговоры, медные трубы рявкнули, заголосили похоронный марш.
Отец кричал, выкатывая покрасневшие глаза:
– Кого же привез?
– Генерал-лейтенанта Чоборцова.
Поблескивая синим верхом, стоял за углом каменного дома лимузин. Из него вылез толстый генерал с пушистыми усами.
– Агафоша! – густым, прокуренным солдатским голосом воскликнул он.
Друзья обнялись, поцеловались.
– Вот и Ваня Рубачев ушел, – сказал Агафон.
Похоронив Рубачева, поехали домой. Агафон чувствовал себя в своей родной военной среде, он ласково смотрел то на боевого соратника, то на сына. Даже запах ремней был ему приятен.
«Сеньке придется сократиться немного со своими гражданскими порядками», – подумал Агафон, улыбаясь победительно и хитро, будто задумал какой-то очень важный стратегический план, в осуществлении которого он не сомневался.
III
Рано утром Юрий, покропив лицо Михаила водой из лейки, разбудил его.
– Вставай, медведь, медом пахнет.
Михаил, посапывая, нехотя одевался, ворчал: не дали поспать после ночной смены. Брат напомнил ему: сам же вчера напрашивался ехать в горком на встречу с военными гостями. Ну вот и влезай в гущу жизни!
Выпив холодного, из погреба молока, Михаил спросил брата, как он может работать вместе со своим недругом Анатолием Ивановым.
– Как в глаза-то глядите друг другу? Знать, что она… – Михаил умолк, наткнувшись на взгляд Юрия: никогда прежде не видал у брата такого разъяренного и вместе с тем мрачного выражения глаз. Под тонкой загорелой кожей двигались на челюстях желваки, хрящеватые уши будто отпрянули назад, крылья горбатого носа побелели.
– Юра, прости меня… Не понимаю, вроде все хорошо, а потом вы опять врозь.
– Попробуй докажи ей, что я не виноват в смерти ее отца! Но я докажу! Время работает на меня. Успокоится она, одумается, поймет. Помню, дядя Матвей говорил: «Как знать, может, со временем и у тебя нестерпимо засаднит сердце и ты отыщешь единственную на всем свете свою ветлу над речкой».
Юрий повесил полотенце на веревочку под карнизом веранды и, глядя на брата, заговорил уже весело, с ясной, спокойной улыбкой:
– Конечно, мне совестно казаться слишком жизнерадостным, легкомысленным рядом с твоим дружком Толей. На его лице с воинственными усами всегда отражается глубочайшее сознание исторической ответственности, в глазах – скромность и даже жертвенность: «Ну, что ж, я подчиняюсь решению, беру на плечи свои бремя забот, отныне моя жизнь уже не принадлежит ни мне, ни маме с папочкой, она положена на алтарь служения партии и народу». Мне, Миша, просто неловко рядом с твоим другом. Шепни как-нибудь ему, чтобы он не казнил меня своим ликом подвижника…
– Я бы не мог и не стал работать с таким человеком.
– Вот когда пойдешь на пенсию, тогда построишь домик рядом с приятным тебе соседом. Жизнь есть жизнь, брат!
Когда вошли в кабинет, Юрий сказал, что Михаилу придется встретиться с Валентином Холодовым, который явится на полчаса раньше генерала Чоборцова.
– Хочу проконсультироваться у майора по кое-каким вопросам. Если тебе он неприятен, можешь смирнехонько посидеть вон за тем столиком и не встревать в разговор.
Ровно в половине девятого пришел майор Валентин Холодов в своей безупречно вычищенной, отутюженной гимнастерке. Его коричневые глаза смотрели приветливо и твердо, когда он коротко и сильно пожал руки сначала Юрию, потом Михаилу. Он сел на стул перед столом, поставив ноги в начищенных до блеска сапогах под прямым углом и чуть откинув на спинку стула корпус.
Холодов сразу же, поняв, чего хочет секретарь горкома, начал рассказывать о подшефной Волжской дивизии, начальником которой был в течение десяти лет генерал Чоборцов, пока не назначили его после финской кампании командующим армией. Дивизия входит в состав этой армии, дислоцированной на западе вдоль советско-германской демаркационной линии. Определенностью суждений, спокойствием, простотой и чувством собственного достоинства майор производил на Михаила приятное впечатление. Юрию он даже понравился, и это Михаил видел по глазам брата.
Приятно было узнавать подробности армейской жизни, истории дивизии, тем более что дивизия выросла из красногвардейских отрядов рабочих-металлургов. Декретом Ленина ей было присвоено наименование Волжской. В годы гражданской войны отец командовал ротой, а отец Валентина – полком. Чоборцов был начальником штаба у отважного начдива Рубачева. Рабочие гордились своей родной подшефной дивизией. Юрий проходил лагерные сборы в артиллерийском дивизионе, когда дивизия дислоцировалась в Заволжье. Вот скоро и Саша, и Веня Ясаков уедут служить в свою рабочую дивизию…
Холодов взглянул на часы, встал, и в ту же минуту помощник Юрия, бывший чекист с шахтерским обличьем, открыл двери, и в кабинет вошел толстый, краснолицый, усатый генерал в белом кителе. Следом за ним, опираясь на костыль, прохромал Агафон Холодов.
Валентин встал и до конца беседы так и не отходил от генерала.
– Просьба к вам, товарищ Крупнов, такая: легендарному начдиву Рубачеву памятник надобно соорудить, – сказал Чоборцов и умолк.
Юрий сказал, что он, как бывший артиллерист, поддержит предложение генерала.
– Рубачев – наш герой. До революции работал на заводе машинистом горячих путей. Рабочие любят свою дивизию, своих командиров, – сказал Юрий.
Он вызвал Анатолия Иванова и поручил ему подготовить проект решения бюро горкома о памятнике. Иванов взял под руку Валентина Холодова, и они вышли из кабинета. Через несколько минут вернулись с проектом решения.
Генерал и Юрий одобрили короткую резолюцию, а Михаил удивился умению своего приятеля, поэта Иванова, так предельно четко писать деловые документы. Сам он за всю жизнь не написал ни одного протокола. «Это люди дела, не то что я, болтун и рефлексирующий демагог», – подумал Михаил, чувствуя себя ничтожеством рядом с деловыми людьми. Он забился в угол и с немым восхищением слушал старика Холодова. Резким, сердитым голосом полковник в отставке жаловался на общественные организации, недооценивающие работу Осоавиахима. Генерал одобрительно кивал крупной головой. По его мнению, вся здоровая молодежь должна в свободное время заниматься военным делом. Мы строим армию массовую, народную. Не то что французы, возлагавшие свои упования на специальные замкнутые формирования. Вот немцы хитрее их: Геринг задолго до войны подготовил в авиационных клубах сто пятьдесят тысяч летчиков. Современная война будет только массовой, она никого не оставит в покое. Стратегическая авиация стирает грань между фронтом и тылом. Война моторов перечеркивает прежние представления о расстояниях, отделявших армию от ее тылов. У нас каждый молодой человек, будь то юноша или девушка, горит желанием отстаивать мир умелой в военном отношении рукой. Надо видеть, с какой жадностью заводские парни изучают самолеты, танки, вообще технику. Допустимо ли добровольному обществу ютиться в тесном помещении? Не пора ли передать ему большой клуб, соответствующий размаху работы? Солнцев (да сохраним о нем хорошую память!) не вполне чувствовал и понимал требования момента.
И эту просьбу Юрий поддержал. Потом все подошли к стене, на которой висел новый, пока черновой план города, Агафон и генерал показывали на плане места, где шли особенно ожесточенные бои в гражданскую войну, предлагали как-то отметить эти места: то ли сооружением обелиска, то ли мемориальной доской на стене того или иного дома. Память о воинах повышает боевой дух народа.
Михаил посмелел, встал рядом с генералом, стараясь запомнить его слова, жесты, выражения маленьких хитрых глаз под густыми бровями. Он завидовал брату. Сколько разнообразных людей будет встречать он в своей работе! А Толя Иванов, наверное, доверху переполнен богатыми впечатлениями. «Эх, и идиот же я, не познакомился поближе с майором Холодовым, злился на него, а разве он виноват, что Вера любит его и не любит меня?! Тупой и озлобленный человек, я отгородился от жизни своими ничтожными обидами».
– Да, город наш особенный, – сказал Юрий. – Тут сталь, станки, машины. Крупный узел коммуникаций.
– Очень приятно, что вы так определяете главную черту нашего города: узел коммуникаций! – воскликнул Агафон Холодов. – Пусть не будет вам в лесть, а покойному Тихону Тарасовичу в обиду: не понимал он этого. Растопыренными пальцами бил по цели, а надо вот так! – Агафон рубанул воздух маленьким кулаком.
– Если у вас, товарищи, есть время и желание, поедем на створы будущей гидроэлектростанции на Волге, – предложил Юрий.
– Поедем, – согласился генерал.
Вышли на улицу. Михаил тихо спросил брата, можно ли и ему поехать. Юрий подтолкнул его к машине, в которую сели Валентин Холодов и Анатолий Иванов. Михаил смотрел на прямые плечи, на высоко подстриженный затылок Валентина, сидевшего рядом с шофером, слушал его непринужденный разговор с Ивановым.
– Францию погубила не только военная, но и политическая стратегия: надеялись французы и англичане изолировать СССР, направить удар германской армии против нас, – отвечал Холодов на вопрос Иванова, почему так быстро пала Франция.
– Неужели все так просто? – спросил Михаил.
Холодов повернулся к нему, сказал с усмешкой:
– Все бесчестные хитросплетения на поверку всегда оказываются чрезвычайно примитивными. – И опять он стал смотреть на дорогу, по которой катилась перед ними машина с Юрием, генералом и Агафоном.
– Один мой приятель был в Париже в то время, когда шли мюнхенские переговоры, – снова заговорил Холодов. – Так вот, французские министры запугивали парижан: если не отдать Гитлеру Чехословакию, то он сотрет с лица земли Париж. Мешками с песком забили окна в военном министерстве, даже баррикады строили.
По тону Михаил понял, что Холодов сам был очевидцем того, о чем рассказывал с усмешкой.
– А с немцами встречались, товарищ майор? – спросил Иванов, склоняясь к Холодову так, что усы его едва не касались смуглой шеи майора.
– Немцы – солдаты серьезные, – уклончиво ответил Холодов, покуривая эстонскую сигарету. – Оружие у них неплохое. Да вот Крупнов подтвердит, он на финском фронте понюхал немецкого пороху.
Михаил смущенно пробормотал, что он действительно понюхал пороху немецкого, французского, американского и английского. Напоминание о финском фронте всколыхнуло в сердце обидное и унизительное – прощание с Верой Заплесковой.
Машина спустилась в лесную долину, выехала на берег Волги. Прошли мимо избушки бакенщика, мимо опрокинутой просмоленной лодки, по извилистой тропке в дубняке стали взбираться со степного тыла на утес Степана Разина. Михаил шел позади генерала, который, несмотря на одышку, не отставал от Юрия, цепляясь одной рукой за ветви дуба, а другой придерживая фуражку на голове. Валентин несколько раз пытался помочь своему отцу, но тот сердито отстранял его, уверенно ковыляя под навесом деревьев.
На широкогрудом красно-буром утесе потные лица окатил свежий, играющий ветерок. Внизу вспыхивала под солнцем широкая река. Сели на камни, крапленные птичьей кровью и пометом, молча закурили. Кто всматривался в далекие правобережные в темном дубняке горы; кто, щурясь, из-под ладони вглядывался в степное Заволжье, где редкие проступали в голубом мареве вышки нефтеразведки; кто не сводил глаз с Волги. Птицы, умолкнувшие лишь на время, засвистели, защелкали и загукали в лесу. Все выше взмывали два орла в поднебесье. Пошумливали листвой могучие дубы. Пахло разогретым камнем, сухим орешником, наплывали с Волги пресные запахи воды.
Юрий пятерней откинул назад свои волосы и, улыбаясь глазами, сказал:
– Вот от этого утеса до села Разбойщина построим плотину, перекроем Волгу…
Чоборцов покряхтел, сильно ударил кулаком по своему толстому колену.
– Если бы наши желания зависели от нас с вами… Сбросил бы я с себя эти штаны с лампасами, дорогие сапоги, надел бы рабочий комбинезон – и айда шуровать на стройке! – Он кинул свою фуражку на куст бобовника, расстегнул китель, потер широкую жирную грудь. – Но много еще зверья на земле, много, и точит это зверье на нас зубы.
Юрий сказал:
– Комплексная экспедиция в минувшем году закончила в основном исследование берегов, дна реки, определила створы плотины. Назначен начальник строительства. Вчера говорил я с ним. Известный строитель Днепрогэса, Рыбинской плотины. Умница, характер! Сразу же, говорит, начнем строить современный город, а не барачный поселок. К Волге нужно подходить комплексно: дешевая электроэнергия, орошение, флот. Сотни заводов включатся в строительство, потребуются миллионы тонн металла, бетона, камня. К нам придут тысячи строителей разных профессий. С женами, с детьми. Нужны школы, ясли, бани, больницы. Откроем институты, в них будут учиться рабочие. Короче говоря, тут возникнет современный город, который вберет в себя все достижения техники. Эта широта и глубина размаха чертовски мне по душе! Вот это жизнь! Мы с ним прикидывали, что могут дать наши заводы. Многое! Сталь, цемент, земснаряды, мониторы.
– Да, хорошо строить на голом месте, – сказал Валентин Холодов, – самим придумывать названия улиц. А сколько новых людей! Верно, хорошо? – дружелюбно обратился он к Михаилу.
– Отлично! И вы позавидуете мне: я буду работать тут.
– Ей-богу, если будет строительство, в отпуск приеду и сяду за рычаги бульдозера! – азартно сказал генерал. – Или на худой конец лопатку земли сброшу в Волгу-матушку. Сколько я плавал по ней! Агафоша, помнишь в девятнадцатом наш налет на баржу смерти?
– А ты помнишь, Данила, как Рубачева чуть не поставили к стенке, когда дивизия не удержала города? А потом бойцы вплавь форсировали Волгу, отбили город?
– Как же, помню! Тогда-то Рубачев простудился зверски, вскоре ноги отнялись. Эх, какой был начдив!
Михаил жадно слушал, схватывая выражение этих посветлевших лиц, горящих глаз.
– Миша, закрой рот, – шепнул ему Иванов и пощекотал его подбородок веткой дуба.
Михаил проглотил слюну, взглянул на Иванова: в прищуренных черных глазах, затененных козырьком фуражки, играла мудрая усмешка.
– Юрий, кто же будет жить в современном большом городе, когда окончится строительство? Эксплуатационники? Для города мало, – сказал Иванов.
– Всем дадим работу, Толя. Алюминиевый завод построим, машиностроительный, завод швейных машин. Эх, да мало ли что можно построить, когда Волга даст электроэнергию! Волга ведь не просто великая река. Волга – ось России!
– Точно сказано: Волга – ось России! – Генерал кивнул головой. – Крепкая ось!
– Сейчас поедем на завод к шефам, Данила Матвеевич? – спросил Юрий. – Посмотрим сердцевину этой оси.
– Сейчас, дорогой, сейчас. Тоже и ради них живем, носим мундиры. Хочу посмотреть будущих воинов, повидаться со старыми ветеранами.
В машине Михаил молча наблюдал за Ивановым и Холодовым. С удивительным спокойствием отвечал майор на бесконечные вопросы Иванова, слегка поворачиваясь в профиль к нему.
«Вот они, два недруга: один мой, другой Юрия», – думал Михаил. Но в душе его почему-то не было неприязни к Холодову. Иванов же раздражал его до такой степени, что Михаил не мог смотреть на него. Даже полувоенный костюм и особенно шевровые сапожки были противны Михаилу. Ему очень хотелось пройти по цехам вместе с военными гостями, но наступало время становиться на работу, и Михаил, вскочив на паровоз к знакомому машинисту внутризаводских путей, уехал к главному конвейеру.
В сторонке от широких двустворчатых ворот цеха мотористы-контролеры курили на лавочках у врытых в землю кадушек с водой. Вместе с ними он обычно испытывал работу гусеничных тракторов. Но неделю назад с конвейера сполз первый танк, за ним другой, третий…