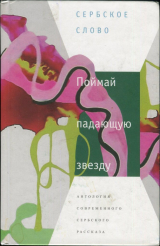
Текст книги "Поймай падающую звезду"
Автор книги: Горан Петрович
Соавторы: Радован Бели-Маркович,Михайло Пантич,Васа Павкович,Вида Огненович,Драгослав Михаилович,Елена Ленгольд,Милован Марчетич,Давид Албахари,Светлана Велмар-Янкович,Радослав Братич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Несколько скрепленных страниц являли собой устав, или правила тайного общества. Тут скудные познания Виктора в немецком языке отступили перед жесткими юридическими формулировками, оказавшимися для него неприступной крепостью. С протоколами заседаний правления тайного общества он справился легче, но его разочаровало то, что они в основном были посвящены административным вопросам. Виктор обратил внимание на имена членов правления, хотя они ему ни о чем не говорили. Знакомым ему показался только Курт Швиттерс, бывший членом правления с 1925 по 1932 год. Но почему известный дадаист, подумал он, заинтересовался каким-то безумным тайным обществом, посвященным еще не родившемуся человеку? И почему вообще «тайное» общество, а не открытое? Может, вся эта игра просто была проектом дадаистов, может, он был их ребенком, существующим в каком-то из их произведений, может, они сотворили его с помощью своих слов, как некую версию Голема в духе дадаизма?
– Ерунда! – воскликнул Виктор во весь голос, и слово пронеслось по комнате словно пуля. Он захлопнул папку, встал и направился в ванную комнату, чтобы помочиться. Все это, то есть, ничего из этого не могло быть правдой. Кто-то придумал эту историю, подготовил фальшивые документы и попытался разыграть его. Но кто? И зачем кому-то понадобилось так серьезно вкладываться в обычный розыгрыш, чтобы посмеяться над ним, далеко не самым известным балканским автором?
Он нажал кнопку сливного бачка и вернулся в комнату. Лечь в постель Виктор даже не попытался, потому что знал – уснуть не удастся. Оделся, причесался и вскоре оказался перед гостиницей. Площадь была пуста, и только на противоположном ее конце виднелся лениво машущий метлой уборщик в оранжевом жилете. Если он продолжит в таком же темпе, подумал Виктор, то вряд ли до утра выметет всю площадь. Он зашагал к железнодорожному вокзалу, который, хотя и был ярко освещен, но выглядел заброшенным. На полпути Виктор передумал и направился к уборщику, если это, подумал он, вообще был уборщик. Разве одно только тайное общество могло стать ловушкой? Почему бы и уборщику не быть частью этого плана? Почему, в конце концов, всему Ганноверу не быть иллюзией, городом, существующим только в воображении того, кто все это придумал?
Между тем уборщик заметил, что Виктор приближается к нему, и прекратил размахивать метлой. Виктор, уверенный, что тот готов убежать, прибавил шаг, но уборщик не шевельнулся. Он стоял неподвижно, пока Виктор не приблизился к нему вплотную и только тогда заметил, что уборщик вовсе не мужчина, а женщина.
– Меня ждете, не так ли? – спросил Виктор.
– Да, – ответила женщина.
– Я был уверен в том, что смерть приходит с косой, – продолжил Виктор. – Метла мне даже в голову не могла прийти, хотя теперь понимаю, что так – гораздо практичнее.
– Ну, какая там смерть! – рассмеялась женщина. – Я работаю в городской библиотеке. Метла у меня для маскировки, а так я просто присматриваю. Мы знали, что вы не заснете и, скорее всего, выйдете прогуляться, и поэтому мы…
– Кто «мы»? – оборвал ее Виктор. – Кто знал об этом?
– Члены тайного общества, – ответила женщина. – Кто ж еще?
– А откуда они, то есть, вы, узнаёте, что произойдет в будущем?
– Вы слишком много спрашиваете, – сказала женщина. – Я вступила в Общество только в прошлом году.
– Почему?
– Потому что моя лучшая подруга сделала это еще три года тому назад.
– А почему она это сделала?
– Это вы у нее спросите, – ответила женщина.
Виктор отмахнулся. Весь этот разговор был ни к чему. Женщину с метлой подбирали тщательно. Кто-то позаботился о том, чтобы в случае, если Виктор проявит любопытство и настойчивость, его собеседнице нечего было сказать.
– И что бы вы сделали, если бы я не подошел к вам, а свернул бы в какую-нибудь улицу? – спросил он.
– Пронаблюдала бы за вами, – ответила женщина.
– А если бы я скрылся?
Женщина не сразу собралась с ответом:
– Что вы имеете в виду? Как бы скрылись?
– А вот так, исчез бы, и всё. Свернул бы в какую-нибудь улицу, вы – за мной, всматриваетесь, а меня-то и нет. Растворился, исчез, будто меня и не было.
– В таком случае, – ответила женщина, – я должна буду составить рапорт и представить его исполнительному комитету тайного общества, хотя, насколько я помню, нигде ничего не говорилось о том, что вы исчезли в Ганновере.
– Значит, – поинтересовался Виктор, – если об этом нет никакой записи, то это и не может произойти?
Женщина посмотрела на него с нескрываемым удивлением:
– Если бы ничего этого не было, тогда сам процесс чтения стал бы абсурдным. Не говоря уж о сочинительстве.
– Вы правы, – согласился Виктор, – вы абсолютно правы.
Помолчав некоторое время, он опять спросил:
– И что вы сейчас станете делать?
– Если вернетесь в гостиницу, то еще немного помашу метлой, а потом отправлюсь домой.
– Вы живете одна?
– Да.
Виктор протянул руку и отнял у нее метлу:
– Тогда я провожу вас домой. Годится?
– А ранний подъем? Что мы с этим будем делать?
– Скажем, – произнес Виктор, – что я отказался от этого рассказа и решил написать новый.
– Я всегда хотела стать героиней какого-нибудь рассказа, – сказала женщина, ухватила Виктора под руку, и они двинулись широкими шагами. – Только хочется, чтобы конец не был печальным.
– Чего я терпеть не могу, – откликнулся Виктор, – так это рассказов с печальным концом.
5
Виктор проснулся часов в пять утра: по крайней мере такое время показывали часы на ночном столике. Лампа рядом с часами продолжала гореть, и груди женщины отбрасывали длинные тени на ее лицо. Виктор осторожно выпрямился, встал и принялся искать одежду. Женщина даже не шевельнулась; она дышала глубоко и равномерно, над верхней губой выступили мелкие капельки пота. Выйдя из комнаты, Виктор направился в кухню. Он намеревался выпить кофе или по крайней мере апельсинового сока, после чего отправиться в гостиницу, собрать вещи и поспешить в аэропорт. На дверце холодильника висели какие-то записки, календарь и открытка с видом Риги. Внутри Виктор обнаружил только яблочный сок; кофе ему так и не удалось найти. Он налил сок в стакан и сел за стол. Пил его не спеша, делая глоток каждые двадцать секунд, и как раз в тот момент, когда он сделал последний, в дверях кухни появилась женщина. Голая, только в черно-белых тапочках, одной рукой она протирала глаза, второй чесала живот. Она ничего не сказала, да и Виктор промолчал. Женщина села за стол, протянула руку и взяла стакан Виктора. Подождала, пока он наполнит его, после чего залпом выпила содержимое, до последней капельки. Поставила стакан на стол, тыльной стороной ладони вытерла губы и посмотрела на Виктора:
– Значит, по-твоему, это не печальный конец?
– Это вообще не конец, – ответил Виктор.
– Нет?
– Нет.
– Возьмешь меня с собой?
– Нет, – сказал Виктор. – Я остаюсь здесь.
– В Ганновере?
– Да.
Женщина покачала головой.
– Не верю я тебе, – сказала она, – не знаю, почему, но не верю. Все равно, – добавила и поднялась, – это ничего не меняет. Пойду приму душ, и, надеюсь, ты за это время исчезнешь.
Виктор промолчал. Подождал, когда она выйдет из кухни, потом дождался звука закрываемой двери ванной и шума воды, после чего, как будто уже нечего было больше ждать, вышел в прихожую, посмотрел в глазок, открыл дверь вышел на лестницу. Спускался он медленно, ступенька за ступенькой, и только оказавшись в холле, вспомнил, что не захлопнул дверь квартиры этой женщины.
6
Телефон зазвонил, когда он укладывал вещи в дорожную сумку. Звонок прозвучал десять раз. Потом он умолк, но загорелась лампочка, извещающая об оставленном сообщении. Виктор еще раз осмотрел гостиничный номер, заглянул в ванную, в шкаф и под кровать, после чего закрыл сумку. Лампочка на телефоне старательно моргала, но он больше не смотрел на нее. Вышел из номера, спустился в холл и отдал ключ.
– Одну минуту, – сказал молодой человек за стойкой и протянул конверт, в котором была книга.
Виктор сунул конверт в боковой карман дорожной сумки и спросил:
– Как выглядела эта женщина?
– Это была не женщина, – ответил портье, – а мужчина.
– Вы уверены? Точно не женщина?
– Да, уверен, – ответил молодой человек не без сарказма в голосе. – Редко у какой женщины бывают борода и усы.
Вчера ни у кого не было ни бороды, ни усов, подумал Виктор, хотя это еще ничего не значит. Нет особой проблемы в том, чтобы их наклеить, актеру, например, или женщине, с которой он провел ночь. Он взял сумку и направился к выходу, чтобы сесть в такси, которое, как язвительно заверил его портье, вот-вот должно подъехать. И в самом деле, такси подъехало, Виктор расположился на заднем сиденье, велел таксисту поспешить в аэропорт, после чего надорвал конверт и вытащил книгу. Как он и догадывался, это был сборник коротких рассказов, которые будут изданы после его смерти. Он начал читать первый рассказ, потом перескочил на второй, а затем и на третий. Что-то здесь не так, подумал Виктор, потому что эти рассказы вовсе не походили на те, которые он обычно писал. Правда, некоторые фразы звучали вроде бы похоже, но все остальное, в особенности сюжеты, резко отличалось от всего написанного им прежде. Неужели я настолько изменился, подумал Виктор, что не могу сам себя узнать? Он перелистал книгу, нашел страничку с заметкой об авторе и прочитал:
«Виктор Дугайлич, рассказчик и романист, один из самых значительных авторов Балканского полуострова. При жизни опубликовал шесть книг. Рассказы данного сборника воссозданы студентами славистики нескольких германских университетов на базе набросков и записок, оставшихся после его смерти».
– Что за чертовщина, – пробормотал Виктор, – откуда еще взялись эти студенты?
Таксист посмотрел на него в зеркальце:
– Вы что-то сказали?
– Нет, – ответил Виктор и посмотрел на часы: до вылета оставалось пятьдесят минут. – Но если мы не поспешим, то опоздаем.
– Если поспешим, – отозвался таксист, – то заплатим штраф.
– Я заплачу, – пообещал Виктор, и тут же почувствовал, как таксист придавил педаль газа.
Он вновь обратился к справке об авторе, и тут заметил предложение, которого – он был готов поклясться! – только что тут не было: «Погиб в Ганновере во время транспортного происшествия осенью 2007 года».
– Потише, пожалуйста, помедленнее! – крикнул он таксисту и похлопал его по плечу; тот обернулся к пассажиру:
– Думаете, слишком быстро? Не беспокойтесь!
И пока таксист улыбался ему, Виктор Дугайлич смотрел, как автомобиль вылетает на встречную полосу и врезается в грузовик с прицепом. Надо было остаться у той женщины, подумал он, после чего услышал, как корежится и ломается металл под оглушительный грохот и скрежет. Это длилось недолго – пять, от силы шесть секунд. Потом наступила тишина. А потом и ее не стало.
Родослав Братич
Фотография без отца
Все мы подавлены ужасной раной на шее отца, с которой свисают и тянутся слизистые нити, совсем как на колышках, по которым вьется созревающий горох. Он тает прямо на наших глазах, и никто ему при этом слова сказать не смеет.
Расцветшая отцовская рана цветет и лопается, разбрызгивая сукровицу во все стороны. Пусть яд вытечет из его раны. На краях она схватывается корочкой, густая слизь затвердевает. Из центра течет черная сукровица, стягивает ему горло и причиняет дьявольскую боль; рана превращает отца в карикатуру. Нерв, тянущийся от уха и разветвляющийся по всему лицу, сковывает голову, пульсирует, перенося яд и горечь. Он жестоко напоминает ему о хрупкости жизни.
Я сижу у кровати, на которой лежит отец, похожий на распятие. Язык одеревенел и у меня, и у него, его слова скоромны и отвратительны. Он смотрит сквозь меня прямо в сливовый сад. Исчезает среди деревьев в неизвестно каких таинственных пределах. (Словно молится о спасении, а мы этого не слышим.) Там он увидит мяч с прилипшей к нему щетиной Ешниного борова. Теперь он знает, кто спрятал его и превратил в демона. Теперь ему доступны разгадки всех тайн, своих и чужих.
Отцовская рана, открывающаяся вновь и вновь, получена им на прошлой войне, и теперь она возвращает его в грязные окопы, чтобы напомнить о пережитых им муках. Так жизнь возвращается на круги своя и превращается в страдание.
Я вижу, как он сжимает потные ладони и в мыслях опять идет в атаку. Но шейные мышцы коченеют, от чего отец вздрагивает, стискивает зубы и судорожно пытается приподняться на кровати. Будто его со всех сторон окружили толстые слои мрака, пронизанные призывами сдаться. Каждое его движение вызывает слезы; мне нечем помочь моему родителю. Он медленно поворачивает голову к фотографиям, висящим на стене, чтобы впитать от них еще немножечко жизни. На одной из них, в окружении детей, с геройски вскинутой рукой, стоит его отец, полный сил и здоровья. Наверное, сейчас эта фотография кажется ему фальшивой. О, как огромна дистанция между тем, что он видит, и тем, что чувствует! Лицо отца покрылось влагой; нет, это не слезы, но пот и судорога минувшего. Как раз теперь он вспоминает что-то из своей молодости. Проклятие, хоть бы на мгновение все это повторилось! На губах его выступает горькая пена. Она тут же засыхает, твердеет. Пена на губах и во рту. Кажется, сейчас она взорвется внутри него и обрызгает здоровую родню. Выступает краснота, похожая на запал гранаты. А как он нас ругал и требовал, чтобы не ковырялись у развалин стен и поваленных заборов, где еще таятся бомбы и другие боеприпасы, оставшиеся после двух войн! Мы смеялись над ним, издевались до тех пор, пока граната не оторвала обе руки Джорджеву сыну. Так он и по сей день ковыляет, размахивая обрубками рук.
«Малый, ты где?» – отец постоянно окликает меня, всматриваясь, насколько я похож на него. Я вижу, как шевелится его язык, как он шепчет что-то. Сквозь окна и двери доносятся обрывки разговоров о том, что его болезнь неизлечима. Но кто решится так вот, сходу поверить в это? Я вглядываюсь в изможденное лицо – щеки горят, но отец ничего не видит, его глаза уже потухли. Из них, как из угольных ям, поднимаются дым и гарь. Они окутывают пространство и делают все вокруг неясным. Наверняка он принимает нас за призраков. А сколько доброты, сколько отваги источал этот человек прежде!
Никто не заглядывает в наш дом, опасаясь подхватить заразу. Все торопятся куда-то, лишь бы подальше отсюда, забираются в горы драть лыко с лещины, чтобы потом замочить его в воде и покрыть им конюшни. Потому как дождь постоянно заливает, все кругом гниет, и картина мира безвозвратно разлагается. Если это продолжится, то скоро настанет конец света, случится новый потоп и новое начало. И стоит только кому-то запричитать, как всех охватывает беспомощность и отчаяние.
Не приехали к отцу из Воеводины четыре его брата, которых он постоянно звал в бреду и которые перед войной добровольно переселились на новые земли. Некому зарыдать и разогнать болезнь, полыхающую, словно лесной пожар. И только Шпиро вышагивает перед правлением кооператива и кричит: «Это саботаж! Сейчас, на самом пике действий и пропаганды, когда чуждые силы хотят поработить нас, он себе разлегся!»
Но не хочет он замечать того, как его и любая другая жизнь расходуется понапрасну.
Вчера, после ужина, внезапно заспешил к нам поп, волоча за собой свою черную пелерину и подметая ею дорожку. Выглядел он взъерошенным, как большая черная птица, оказавшаяся вдруг в окружении диких зверей. Я вижу, как ветер треплет его рясу, забрасывая полы на ветки придорожных кустов, а он стягивает их с колючек и поддергивает повыше. Пес полетел ему вслед, но он от него отобьется, даже взлетит, если потребуется. Словно послал его владыка дать отцу разрешение на уход в иной мир.
Нет Мията, который пришел бы, чтобы жестоко обругать своего родителя, а потом в страхе и раскаянии шлепнуть себя ладонью по губам. Нет и Босильки, которая столько раз просила отца разжечь ей на пасеке трут или навоз, чтобы начать наконец откачку меда. Слишком она любила отцовскую руку, которая не раз ложилась на ее грудь. Нет и Косы, которая все знает о том, что случается не только у нас, но даже и в соседней Италии. Знает, кто в день освобождения Билечи спалил портрет Муссолини, знает, кто с кем разругался, знает, почем мы итальянцам продаем лошадей и ослов, знает, почем этой осенью латиняне будут продавать нам сушеные фиги и вино. Точно так же знает, кто убил короля Александра и что будет в церкви на Страстную пятницу. Знает все вчерашние и завтрашние новости.
Отец ухватился ладонью за дверной косяк, ощупал его – картина столкновения творца со своим творением. Какая-то сила стремится прижать отца к земле, но он поднимается и распрямляется. Словно не опираясь на ноги, словно где-то внутри у него что-то оборвалось и сделало его безумно неуверенным в движениях. За стеной что-то шевелится, будто засада там засела; все вступило в заговор против него, и через мгновение грянут колотушки и колокольца, возвещающие смерть. Так они подадут Углеше знак вытащить краденые, уже пожелтевшие кооперативные доски и приступить к строительству гроба. О Боже, слышит ли хоть кто плачущий детский голос, уже много дней подряд доносящийся из-за дома?
В его шепоте отец превращается то в настоящего героя, то в несколько сомнительную личность: мало кто знает, как он вел себя, когда был украден кооперативный каймак. Но мы-то знаем, что именно он поймал воров, забравшихся в нашу конюшню, знаем, как он противился вырубке леса и продаже извести за границу. «Римляне рубили, турки, австрияки, да и все прочие, кто на нас наседал. А теперь и новая власть рубит и нас гнобит… Не позволю, чтобы землю нашу разоряли, не дам, и все тут!» Оборонял все, что его отец и сам он сотворили.
А потом вдруг всем в один прекрасный день пришлось высказаться: кто за Сталина, а кто за Тито. Отец стонал, вызывая у Шпиро подозрение. Он не воспринимал никакой политики – любая казалась ему лживой.
«Кто знает, по кому он рыдает и о ком печалится?» – говорил Шпиро, пребывая в полной готовности схватить его и допросить, если на то будет разрешение. Но и он побаивался поганой отцовской болезни, черной, как яд атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. «Не знаю, чего он там шепчет и по-каковски… Следовало бы обыскать топчан, на котором он лежит!» Я невольно вздрогнул от этих слов, под диким взглядом Шпиро, упертым в крышу дома, в его кровлю, будто он вот-вот бросится разбирать ее. Но угрозы так и остались угрозами. Спасли отца болезнь и молчание. Но я-то хорошо знаю: будь он здоров, стал бы критиковать кооперативную и всякую другую власть, что раздает указания крестьянам и хватает их за горло, которая хочет срубить наш старый дуб, в дупле которого он прятался во время войны, спасаясь от всеобщей резни. Он ушел в партизаны в самом начале, но кто знает, как бы он сегодня объяснил все то, что ему самому было непонятно, и на каких истинах стал бы заикаться.
Мама ковырялась около покосившегося забора, стараясь изо всех сил выполоть одуванчики с грядки, где рос ранний зеленый салат, с корнем вырвать щир и лебеду, подготовить землю к посадке лука и свеклы. На таком трудолюбивом существе просто должны оставаться следы боли. Руки ее были в мозолях от лопаты и мотыги. Вместо того, чтобы сидеть рядом с отцом, слушать и запоминать его слова. Напрасен весь ее труд, сорняки весь огород заполонили, душат и уничтожают его. Добрались они и до стены дома, облепили ее с южной стороны, где больше солнца. Всё и вся должны защищаться от всепроникающего разрушения и гниения. Не хватает времени даже почувствовать боль от укола вязальных спиц в ладонь. Она хирела от непосильных трудов быстрее, чем должна была бы и могла. Задыхаясь от усталости и волнения, она вваливалась в дом, выхватывала из шкафчика бутылочки с лекарствами и вливала их отцу в рот, отыскивая глазами икону Пресвятой Богородицы на стене. И тогда во взгляде ее светилась слабая надежда. Все равно как в легкой улыбке отца, появлявшейся на его лице, когда боль немного стихала. Потом из уголка его губ стекала струйка желтой жидкости с сильным и неприятным запахом.
Шпиро развязал кампанию по сбору и уничтожению инвентаря, оставшегося от старого и прогнившего королевства и прочих капиталистических структур, но отца она не коснулась. У специального столба, вкопанного перед зданием правления кооператива совсем как для повешения преступников, стоял небольшой столик с какой-то немецкой надписью. Вокруг этого столика, словно около какого-то монстра, толпился народ, а Шпиро тянул свою шею из кооперативного окна и заявлял: «Я знаю, что многие прячут по домам больных, знаю, на каких покрывалах развлекаются некоторые личности!» Может, он имел в виду отцовское вышитое покрывало, подарок путешественнику, сувенир из Баната.
А здесь, на расстоянии вытянутой руки, у очага, отцу колет глаза недоделанная бочка для воды, которую осталось совсем чуть-чуть дострогать и набить на нее стальные обручи. Инструменты он развесил по стене в полном соответствии с движениями своих мастеровитых рук. Все инструменты были на виду, но что-то вечно пряталось и скрывалось. Затерялось долото с округлым лезвием, само по себе закатилось куда-то и пропало. Большая стамеска и бурав висели над дверью; они ощущали пот отцовских рук, проникший в дерево и металл. Даже знаменитый Видак Мастилович не мог направить струю из запруды, чтобы вода попадала на мельничное колесо, пока отец не показал ему, как это сделать. Здесь и бочонок для ракии с девятью крепкими обручами, который он начал делать. В нем мы будем хранить ракию, закупленную специально для празднования именин, дней всех святых и других православных праздников. Глядишь, кто-нибудь да напьется, позабыв про военный голод и все прочие ужасы, которые довелось пережить. Все это мучает и грызет отца, но кто видит это?
Отцовские губы извиваются в болезненной гримасе, как будто именно сейчас он хочет сказать нам нечто очень важное, поведать тайну, которую он сохранил, пройдя множество лагерей. Но гортань его испускает лишь тихий стон.
Из окна доносится запах молодой травы, соскучившейся по старательному косарю. Только теперь становится очевидным, насколько сурова природа, как каждый стремится плюнуть в больного, унизить его. Бабочка в нашем доме внезапно застывает на стене, и отец наверняка злится, что плохо ее оштукатурил. Она кажется ему кривой и желтой. И вот-вот обрушится на его грудь. Солдатские ботинки висят на гвозде, прибитом над кроватью, их удерживают крепко завязанные шнурки. Рядом повисли патронташ и рюкзак, повидавший еще первую войну. Кто бы мог подумать, что на стене соприкасаются два всемирных пожара! На клапане рюкзака видна дырка, проделанная пулей, прошедшей сквозь мышцы отцовской руки. Рюкзак этот – настоящая хрестоматия, полная воспоминаний. Чего только в нем ни доставляли контрабандой не только в Герцеговину, но и в Далмацию – от желтой махорки из Требиня до сушеных семян самых разных целебных трав. Только об этом можно было бы сочинить настоящий роман, но жизнь и болезнь отца повернули русло в другом направлении, наступило смешение времен: что было, что стало, что будет. Однажды отец принес из Боки полный рюкзак женских пряжек, иголок и шил для пошива обуви. (Не зря стали говорить: «Колет, как шило Огненово!») Как-то ему всегда удавалось счастливо избегать жандармских глаз и кулаков. Ему никогда не нравилось, когда жандармы спрашивали: «А как нам добраться до Шипанича?» Он прикидывался дурачком, который никогда не слышал про эту деревню. «Что это за дурацкие Шипаничи?» – удивлялся он и заметал следы, поскольку твердо знал, что жандармы по добру не ходят, а только по злому навету. Позолоченные карманные часы с цепочкой лежали закрытыми на комоде как некая святыня, работающая сама на себя и никому ничего не показывающая, тикая без завода и без всякого присмотра со стороны. Их носил только дед при жизни, торжественно извлекая их из суконного галифе, чтобы посмотреть, давно ли минул полдень, и лишний раз полюбоваться чудесным движением стрелок. Впрочем, он дивился всему и всем восторгался. Вечером он с удивлением всматривался в знаки циферблата, будто это были внушительные цифры общинного банка, вслушивался и проникался их тиканьем, напоминавшим биение пульса, до тех пор, пока сон окончательно не овладевал им. («Тик-так, и жизнь проходит!») Как будто ждал, что из этого механизма вот-вот появится дух его отца, которому следует низко поклониться. Он никак не мог понять, почему так быстро пролетела молодость, почему неумолимо тают и сокращаются дни его жизни.
Но теперь никто больше не помнит проповедей носатого и всегда чуточку пьяного попа Зимонича, который всем, от мала до велика, твердил: «Не делай другим пакостей, потому как сам себе зло этим творишь!» Но кто ж ему поверит? Да и сам поп иной раз забывал свои слова, и однажды так шибанул Алексину сучку камнем, что та скулила весь божий день и корчилась среди своих щенят. «Он не за всех одинаково Богу молился, за хворого и за здравого, за крепкого и за немощного. Если б он по справедливости поступал, то одни бы не подыхали от голода, а другие с ума бы не сходили от обжорства!» – говорила всем и каждому Ешна без всякого стеснения.
Танасий, что сидит под грушей (всю молодость в ее тенечке провел), бросает камешки в трубу Миятова дома, но тогда только, когда тот его не видит. А вот и Димитрий, весь потный и понурый, сожалеющий, что поздно пришел и не успел во все эти дела ввязаться. Дождь не прольется, если он о том первым не объявит. Знаю, сразу начнет причитать и плакаться о своем родном брате, с которым он годами не разговаривает и которого сторонится, будто тот ему кровный враг, а не самый близкий на свете человек. Будто не одной титькой их мать кормила. Аж страшно делается и верить в то неохота, даже если тебе сто раз подряд об этом расскажут.
Жара становится все сильнее в эти дни ожидания и отцовских мук. Иссохшая трава жалостно торчит из потрескавшейся от жажды земли. Покрывается Ешнина голова седым волосом, будто на ней парик вырос. Горячий ветер и в тени обжигает крепче, чем на припеке. Словно лето нынешнее вышло из-под контроля, и мир окружающий вновь погружается в хаос.
Пересохшее треснутое деревянное корыто больше ни на что не годится. Пчелы лениво слетаются к бывшему болотцу, а мы вспоминаем, каким оно было, и хоть малый миг этими воспоминаниями живем. Ящерицы и жабы носятся, толкутся в этом божьем огне и царапаются. Только бы змеи в водосборник не залезли, а то нам и напиться неоткуда будет. Когда они спариваться начинают, то сплетаются в клубок и так замирают на несколько часов.
Если Танасий малость получше всмотрится, то поймет, что уже не раз в жизни видел такой пейзаж, а это значит, что его жизнь печально повторяется. Если глянет он наверх, в крону дерева, то увидит, что торчит там Никодий, застрявший в ветках. Как будто в эту жару немного помутилось в голове. Он рассказывает о большом паводке, что ему прошлой ночью приснился. Снилось ему, как вода несет и дома, и людей, и скотину: «И все так вот парят над водой, и никто не тонет. И вдруг, откуда ни возьмись, ил появился и замутил воду. И тут Огнен оказался, худой и бледный, и одним махом бочку воды выпил. И ветер поднял его и унес в облака!»
– Дождемся мы дождя когда-нибудь? – спрашивает кто-то, а мы его и не видим. – Может, это болезнь Огненова всем нам проклятье? – Молодая девушка промчалась по дороге, заскочила к Стамене. А мы и не заметили, чья она. Не успела порог перешагнуть, как тут же вынула белую грудь и столкнулась с женщиной, у которой руки в тесте были, потому как она ржаной хлеб собиралась печь, и которая странно так на нее посмотрела.
– Выскочила у меня родинка среди ночи… Приснилось мне, как из нее кровь хлынула. А из раны свет пролился и всех нас осиял! Слышу звон в ушах какой-то и с ума схожу от него. Что-то с нами будет? – кричит девушка. Но нет ни на этот, ни на другие многие вопросы ответа, потому как молчит Стамена. Кто знает, может, его так и не будет никогда.
Ящерицы и шмели дохнут в этой всеобщей драме. Тебе их тоже жалеть следует. Скотина околевает, ее гонят на водопой к обмелевшей речке; а пока вернется, опять ее жажда мучит. О, что за напрасный труд эта жизнь! Общественные бидоны из-под воды печально стоят в нашем водосборнике, уже тронутые ржавчиной. Никто их не трогает, хотя есть еще самая малость на дне резервуара; все боятся заразиться жестокой отцовской болезнью. И никто больше не спрашивает у нас чугунную печку для обжарки кофейных зерен, которую привезли вернувшиеся из Воеводины. На дороге чуть выше нашего дома, на самой заре раздается песня. Кто-то лопается от здоровья и с радостью себя тешит.
Из отцовского закутка доносится табачный дух, вызывая желание закурить. Такой табак при всем желании спрятать не удастся. Отцовская трубка лежит на деревянном блюде – на дне ее скопились сажа и никотиновый яд. Он сегодня уже и припомнить не может Мията, который ему эту трубку привез из Дубровника.
Отец дернулся и застонал. Мать, как по сигналу, выскочила с большим жбаном на плече. Эта борьба с несчастьем – единственное, что еще позволяет ей жить. Она возвращается, неся комки снега, чтобы утолить отцовскую горечь и жажду.
Мой плач раздается с утра, но никто и не думает утешать меня. «Что это у вас малый днями напролет поет?» – кричит Шпиро, ухо которого прослушивает весь Биш.
Жесткими ладонями отец хватается за снег, как за спасательный круг. Он открыл рот, чтобы высвободить огонь, выгнать его изнутри. Глотает снег и прикладывает его к ране безостановочно. О, есть ли муки страшнее его мук? Боль опять охватывает его и разрывает горло. Мать склоняется над ним, жизнь бы отдала, если бы смогла. Вынимает левую грудь, чистую и белую, как летнее облако, подносит ее, словно к ребенку, и цедит молоко на рану. Точно как лик Богородицы над мучеником. Смешивается сукровица раны с белым молоком из материнской груди. Прикладывает к ней листы подорожника, лютика и полыни, смешанные с медом. Эти травы всегда вместе прикладывают. Так уж получилось, такими их природа создала. И в конце накладывает на рану цветы сушеные, которые прислал некий знахарь Салатич из Богдашича. Пока она все это проделывает с раной, треск в балках и стропилах разносится по всему дому. От него у всех нас кровь в жилах стынет. Догадывались мы, что он означает.
Нет больному лекарства. Погрузившись в тайны свои, попрятанные по углам и ящикам всего дома, утихомирился отец без слов и стенаний. Окоченело лицо его, сморщенное и пожелтевшее. Голова скатилась на правый бок, руки поднялись во взмахе – уловили они момент распятия.








