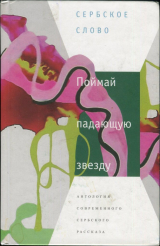
Текст книги "Поймай падающую звезду"
Автор книги: Горан Петрович
Соавторы: Радован Бели-Маркович,Михайло Пантич,Васа Павкович,Вида Огненович,Драгослав Михаилович,Елена Ленгольд,Милован Марчетич,Давид Албахари,Светлана Велмар-Янкович,Радослав Братич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
Не хочется мне подниматься выше дома. Там может оказаться еще хуже, чем здесь. Как к нему подобраться, ведет ли к нему сверху дорога? Где они берут воду? Но эта загадка не занимает меня настолько, чтобы ради ее решения продолжать карабкаться по всем этим колдобинам. Сворачиваю налево.
Здесь, под домом, коровьих лепешек вроде бы нет. Или чабаны слишком воспитанные, чего от них трудно ожидать, и не лезут сюда со скотиной, или хозяева, обозлившись, не позволяют им этого делать. Свой посох я держу как сапер миноискатель, и шарю им в высокой, местами по колено, траве, но он всего лишь спасает меня от переломов ног и рук в замаскированных травой ямах. Грибов, в поисках которых я брожу, как не было, так и нет. Меня обуревает желание увидеть хотя бы поганку – она бы означала, что поблизости есть и другие грибы. Но все вокруг сгорело, нет даже поганок.
Через пару сотен метров я поворачиваю налево. Возвращаюсь в обратном направлении, только чуть ниже. И – никаких изменений. Только сухая трава и бесчисленное множество трутовиков на деревьях. Не знаю, может, именно они когда-то служили трутом, когда огонь высекали кремнем, но если бы это были именно они, то их можно было набрать столько, что весь Белград только и высекал бы искры из кремня.
Выхожу на какую-то просеку, вроде тех, что делают в лесах в противопожарных целях или при прокладке высоковольтных линий. Она с десяток метров шириной, всё, видимо, было вырублено и вычищено несколько лет тому назад. Молодые осинки, березки и рябинки проклюнулись и уже достают человеку до колена. Но листва у них редкая и пыльная, они задушены высохшей травищей, и выглядят бедненько и печально. В счастливые времена рядом с ними охотно соседствуют и грибы, особенно подосиновики (подосиновики в осиннике – какое прекрасное зрелище!), а иногда и белые, там они нежатся, совсем как кошки на теплой печке. Сейчас, конечно, ничего этого нет. Напрасно мой посох-миноискатель усердно обнюхивает землю в поисках молодых красавцев. Нет ничего, и все тут.
Я отказываюсь от дальнейших поисков. Подзываю Тузика, который скачет вокруг меня:
– Давай, Тузик, пошли отсюда!
Он радостно подбегает и пристраивается к ноге. Он всегда радуется, когда понимает, что мы отправляемся домой.
5
Спускаемся вниз, в поселок. Хочется как можно скорее выбраться из этого хаоса.
Выходим на красноватую дорогу около какой-то вырубки, похожей на озерцо. Сразу за дорогой начинаются дома.
Выходит старушка в платочке, что-то в обеих руках несет. Крестьяне вечно что-то куда-то несут.
Здороваюсь с ней, она приветливо откликается.
– Это твоя псина? – спрашивает. – Не покусает?
– Нет, нет, – отвечаю. – Не бойся.
Вечно они собак опасаются, будто те – их заклятые враги.
– Я и не боюсь, – говорит, – да кто знает, какой у него характер? Ты что, по грибы пришел?
– По грибы, – говорю. – Только их что-то нынче нет совсем.
– А что? – спрашивает. – Тебе жить надоело? Или есть совсем нечего?
И грибы их тоже пугают. Даже те, кто их собирает, дома не едят, а относят на продажу.
– Не то и не другое, – отвечаю. – Просто нравится.
– А, – говорит, – ты просто помешался на них, причем давно. Ну да ладно, пусть тебе повезет.
– Дай Бог и тебе, – отвечаю.
И она уходит. Позволяю ей отойти подальше.
Еще немного толкусь тут, как будто ищу что-то, а когда она скрывается за домами, иду по ее следам к месту, с которого поднимался на холм.
Выхожу на околицу. Сейчас на том месте, которым я недавно прошел, пасется стадо овец. Рядом с ним какая-то крестьянка.
Моментально беру Тузика на поводок. Как-то раз они с Юцей около моего дома так облаяли и погнали стадо – овец в тридцать, что мы догнали скачущую скотину только за третьим холмом. Не знаю, у кого голова болела больше – у меня или у пастуха. Он мне несколько раз припомнил мать мою родную, безумную и шарахнутую.
Заставляю Тузика идти у правой ноги, чтобы отсечь его от созерцания животных, здороваюсь с женщиной и прохожу повыше стада в направлении плоскогорья. Удалившись, замечаю слева от себя весьма крутой и короткий склон, поросший деревьями и выглядящий многообещающе. Отпустив собаку, сразу направляюсь вниз. И забываю дать знать о себе Аце.
Сразу замечаю, что и здесь пасется скотина, но ниже, и еще ниже, и еще чуть ниже – должно быть, все-таки что-то есть. Кроме того, склон этот, похоже, совсем рядом с той промоиной, по которой я добрался сюда. И Аца никак не может оказаться далеко от этого места.
Смело отправляюсь вниз по склону. И в самом деле, пройдя каких-нибудь метров сто, замечаю что-то в глубине.
Неужели они? Кажется, несколько штук! Везучему грибнику везет – но только в конце и никогда в начале.
Спешу, опираясь на посох и, конечно же, озираясь, чтобы чего не пропустить. Сюда, похоже, скотина не забирается. Слишком крут склон для состарившихся пастухов.
Спускаюсь еще метров на пятьдесят, и они на самом деле – тут. Не бог весть какие – несколько поврежденных и объеденных слизняками. Средних размеров белый, старый и потемневший, три-четыре рыжика, с надгрызенными и позеленевшими краешками, и пара ложных рыжиков с белыми донцами шляпок.
Ложные рыжики не трогаю, настоящие чищу, осматривая на предмет червей; больше половины приходится выбросить. Колеблюсь по поводу белого: не червивый, но мясо уже потемнело и стало мягким под шершавой шляпкой. И все-таки беру его. Осторожно складываю свой урожай в корзину.
Рядышком вижу еще несколько грибных пеньков. Овцы, козы либо коровы все-таки добрались и сюда. Ничего хорошего в этом нет.
Потихоньку спускаюсь. Кустарник тут немного гуще и мельче, попадаются и проплешины. Останавливаюсь и осматриваюсь. Все еще ничего.
Сдается мне, что немного ниже должен быть если не ручеек, то хотя бы какая-то влага. Ну, еще немного, давай, давай, и вот уже дно оврага. Но ручейка нет. Как нет и грибов.
Оглядываюсь. Теперь кругом только лес, и плоскогорья, с которого я спустился, уже не видать. Не видно и места, с которого я начал спускаться.
Передо мной откос, по которому можно выбраться из оврага. Прихожу к выводу, что его вполне можно одолеть. И, поднявшись наверх, я окажусь рядом с язычком, на котором простился с Ацой. Потом еще немного влево, и вот мы наверху.
Подъем действительно не долог. Но, поднявшись на гребень, вижу перед собой новый спуск к новому оврагу. Лес стал гуще и больше, так что я ничего не вижу ни спереди, ни сзади.
Ничего не остается, как продолжать двигаться в том же направлении. Далеко я не успел уйти, потому, надеюсь, сумею выбраться.
Между тем, спуск очень длинный, да и становится все круче. Под ногами у меня толстые слои листьев и иголок, под ними – подгнившие ветки и невидимые камни и ямки. Так что я часто спотыкаюсь, иной раз едва удерживаясь на ногах. В лесу уже мрачновато, влажный воздух заметно похолодал.
Барахтаюсь пятнадцать, двадцать минут, но выхода так и не вижу. Наконец замечаю впереди ручей. Он небольшой, да и не бурный, по его берегам в глине множество отпечатков коровьих копыт. Сюда, похоже, пригоняют скотину на водопой. Слышу и Тузика, который неподалеку громко лакает воду.
– Тузик, – зову, – где ты? Тузик, ко мне!
Он стремительно выбегает откуда-то из-за моей спины, с высунутым языком и мокрой мордой.
– Где это мы?
Псина улыбается, шумно дышит боками и опять убегает.
Я опускаюсь к воде и умываю потное лицо. Сажусь на камень и осматриваюсь.
Сейчас бы, с помощью ручья, следовало поскорее выйти на направление к тому размыву, по которому мы с асфальтированной дороги поднялись на тропу, ведущую к дому в горах. Надо всего лишь вместе с ручьем повернуть влево, и мы выйдем, куда следует.
Но ручей, как ни странно, не поворачивает влево, где должен был бы соорудить тот самый размыв, а уходит направо. И в то время как слева он спокоен и скуден водою, справа отчетливо слышится журчание и клокотание. Что же там еще?
Боюсь остыть, сидя на камне, и потому отправляюсь в путь. Все-таки иду налево. Там должен быть выход.
Прыгая с камня на камень, перебираюсь на другой берег, где, кажется, тропа поудобнее. Прохожу по ней с сотню метров, после чего вынужденно возвращаюсь на правый берег. Замечаю, что течение становится все беднее, и ручей превращается в прозрачные лужицы, практически непроточные. Еще два-три раза перебираюсь с одного берега на другой, и тут ручей исчезает. Он тек от холмика, похожего на нахлобученную шапку, и был виден, а тут вдруг исчез.
Я призадумался. Эта шапка передо мной ничего хорошего не обещает, и я возвращаюсь вниз по течению.
Так потихоньку добираюсь до места, где я вышел к воде, и продолжаю идти в ту же сторону. Но уже метров через пятьдесят натыкаюсь на крутые берега, что вынуждает скакать по ручью с камня на камень. Обогащенный какими-то подземными источниками, этот поток бурлит и клокочет, как будто приближается к водопаду, и там уж я точно не смогу через него перебраться. Сейчас он уже похож на настоящую речку, и если я пойду вдоль нее, то, наверное, выберусь на Градац, речку, что протекает через Валево. И, если останусь в живых, через несколько дней выйду к Валево.
Нет, направление на Валево – не мое. Какого черта я забыл в Валево! Возвращаюсь назад.
Вновь в подходящем месте перепрыгиваю через ручей. И – теперь передо мной настоящая гора. Скалистая, крепенькая и, конечно же, поросшая лесом. Теперь ничего уже перед собой не вижу, кроме высокой горы и чистого светлого неба. Где же это я оказался?
6
Ползаю по каменистой горе влево и вправо, отыскивая подходящий проход. Мне все еще кажется, если заберусь на вершину, то найду, по крайней мере, дорогу на Валево. А там уж совсем просто. Но через полчаса понимаю, что опять ошибся.
Два или три раза приближаюсь к самому краю обрыва. Его граница, кажется мне, всего в нескольких десятках метров отсюда, добрался – и все получилось. Смущает только то, что за обрывом простирается все тот же дикий пейзаж со скалами и толстенными соснами. Когда, продираясь сквозь кусты, я добираюсь до места, где кончается обрыв, передо мной вновь возникает пропасть. И где-то внизу, наверное, опять такой же ручей, и опять начинается подъем.
Я слышал, что в таких случаях хозяину может помочь собака. Схватишь ее за хвост, гласит легенда, и он вытащит тебя туда, куда тебе надо.
Зову Тузика. После некоторой паузы он является. С любопытством заглядывает мне в глаза. Он из тех псов с характером, которые не боятся человеческого взгляда и всегда открыто смотрят тебе в лицо.
Я разворачиваю его от себя и хватаю за хвост.
– Давай, Тузило, – говорю. – Веди меня. Пошли домой.
Он повернулся, удивленно посмотрел на меня и сел. Тяжело дышит от усталости, вывалил длинный язык.
– Давай, Тузен мой, пошли домой, – повторяю я, приподнимаю его и ставлю на все четыре лапы. – Пошли домой! Двигай!
Однако он воспринимает все это как шутку и, оскалясь, делает вид, что хочет меня укусить. Щелкает клыками и крутит головой во все стороны.
Вот что значит содержать избалованных, необученных собак. Хватаю его за влажную морду и подтягиваю к своей голове.
– Ты, Тузенбах, – говорю ему, – такой же умный, как и твой хозяин: ничего не понимаешь.
Пес все с тем же любопытством заглядывает мне в лицо.
Что же делать, думаю я. В какую сторону податься?
Понятия не имею, что делать. Если б хоть покурить можно было, страдаю я. Я как раз сейчас переживаю один из многочисленных периодов решительного отказа от табака, что всегда случается со мной в самый неподходящий момент. Если бы я еще курил, думаю, и у меня были сигареты, то прислонился бы к дереву, засмолил, и табачный дым прочистил бы мне мозги. А так я могу всего лишь развалиться на подгнивших листьях и иголках, призывать на помощь и рыдать. И дать альпинистам возможность лет через пять обнаружить себя в виде живописно оскалившегося скелета, зубастого и побелевшего.
Отдыхаю минут десять, после чего трогаюсь. На штурм неба! – как сказали бы знаменитые революционеры. Вперед, на бородатые ели и косматые сосны! Через камни и рытвины, и до, мать ее, победы!
7
Мне просто худо делается, как только представлю, какой путь предстоит проделать. Теперь он даже не трудный, но каменистый, и все по горам. Кому под силу одолеть эту полосу препятствий, состоящую из подъемов и спусков под пятьдесят градусов, когда приходится скакать, словно горный козел, с камня на камень? Куда смельчака выведет такая «дорога»? Что ждет его на вершине?
Ничего не вижу, ничего не знаю и отчаянно не желаю ничего знать. Иду практически наугад, перебираюсь через первый попавшийся овраг. Иду, и пропади оно все пропадом.
Устал смертельно, ноют ноги и руки. Хорошо еще, что дома надел отличные, крепкие ботинки, которые здорово стягивают стопы и не пропускают воду, иначе я бы сейчас босиком топал.
Мое интернациональное снаряжение теперь, хотя бы частично, оправдывает свое назначение. Правда, шляпа из Бечея до середины полей промокла от пота и сильно обмякла; на привалах я снимаю ее с головы, которая дымится от жары, чтобы утереться давно уже промокшим платком. Но корзина из Багрдана, а особенно суковатый русский посох, так и прыгают в моих руках, совсем, как вьючные лошадки по кручам.
Глубокая грибная корзина, крепко сплетенная из жилистых ветвей моравской вербы, вообще-то предназначенная для иных целей, на спусках служит мне поддержкой, я могу опереться на нее всем своим весом. Она гнется подо мной и скрипит, но выдерживает, сохраняя при этом богатую добычу в виде нескольких, видимо, несъедобных трутовиков. А уже отполированный руками извилистый посох из неизвестного мне дерева, похожего на ясень – наверное, родом из Сибири, думаю я, и это придает ему в моих глазах некую таинственность – легкий и тонкий, с естественным образом изогнутой ручкой, демонстрирует свое многоцелевое применение. Я опираюсь на него на равнинах и неровностях, цепляюсь ручкой за ветки, когда хочу вскарабкаться на крутой откос или спуститься с него, пользуюсь им, как ступенькой, втыкая в землю и опираясь на него стопой. Он разнообразен и богат достоинствами, совсем как толстые и пестрые ярмарочные перочинные ножи с множеством инструментов, которые дают возможность исполнять двенадцать видов работ, и к тому же так восхищают детей и крестьян.
Часто поглядываю на небо. Успею ли выбраться до наступления темноты? Беспокойство придает мне новые силы, которые, однако, уже практически иссякли.
Часто падаю и шлепаюсь на задницу. Если, думаю, подведет меня позвоночник, которым давно страдаю, или сломаю ногу или руку – всё, конец. Никто меня здесь искать не станет, а если и станет, то точно не найдет. Но пока что все обходится без серьезных травм.
Я уже не понимаю, в каком направлении двигаюсь. Вроде бы все время тащусь вперед, правда, огибая препятствия, которые выставляет передо мной пейзаж, так что действительно ли я шагаю вперед, или сворачиваю налево, направо или даже назад – не знаю. Понимаю только одно: нельзя останавливаться.
Зная свои способности ориентироваться на местности, которые позволяют мне заблудиться даже в собственной квартире, меня особенно беспокоит то, что я нигде ничего не вижу. Если бы увидал хоть что-то, что помогло бы сориентироваться, мне бы полегчало. А так – просто куда-то прусь, ковыляю, тащусь, падаю и поднимаюсь, так что сам себе напоминаю муравья, который отыскивает переправу через широкую реку и никак не может найти даже соломинку, способную стать для него символом надежды.
Возникают передо мной какие-то продольные гребни, словно ножом врезанные в скалы и заросшие свежей высокой травой. Они не длиннее десяти метров и не шире полуметра, похожи на фермы моста через Мораву, по которым свободно бегали окрестные пацаны. Буки, ели, сосны и разнообразные кусты растут рядом с ними, на метр или два ниже. Мне кажется, что они венчают окончание всех этих невероятных подъемов и спусков, миновав которые, я окажусь прямо перед Ациной машиной.
Отважно направляюсь к первому из гребней. Чтобы вскарабкаться на эту естественную гряду, мне придется проявить еще большую чем прежде, ловкость и силу, и вновь мне на помощь приходят мои корзина и посох. Опираюсь, карабкаюсь с их помощью, отталкиваюсь ими. Иногда колени упираются мне в подбородок, и мне хочется растопырить ноги, чтобы оседлать гребень, как коня, и немножко передохнуть.
Наконец мне удается одолеть его. Еще несколько шагов – и, кажется, достиг цели. Теперь вижу, что гряда вдруг почти отвесно обрывается, с высоты в несколько метров погружаясь в скалистую почву, откуда вновь открывается вид на очередной бесконечный подъем. Природа опять сыграла со мной злую шутку.
Три или четыре раза обманули меня эти гребни. И тогда, обнаружив очередную гряду – вроде бы наверняка обещающую спасение – я спокойно заявляю:
– Врешь, не обманешь!
И под собственное пыхтение продолжаю шагать вдоль него, в направлении, которое направлением, собственно, и не является.
Время от времени бросаю взгляд на часы. Но никак не могу вспомнить, когда я расстался с Ацей: два, три, четыре часа тому назад, хотя это уже не имеет никакого значения. Больше всего я боюсь, что ночь застанет меня в горах. И потому все чаще поглядываю на небо.
Неожиданно этот головокружительный подъем заканчивается и без предупреждения переходит в достаточно пологую каменистую возвышенность длиной в несколько десятков метров, разукрашенную мелкими саженцами сосен. Меж камней пробивается высокая трава.
Я вижу, что наверху, передо мной, нет более ни рытвин, ни холодного мрака, ни толстых стволов. Горизонт чистый и широкий, а над всем этим голубеет огромное безоблачное небо. О, слава тебе, Господи, как говорят старухи.
Я здесь, восторженно думаю я. И спешу, помогая себе посохом и корзиной. Вперед! Мы пришли! Я выбрался!
– Тузик! – кричу. – Мы пришли, иди сюда!
Набираю скорость, как стайер перед финишем. Приблизившись к самой границе возвышенности, замечаю впереди проселочную дорогу.
Это что еще такое? Неужели по ней тащатся крестьянские воловьи упряжки? Где это я оказался?
Делаю еще несколько шагов, пока не выбираюсь на узенькую грунтовку. И обнаруживаю, что оказался на огромном овальном сгорбившемся плоскогорье. Все его пространство покрыто зеленью и белыми проплешинами, и оно в нескольких сотнях метров обрывается, переходя, видимо, в обрыв.
Это что еще такое, думаю я.
Поворачиваюсь налево, и взгляд мой в паре сотен метров упирается в глубокое темное ущелье, по ту сторону которого пробегает выбеленная асфальтированная дорога. По ней навстречу друг другу проносятся два автомобиля величиной с божью коровку. И я узнаю эту валевскую дорогу, ведущую к Дивчибару.
– Господи, – взываю я посреди глухой природы, – как ты сумел привести меня именно сюда? Если ты хотел показать мне место, на которое я выбрался из бездорожья, чтобы остаться тут навсегда, то у тебя это прекрасно получилось. Теперь я смогу комфортно покончить жизнь самоубийством, было бы только чем.
8
Стою в панике еще несколько мгновений, после чего, прихрамывая, ковыляю к самой пропасти. Вижу, что грунтовка рядом со мной идет по краешку плоскогорья опять куда-то в сторону Валево. (Какого черта сдалось мне это Валево!) Раскладываю рядом свое снаряжение и с трудом опускаюсь на выщипанную травку. Поворачиваюсь ногами к возвышенности и, опершись на локоть, наслаждаюсь видом. Будь я ребенком, умеющим летать во сне, распростер бы руки и полетел! Спланировав, словно ястреб, над пропастью, в мгновение ока прекрасно бы опустился на шоссе.
Тузик подбежал ко мне и прилег на бок, вытянув лапы, как и я, в направлении возвышенности. Зажмурился, словно намереваясь заснуть.
С того конца плоскогорья, где исчезала грунтовая дорога, нас осветил последний оранжевый луч солнца. И был он похож на безмолвный привет.
Я опустил засученные рукава толстой рубашки и прилег, подложив под голову руку.
– Только на минутку, – произнес вслух.
И тут же задремал.
Через пару минут проснулся. Показалось, будто ноги немного отошли. Да и в голове как-то прояснилось.
– Пошли! – командую собаке.
И встаю. Тузик послушно встает вслед за мной.
Собираю снаряжение и решительно направляюсь к ущелью.
– Если через полчаса, – добавляю, в то время как отчаявшаяся псина с недоумением смотрит на меня, – не доберемся до шоссе на Валево, то, считай, мы пропали.
Так что выбирать не приходится. Опираясь на посох и корзину, сползаю по крутому склону, и на каждом более-менее ровном местечке без камней делаю широкие шаги. Скольжу по траве и валюсь на бок, падаю на задницу и лечу на ней, как на санках. При этом рассыпаю свои грибы, но тут же старательно собираю и возвращаю их в корзину.
Встречаются на пути и серьезные препятствия. Большие деревья, толстые сломанные ветки, высокая сухая трава, под которой прячутся ямы и промоины, огромные скалы, склон градусов в пятьдесят – всё препятствует моему продвижению. Но я, не колеблясь, преодолеваю все, не оставляя себе времени на размышления. Принимаю к действию первое, что приходит в голову, и просто спускаюсь в избранном направлении.
У меня исцарапаны лицо и руки, и одежда моя все больше страдает. Куртку я давно набросил на спину, завязав на груди рукава, так что не мог определить, насколько она пострадала. Брюки на коленях и на заду в дырах, а вязаный жилет местах в трех порвался. Ботинки, остающиеся, как это ни странно, все еще в исправном состоянии, вместе с одеждой беспощадно заляпаны грязью. Но я не обращаю на это внимания и продолжаю рваться сквозь непроходимые заросли. И только взгляд мой не отрывается от того места, где нас ждет спасение.
На гору все ощутимее опускается мрак, и сердце мое замирает в страхе. Крепчает и горный октябрьский холодок, но я, вспотев, не замечаю его. И мучает меня только один вопрос: сколько еще осталось? Успею ли я?
Кое-как скатываюсь на дно ущелья. И опять на моем пути встает какая-то река. Прыгая шустрым козлом и соскальзывая время от времени в воду, не раздумывая, пересекаю ее. Теперь спасительный отрезок шоссе где-то высоко надо мной, и я не вижу его из-за помрачневшего уже леса. Но все-таки до него отсюда не больше ста метров, и я больше не могу промахнуться.
Приседаю на камень, чтобы вылить из обуви воду, и сразу же начинаю карабкаться по скользкому склону. Опять мне приходится сворачивать то влево, то вправо, обходя препятствия. Все чаще натыкаюсь на колючие кусты шиповника и терновника, на колючую горную сливу, на кусты ежевики и стебли других ягод, которые путаются у меня в ногах, а также на бог знает какие опасные кусты, которые образуют передо мной неприступную стену, сквозь которую мне никак не пробиться.
Опускаю голову, только так могу смотреть перед собой. Но упорно пробираюсь вперед, вытаскивая из одежды колючки, стараясь, чтобы они меня не слишком сильно оцарапали.
Так я пробираюсь пятнадцать минут.
Вдруг за большим кустом ежевики обнаруживаю гору мусора. В ней – уже ставшие классическими пластиковые пакеты и бутылки, какие-то сопревшие прутья, зола, просыпанная земля, сгнившие арбузные и дынные корки, расколотые кабачки, потрескавшаяся желтая тыква с рассыпанными почерневшими семечками и прочие отбросы. Куча откровенно смердела.
Такая помойка не может быть вдалеке от дороги. Братья сербы, восклицаю я мысленно, милые мои, я ваш! Обнимаю и целую вас! Вот я! Протяните мне руки! Рвусь прямо сквозь куст. Раскидываю его ветки и посохом, и корзиной, и руками. Наклоняю голову, чтобы не выцарапать глаза.
Потом ступаю прямо в центр свалки. Нога моя утопает в мусоре по щиколотку. Но меня это не волнует, я только стараюсь не упасть и не измараться еще больше.
И так вот делаю первый, второй и третий шаг в смердящей атмосфере. И уже вижу перед собой обочину шоссе. Я тут!
Еще немного побарахтаться. Вытаскиваю ноги из пакетов и бутылок, размахиваю посохом и корзиной. И оказываюсь прямо перед обочиной. Отсюда всего метр до дороги.
Смотрю наверх. Да, это то самое шоссе. Братья, вот он я!
Выбрасываю наверх снаряжение. Из последних сил выбираюсь на берег. Распахивая руки и расставляя ноги, выпрямляюсь посреди дороги.
Братья, объявляю вам, я прибыл! Я выкарабкался.
9
Вскоре меня накрывают сумерки. Чувствую, как из леса выползает горный осенний холод, который постепенно начнет щипать уши и щеки. Но пока он только радует меня.
Стою, раскорячившись, посреди белесого асфальта, как слепой котенок. Ноги мои дрожат, в бессилии опираюсь на посох. Начинаю пыхтеть и отдуваться, как трактор, пытаюсь исцарапанными и исколотыми руками хоть как-то привести в порядок одежду.
– Тузик, где ты? – обернувшись, зову ослабевшим голосом. – Мы пришли. Давай сюда, наверх!
Он внизу пробивается сквозь заросли и пытается выскочить на обочину. Получается у него только с третьей попытки.
– Иди сюда! – зову я его.
Он устало подходит и опирается на мою ногу. Я глажу его, снимаю с него репейники и колючки. Стараюсь осмотреть его на предмет обнаружения клещей.
– Оба мы изодрались, – говорю ему.
Он смотрит на меня снизу, потом облизывает ноги. Язык у него синий, как ятрышник.
– Пошли потихоньку…
Идем, пошатываясь. Болят у меня икры и бедра, грудь и спина, руки и ладони, а пятки мои горят, как на сковородке. Едва тащусь.
Не могу определить, где именно мы находимся, и далеко ли до того размыва, где мы разделились. Дорога перед нами все еще отчетливо видна, и заблудиться теперь просто невозможно. Но, думаю я, если мои приятели уже уехали, то до ближайшего поселка не меньше, чем километров десять, и меня при этой мысли охватывает паника. Все-таки, утешаю себя, если не раньше, то к утру непременно доберемся.
Тузик тоже обессилел, плетется по обочине. Обнюхивает кусты, устанавливая, кто и когда здесь проходил, и задирает лапу, оставляя сведения о себе.
И тут за спиной я слышу тарахтение какой-то машины. И вижу зажженные фары.
Я знаю, что жители Валево не любят, когда оскверняют святость их величества автомобиля, тем более с собакой у ноги, но все же голосую. Выхожу на проезжую часть.
Машина на подъеме, как ни странно, сбрасывает скорость, и я вижу, что в ней сидят четверо. Пропускаю ее и подхожу к задней дверце, изготовившись сесть.
– Ты ведь, Тузик, – говорю я предательски, – знаешь дорогу домой.
Хозяева наверняка не впустят его, а я уже не в силах топать пешком.
– Иди домой самостоятельно!
Жду, когда они откроют дверцу машины, и подаю им какие-то знаки. Но изнутри на меня смотрят четыре головы – две взрослые и две детские. Четыре пары глаз выпучились оттуда на меня, как будто увидели некое страшное чудовище. И после некоторого колебания машина врубает скорость – не может быть, с удивлением констатирую я – и быстро удаляется. И мне остается только смотреть ей вслед.
Тузик стоит напротив меня и глядит с разочарованным видом.
– Прости, – говорю я. – Как аукнулось, так и откликнулось.
И продолжаю ковылять дальше.
10
Прошел всего метров триста и за поворотом увидел промоину, а рядом с ней – Ацину машину. Фары у нее горят, и она медленно движется к выезду на шоссе.
– Эй, Аца! – кричу. Размахиваю посохом и корзиной. – Эй! Я здесь! Эй!
Увидит ли он меня? В ответ на это машина прерывисто сигналит, моргает фарами и решительно выезжает на дорогу. Выбравшись, поворачивает ко мне.
Я смотрю на нее влюбленными глазами. Нет на свете авто лучше древнего фольксика! Расцеловать его готов!
Аца подъезжает и, опустив стекло, спрашивает:
– Ты живой? Все в порядке?
– Все в порядке, – киваю я.
– Подожди, я развернусь.
Разворачивает машину на дороге, его спутник выходит, чтобы пропустить меня на заднее сиденье, и смотрит на нас убийственным взглядом. Если ему так хотелось прогуляться, то я предоставил ему возможность гулять до потери сознания.
– Мы три раза сюда приезжали, – говорит Аца. – Сигналили, звали. Ты что, ничего не слышал?
Устраиваясь на заднем сиденье, я отрицательно мотаю головой.
– Если бы ты не появился через полчаса, мы бы с Милое, – впервые слышу имя его приятеля, – отправились в полицию и вызвали пожарников.
Зачем же пожарников, устало думаю я. Приглашаю Тузика сесть рядом со мной. Он моментально вытягивается на сиденье и кладет голову мне на колени. Милое садится и закрывает дверцу. Оборачивается и как-то странно смотрит на меня.
– Морда у тебя красивая, – впервые за весь день произносит он. – Красная, как пион.
Я киваю. Потому меня и не приняли предыдущие автомобилисты. Испугались, что окочурюсь у них в машине.
Аца между тем досматривает мою корзину.
– Ну и набрал же ты грибков, – говорит, выбрасывая их поочередно в окно. – Один другого лучше!
У меня перехватывает дыхание, но все же отвечаю:
– Все во славу Кодекса честного грибника.
Он включает скорость, и мы трогаемся. Пока он о чем-то переговаривается с Милое, мы с Тузиком дремлем. Он похрапывает на моих коленях, я в такт тряске киваю головой в сторону переднего сиденья. Вздрагиваю, поправляю сползшие на кончик носа очки и выпрямляюсь, чтобы тут же опять задремать и клюнуть носом переднее сиденье.
Домой едем, думаю сквозь сон. Едем домой.
Светлана Велмар-Янкович
Улица Филипа Вишнича[1]
В самом начале улицы Вишнича есть песчаный незастроенный пустырь. Это все, что осталось от огромного пространства, простиравшегося над крутыми берегами дунайского русла: его границы еще можно определить по старым фотографиям, сделанным во второй половине девятнадцатого века, особенно на тех, которые снимали с крыши дома капитана Мишина. В этой полоске, что с годами становится все уже, поскольку она отступает перед тенями новых высоких зданий, день, словно усыпанный космическим пеплом, как бы теряет свое сияние. В центре этой полоски, похоже, находится надгробие шейха Мустафы, возведенное в 1783 году, вокруг него разбросаны потрепанные останки прошлого. Если спуститься ниже, к концу Симиной улицы, в направлении бывшей Высшей школы, границы былого пустыря как бы стираются, а над ней открывается бесконечная ширь.
Приходя сюда, Вишнич направляется прямо к надгробию: прислонившись к кладке и замерев, он ощущает опустевший свет, который воспринимает как тишину исчезновения. В этой необходимой ему тишине он чувствует себя свободным, насколько может быть таковым в своей темноте. Она и теперь повсюду вокруг него, ибо Вишнич не может иначе: он научился видеть во мраке, а не при свете.
Научился. Собственно, это было вовсе не учебой, а приобретением знаний на ощупь. Осознать этот опыт впервые он смог спустя долгое время после болезни, в результате которой потерял зрение. Когда болезнь ушла, он не мог говорить, потому что не стало разницы между днем и ночью, с помощью которой обычно определяют время: теперь он в одиночку ползал по бесконечному подземному ходу. Но и в этом ползании крылось нечто полезное: он все меньше зависел от окружавших его непроницаемых стен мрака. Так он потихоньку созревал для познания. Должно быть, наступила весна, потому что скорчившийся в своем мраке мальчик почувствовал, как что-то мягкое и одновременно упругое касается его: оно ласкало и притягивало мальчика к себе, и он отдавался этим ласкам. Эта доброта исходила отовсюду, и он старался запомнить ее. Мальчик понял, что у нее и в темноте есть свое имя и свой облик и что он узнает ее: это земля раскрывалась под солнцем и благоухала старыми смертями, пробудившимися семенами и червями. Мальчик внезапно пришел в себя и продолжил познание: он сидел у входа в чей-то сарай, его пальцы касались соломы, влажной и приятной, где-то рядом были овцы, сквозь протертые на коленях штаны ощущалось тепло. И он, наконец, избавлялся от страшного кошмара, ужас таял, узнавание продолжалось: ему было десять или одиннадцать лет, заканчивалось седьмое десятилетие восемнадцатого века, тоска, нависшая над селами Боснии и Герцеговины, превращалась в безумный мор, изощренные турецкие пытки вновь стали привычными, ветры веяли безнадежностью, а в Белграде, кажется, шейх Мустафа, самый главный дервиш, рассматривал проекты надгробия, которое он намеревался воздвигнуть. Он хотел, чтобы его похоронили в этом самом беспокойном городе, где он, непонятно как, обрел покой. Мальчик почувствовал, как время погружается во тьму, земля источает запахи, а растения проклевываются, а воздух собирается в тающие округлости, наполненные шумами. И он продолжал познавать: вот кто-то пробежал, это прошлепали маленькие, босые, неуклюжие ножки, и в отпечатках этих ножек остался прах жизнерадостности. Частицы этого праха опустились и на мальчика: в его внутреннем мраке и снаружи вспыхнули искры, существа прозрачной радости воспарили и осветили все вокруг. Мальчик закричал так, словно впервые в жизни вдохнул воздух, и крик его быстро растаял под весенними облаками. И только одна овца продолжала упрямо слизывать слезы с его лица, пока мальчик, потрясенный свершившимся в нем чудом, зарывался пальцами в ее руно.








