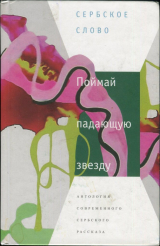
Текст книги "Поймай падающую звезду"
Автор книги: Горан Петрович
Соавторы: Радован Бели-Маркович,Михайло Пантич,Васа Павкович,Вида Огненович,Драгослав Михаилович,Елена Ленгольд,Милован Марчетич,Давид Албахари,Светлана Велмар-Янкович,Радослав Братич
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Так в Вишниче зародилась маленькая, но серьезная точка, которая становилась все светлее. Может быть, это было, как у слепого гусляра, чистое счастье самого существования; может быть, это было осознание того, что несчастье, которое превратилось в жизнь, можно прекрасно пережить. Так или иначе, он опирался на эту точку, и она вела его по жизни. Он легко истолковывал знаки, которыми был полон мир тьмы, и начал понимать язык воздуха и земли. Встречавших длинноволосого певца удивляла уверенность, с которой он передвигался. Он в одиночку пробирался незнакомыми тропами так, словно это были давно хоженые дороги. Мрак открывался ему навстречу, и он был в нем своим. Он прислушивался к советам камней и воды, ветров и ущелий, зверей и насекомых: он уже давно ничего не боялся, потому что познал все. Но редко принимал советы людей: между Вишничем и ними было огромное расстояние, которое он мог мгновенно преодолеть, в то время как другие даже и не пытались. Они даже не подозревали, что Вишнич видит их, всматриваясь в издаваемые ими звуки. Чаще всего они с должным вниманием относились к отсутствию у него зрения, но еще чаще уклонялись от общения с ним. Они давали ему кров и делились с ним хлебом и солью, но при этом сохраняли дистанцию. Они прятались в собственной немоте, а он – пел.
Хотя они не принимали его, он все возвращал им пением. Его слушали, затаив дыхание, и проходили часы и вечера. Он приходил к ним как голос, с неизменным выражением лица и некоторой усталостью от страданий, но все еще достаточно светлый для того, чтобы, пребывая среди них, успокаивать их страх и ненависть. Он понял, что способен на это и что должен поступать именно так, поскольку, куда бы он ни попал, первым делом замечал в людях эти две силы. Обострив в вечных скитаниях слух и, благодаря этому, чутко улавливая перемены, он надеялся хоть когда-нибудь обнаружить иные силы. Но нет: все встреченные им были охвачены все тем же страхом и той же безликой ненавистью. Бесцельно блуждая по дорогам, пребывая в неизмеримом мраке, Вишнич не удивлялся тому, насколько его народ и турки похожи: разве что в его народе страх был глубже, а ненависть отчаяннее. Но, может, и не так; и у тех и у других эти скрестившиеся удвоенные силы со временем становились все более убийственными. Вишнич чувствовал, как пение привносит некий свет в мрачные человеческие души, и потому он все сильнее стремился достичь в пении такого мгновения, чтобы слушатели замерли, начав узнавать в воспетых судьбах судьбы собственные. В такие мгновения расстояние между певцом и слушателями словно сокращалось, и пустота, разделяющая их, исчезала, потому что они все вместе в одно мгновение узнавали шаги проходящей мимо них смерти. И тогда, освободившись в этот момент от страха, они на время становились внутренне чистыми.
Впервые он заметил это однажды вечером, когда мир был засыпан снегом. Его приняли в богатом доме турецкого бега, теплые залы которого пахли ванилью и сохраняемым покоем. За ужином Вишнича одурманило буйство звуков. После бездорожья, в котором он проваливался в снежную целину, словно в черную сыпучую трясину, и был готов заснуть под завалившим его слоем снега, он вдруг оказался в центре бушующих голосов, внезапно уверившись в том, что именно это поможет ему пережить сегодняшний день. Еще в полдень надежды на это не было. Окруженный вздымающимся и нарастающим шумом, Вишнич был благодарен тому, что случилось. Он чувствовал, как в нем растет какое-то давно забытое тепло, и когда он после ужина запел, голос у него не дрожал: сам неприкасаемый, он задевал всех. Может быть, именно поэтому все требовали продолжения: Вишнич запевал одну песню за другой. Наконец он начал ту, старую, о святом Саве и Хасан-паше. Он решился на это только после того, как достиг такой степени умиротворения, что забыл сам себя. Так и должно было случиться, потому что только так он мог совладать с теми стихами песни, которыми Хасан-паша, наказанный за свои злодеяния слепотой, заклинает:
– О, верни мне мои черные очи!
Это был триумф Вишнича: его голос слегка надламывался, и его слушателей охватывала дрожь, потому что в жалобе Хасан-паши на судьбу они слышали причитания Вишнича. А разве могло быть иначе? Они и подумать не смели, что этот слепой певец с надломом в голосе мысленно издевается над возбуждением, которое он намеренно вызвал у них и которое объединило их в переживаниях. Только он остался в стороне. Вишнича тоже охватило возбуждение, но лишь в тот момент, когда в эту песню он впервые включил собственные слова о наказании Хасан-паши. Каждый, кто хоть раз слушал ее, знал, что никто не лишал Хасан-пашу зрения. Вишнич сделал это. Тогда эти стихи сами пришли ему в голову, так легко, что он этого даже и не заметил. Но каждый раз, когда он повторял заклинание Хасан-паши, все в нем замирало, возбуждение охватывало его, голос и в самом деле надламывался, слова песни разбегались, а в памяти раздавался какой-то грохот. Ему показалось, что он исчезает, потому что пульс бился лихорадочно, а воздуха не хватало. Не то что не хватало, а просто он погрузился в какой-то небольшой мрак, совсем не такой, к которому он привык. Это ощущение никогда более не повторялось. Потом он произносил эти стихи десятки раз, каждый раз заманивая слушателей все в ту же ловушку, но подобное потрясение более не повторялось. Каждый раз, исполняя эту песню, он становился все холоднее, в то время как его слушателям казалось, что он горячится.
Так и этим вечером: Вишнич подошел к финалу песни, и по тишине, в которой звучал только его голос, он понял, что победил и этих сильных, но внезапно смягчившихся и просветленных турок. Песня оборвалась, взволнованное молчание было затянулось, но вдруг его прервал крик:
– Врешь!
Напряжение возросло. Кто-то бешено завопил в глубине зала и начал пробиваться сквозь стены чужого страха. Вишнич почувствовал, как тот, какой-то силач, вознесся над ним, напряжение нарастало, а тот уже бил его саблей плашмя по лицу, по шее, по груди, насильник вопил, а тишина в зале становилась все глубже; он врет, гад, Хасан не был слепым, он все выдумал, пусть признается, а Вишнич невозмутимо уклонялся от ударов, сабля била его по лицу, царапала шею, а гусляр, исполнившись радостью, все спокойнее и веселее улыбался. Тем не менее, погружаясь во тьму, он с изумлением подумал: с чего это он взял, что удастся пережить этот день? И только одна мысль пульсировала, мерцала в его сознании: пусть бьет его саблей этот насильник, может, это сам Хасан-паша, который вскоре ослепнет; точно, этот взбесившийся Хасан-паша, как только ослепнет, тут же прекратит избивать Вишнича, и он более ничего не почувствует, не увидит этих ударов, а просто погрузится в спокойную и мягкую бездну.
Потом его отхаживали несколько недель. Всё в том же турецком доме, на кухне. В запахе ванили, у стены, под шаги женщин. Насильник давно уехал, и у Вишнича от него остался только шрам на щеке. Но это ему не мешало. Когда он поправился, перед уходом его попросили опять спеть ту же песню. Он пел, а турки не слушали – вслушивались. В этом вслушивании сквозило некоторое недоверие, потому что они уже знали то, что еще не было известно Вишничу: говорили, что насильник погиб и что после смерти его изрубили на куски. Говорили, что глазницы его отрубленной головы были пусты.
С тех пор тяжкие мысли оставили его: он словно окончательно понял, почему он, слепец, обрел себя между людьми. Бунт начинался и разрастался, и он шел навстречу ему, влекомый ширившимся ужасом. Теперь, когда он понял, что песня ведет к небытию и уводит от него, ему стало понятно, почему она – лучшее лекарство от страха.
Вскоре он узнал еще кое-что. Это случилось в 1810 году, после битвы у Лозницы. Повстанцы едва отбились от турок, которые тем летом навалились со всех сторон, особенно со стороны Боснии. Десятки тысяч, они переправились через Дрину, исполненные решимости проучить, наконец, непокорный народ. Сербы дрались, им помогали и русские, казалось, сил хватит. Правда, не совсем было хорошо, что отбиваться приходилось на разных фронтах одновременно, и сопротивление повстанцев было бы куда как сильнее, если бы к ним присоединился Карагеоргий[2]. Казалось, что доверия к людям становилось меньше. Всем прекрасно было известно, что самые сильные воеводы если не враждовали, то просто ненавидели друг друга. Окрепшие сомнения, возникавшие по всякому поводу, подрывали решимость повстанцев, однако они сражались, как и прежде. Битва за Лозницу была жестокой, потому что турки хотели любой ценой взять эту крепость на Дрине. Она длилась три дня и три ночи: верх брали то нападавшие турки, то оборонявшиеся сербы. Вишнич пел три дня и три ночи. Он сидел за крепостной стеной, рядом с ним раздавались выстрелы и брань, люди стонали и гибли, турки наваливались, их крики звучали все ближе, гремели пушки. Вишнич пел в этом аду и чувствовал, как сербы слушают его, а турки – слышат: сербам он был нужен, а турки, похоже, боялись его. В мгновения затишья утихал и он, вслушиваясь в небеса, в их безмолвную пропасть: удивительная благодать исходила от них, пробуждая в Вишниче теплый свет. В течение этих трех дней, как только начинало казаться, что сербы вот-вот потерпят поражение, Вишнич понимал, что этого не произойдет, и начинал петь. Наверное, именно поэтому турецкие пушкари старались взять его на мушку: ядра рвались вокруг него, но, даже засыпав его осколками, они не в состоянии были оборвать песню, звучащую над Лозницей. И чем непонятнее становился исход битвы, тем увереннее был его голос. В один страшный момент, когда, казалось, все было потеряно, песня Вишнича прогремела над Дунаем, заглушая стрельбу и стоны умирающих, и повстанцы вновь бросились в атаку. И тут появился Карагеоргий со своим войском: битва закончилась, Лозницу отстояли.
Тем же вечером Карагеоргий пожелал увидеть певца, песня которого встретила его на крепостных шанцах. Пока его вели к Вождю, Вишничу в голову пришли слова. Если никому другому, то только Черному Георгию он мог высказать то, что накопилось в его душе. Но когда Вождь обнял его, Вишнич почувствовал, что этот большой и теплый человечище налился усталостью и мелким, острым мраком. Они обнимались, может, даже и перемолвились, за спиной у Вишнича полыхал костер, близилась полночь и становилось холоднее, восходил осенний месяц, а щека Вождя пахла порохом. Потом Карагеоргий замолчал, вслед за ним умолк и Вишнич. Вот так, в молчании, они преломили хлеб. Потом Вишнич внезапно протянул руку к Карагеоргию, чтобы коснуться его в знак приветствия, однако промахнулся, и рука не коснулась его. Вишнич в одиночестве удалился в свою ночь, Карагеоргий остался в своей.
В последующие годы в нем продолжал накапливаться тот излишек знания, который он не хотел ни включать в песни, ни предавать забвению. И никому не хотел рассказывать. Не хотел ни Стояну Чупичу, Змею из Ночая, ни Луке Лазаревичу, хотя они и любили его. Он чувствовал, что они не смогут услышать его или, как тогда с Карагеоргием, момент был неподходящим, и что тогда ему делать? Однажды он был в Ночае, у Змея в гостях, и долго слушал про то, как все тяжелее приходится сражаться и как все больше растет недоверие среди людей, и сразу понял: как хорошо, что он не проговорился. Время было неподходящее, да и его понимание этого еще не окрепло. Он припомнил тот сгустившийся в Карагеоргии мрак, и опять спохватился: с чего это вдруг он осмелился думать, будто все испытания остались позади, когда самое страшное еще только предстоит? Он решил помочь им: шел от одного поля боя к другому и пел. Его ожидало первое искушение: его слушали, он был нужен им, но было уже понятно, что теперь люди все меньше и меньше нуждаются в песне.
В 1813-м, в год страшного поражения, он был на Равне, рядом со Змеем из Ночая. Он пел семнадцать дней и семнадцать ночей. В последние дни и ночи все тише и слабее. В начале сражения ему показалось, что он очутился в одном из часто повторявшихся сновидений: опять он укрылся в каком-то шанце, опять вокруг него стреляли и ругались, стонали и гибли, турки наваливались и их крики раздавались все ближе, пушки гремели. В этой свалке раздавался голос Вишнича, но он понимал, что сербы все хуже слушают, а турки все меньше вслушиваются, потому что сербов становится все меньше, а турок все больше. Подмоги от Карагеоргия все не было, да и не могло быть. И теперь песня не могла уже пересилить все усиливающийся гул смерти и отсутствие надежды, растворяющейся в дожде и грязи. Напрасно в минуты затишья он вслушивался в небеса: безмолвная пропасть не открывалась, и Бог удалялся от него. Свет внутри Вишнича угасал. В семнадцатый день он уже не пел: с мукой в душе позволил проливному дождю, занявшему все пространство между небом и землей, залить ему и лицо, и руки, и гусли. Потом кто-то схватил его и поволок по лужам и по грязи, чтобы спасти, а он хотел остаться в Равне, рядом с мертвыми.
Но его спасли. В Среме, где он поселился, Вишнич постепенно стал понимать, что в нем теперь созрело полное, совершенное знание, скорее всего, о страдании. Когда-то, во время болезни, сгорело его зрение; теперь, после овладения знанием, в нем, похоже, сгорела песня.
На своей улице, прислонившись к надгробию шейха Мустафы, Вишнич видит, как здесь, чуть ниже, перед музеями Вука и Досифея[3], простираются поляны тишины, которые всегда остаются после ухода ночи. На это место, куда днем падает больше всего потоков света, которые даже штормовой ветер не в состоянии развеять, ночью опускается густой мрак, стекающий на улицу Вишнича. Здесь иной раз выпадают черные хлопья минувшего времени, которые в зимнюю полночь ветер смешивает со снежинками и пылью Млечного Пути. После того, как на старом Дорчоле поднялись новостройки, летом сюда, к началу улицы Вишнича, более не доносятся запахи Дуная, однако временами, как и прежде, здесь собираются тени мелкооптовых торговцев с бывшего Йованова рынка. Появляются стекольщики и старьевщики, портняжки и купчишки в своих покосившихся дощатых лавках. Они переговариваются, но слов не слыхать, потому что утренний ветер уносит их к мутной Саве или же западные потоки увлекают их к обширным равнинам. Однако теням это совсем не мешает, а улица Вишнича, некогда бурлившая рыночной суетой, днем остается улицей приглушенных шумов. Иногда чуть громче пропыхтит старый автомобиль, или со стороны Студенческого парка скатится шорох опавших листьев; иной раз залетают сюда и светлые детские голоса. Долгое время, может, целые десятилетия Вишнич готовится оторваться от надгробия, рядом с которым ему так хорошо, и спуститься по короткому переулку к Музею: он понимает, что надо бы это сделать ради Вука, но другого стимула у него нет.
Ради Вука? Одно время казалось, что он сможет рассказать Вуку хоть что-нибудь из того, что ему открылось. Наступил 1815 год, и молодой Вук приехал, чтобы послушать постаревшего Вишнича. Над Сремом воцарилась весна, пахло молодыми колосьями, а там, на другом берегу Савы, хозяйничало зло и назревал следующий бунт, и после каждого полудня на задворках монастыря Шишатовац, что на Фрушка-Горе, Вишнич пел для Вука. Три дня не было дождя, три дня палило солнце, Вук слушал и записывал, а гусляр чувствовал, как в нем опять нарастает теплая волна, о которой он и думать забыл. Он поверил в то, что когда закончит петь свои песни и когда молодой человек запишет их, то сможет закончить петь и начнет рассказывать. Именно Вук мог лучше Карагеоргия выслушать его; может, это и вовсе мог сделать только он. Одновременно, вопреки этому убеждению, возрастала боязнь, которая очень злила Вишнича. Возрастала она потому, что он все чаще замечал, как Вук, обладающий ужасной волей, вообще не хочет никого слушать. К нему он относился терпеливо, но Вишнич напрасно пытался обнаружить в этом терпении ту близость, которая обычно возникала между ним и его слушателями. Вук слушал иначе, с расстояния, которое Вишнич не мог определить, а его отношение к песням было другим: не песня захватывала Вука, а он захватывал ее. Тем не менее, Вишнич надеялся, что Вук хоть когда-нибудь задаст ему вопрос, который он хотел услышать – когда у него появятся новые песни? Те, что он пел Вуку, были уже старыми. Последние два года гусляр их потихоньку совершенствовал, но новых стихов не сочинял. Но если бы ему задали вопрос, то Вишнич бы заговорил. Рассказал бы молодому человеку о том, что мучает его, что есть граница терпения, за которой слово сгорает, и дорога к этой границе ведет сквозь отсутствие надежды. Надежда словно проваливается в ад только тогда, когда зло окончательно овладевает людьми. И тогда во все двери ломится смерть, человек не в состоянии сделать хоть что-то, а Бог не откликается. В таком искушении лучше всего приходится тем, кто уходит из жизни, а оставшиеся в ней сгорают, и слова исчезают в невидимых пространствах. Еще он бы рассказал ему о прошлом, о том как уходит оно и люди в нем, которых он видел незащищенными в дни предательства или поражений.
Однако дни шли, а Вук ни о чем не спрашивал. Иногда ему казалось, что слепой певец хочет ему что-то сказать, и что он, возможно, ожидает, что Вук попросит его об этом. Но он не знал, о чем следует спросить, тем более что ему не хватало времени задуматься над этим. Так и получилось, что, чем больше Вишнич пел Вуку, тем больше отдалялся от него. Но все-таки он ждал. В последний день пребывания в Шишатоваце Вук – уже в который раз – попросил его пропеть начальные строфы «Бунта». Вишнич запел, утро просыпалось в весеннем свете, Вук сверял каждое слово: он понимал, что записал восхитительную песню, и потому радовался, поглядывая на гусляра. Вишнич, обычно певший с прикрытыми глазами, с тенью отстраненности на лице, теперь весь был тут, уставившись сожженными зеницами на Вука. Он заглядывал в его душу и просто вкладывал в нее свои стихи о небесном знамении и нападении насильников. Охваченный волнением, Вук понял, что гусляр видит и зовет его. Поначалу он хотел отозваться на призыв: захотел было оборвать песню – она все равно заканчивалась; хотел спросить, когда можно будет снова приехать за новыми песнями. Одумавшись, он улыбнулся про себя: в этом не было никакого смысла. Этот человек, сидящий перед ним, ничего не видел и, похоже, ничего не знал. Это была просто библейская неопалимая купина, не осознающая, почему она горит. В этот раз Караджич едва дождался конца песни. Поспешно поблагодарил Вишнича, поспешно облобызал его. Вишнич прочитал в его касаниях вопрос, но понял, что он так и не задаст его.
После отъезда Вука казалось, что Вишнич заболеет. И тогда в третий раз его посетило прозрение: с чего вдруг он уверился, что кто-то заговорит так, как ему захочется? Он опять начал петь своим землякам, стал ходить по Срему и по Банату. Но в Сербию никогда больше не возвращался и никогда больше не пел хороших песен. В начале 30-х годов XIX века, перед самой его смертью, в селе Грка, в котором он жил, родилась легенда: говорили, что Филип Вишнич, старый слепой гусляр, раз в год, августовской ночью, когда раскрываются звезды, сам запрягает коней и скачет в ночь, под покров небесной пустыни, где поет печальную песню, которую никто и никогда не сумеет записать.
ПРИЛОЖЕНИЕ. В середине июня 1817 года архимандрит монастыря Шишатовац, поэт Лукиян Мушицкий, был не в настроении. Ему предстояло дело, которое заранее утомляло его и которого никак нельзя было избежать, потому как это было связано с его другом, Вуком Караджичем. В последнее время этот упрямец Караджич просто засыпал его письмами, в каждом требуя одного: чтобы Мушицкий обязательно вызвал к себе того слепого гусляра, Филипа, и внимательнейшим образом выслушал его. В первую очередь следовало узнать, нет ли у того новых песен. Если вдруг окажется, что есть, то Вук незамедлительно приедет. Далее, гусляру следовало рассказать Мушицкому все, что он помнит о своей жизни, а Мушицкий, требовал Караджич, должен все записать и выслать Вуку. Этот Караджич и вправду обладает способностью загружать своими делами других. Если бы он о чем другом попросил – совсем иное дело! Но ведь Вук знает, что он, Мушицкий, не очень-то разбирается в этой народной поэзии, а певцов, даже если они несомненно талантливы, воспринимает как напасть. Когда два года тому назад этот Вишнич пел здесь Караджичу, Мушицкий прятался так, чтобы не слышать их: протяжное пение утомляло его. Но что тут поделаешь, откладывать дело в долгий ящик не хотелось, и Мушицкий приказал доставить ему слепого гусляра. Он готовился к встрече, набирался терпения, но все оказалось напрасным. Одним прекрасным утром, почти что любезно приняв гостя, он моментально раскаялся: слепой Филип явился словно из чистилища: темный ликом, молчаливый, измаранный. Мушицкий сразу охладел, его терпение улетучилось. Узнав, что новых песен у того нет, он удовлетворился и стал рассеян; но когда Вишнич начал ему рассказывать о первых трех постигших его прозрениях, архимандрит оборвал его: это уже был чистой воды бред. Он отпустил гусляра, а Вуку написал, что новых песен у Вишнича нет, да и ждать их от него не стоит, потому что слепой гусляр, к сожалению, окончательно выжил из ума.
Вида Огненович
Смерть лебедей
Нет, нет, я вовсе не злюсь и не откажусь по этой причине от своих занятий, просто мне очень жаль, что меня не понимают, так сказать, в соответствующих инстанциях. Я не утверждаю, что мне специально мешают или чинят какие-то препятствия, нет, вовсе нет, по крайней мере не сейчас. Ну, а если бы и были такие попытки, то я бы с ними сумел справиться куда как лучше, чем с этими специфическими ухмылками, что не сползают во время моих докладов с лиц служак в канцеляриях, которые я посещаю по роду деятельности. Я имею в виду эдакую особую, загадочную улыбочку, непонятно, то ли сожаления, то ли скуки, или мягкого упрека, которой служащие приветствуют усилия наилучшим образом познакомить их с результатами моих независимых расследований. Нет, нет, я вовсе не зазнаюсь. Они этим кислым чиновничьим оскалом регулярно встречают и сопровождают все мои сообщения о результатах, а также о разработке планов дальнейших исследований, а это меня действительно сильно раздражает. Хотел бы я знать, что смешного они находят в моих докладах. Вот из-за этого у меня никак не получается окончательно объяснить им, почему я переживаю это трагическое событие как глубоко личную утрату и почему я хочу либо установить виновных в происшествии, либо признать случившееся несчастным случаем. Запутываюсь в очередной фразе, топчась на одном месте, а все потому, что эти их смешочки парализуют мою волю. Начинаю заикаться, будто язык у меня узлом завязывается. Так что ничего странного нет в том, что они меня всерьез не воспринимают.
Ну хорошо, давали они мне те сведения, которые я от них требовал, грех жаловаться. Познакомили меня с результатами обследования, которые исключают птичий грипп, потом разные протоколы с заявлениями первых свидетелей и еще кое-что. Но все это я получал под их холодные усмешки, которые вызывают у меня невыносимую тоску. Я ночами не сплю каждый раз до и после посещения этих учреждений, потому что только и думаю об этих их улыбочках, хотя поддержка мне просто необходима.
Впрочем, ладно, выдержу, не дам им себя сбить с толку. Я решил выяснить до конца, в чем причина этого лебединого мора, несмотря ни на какие препоны. И пусть они скалятся сколько им угодно. Плевать на это. Нет, нет, я понимаю, что означают эти улыбочки, точнее – ухмылки. Я прекрасно понимаю, что мое рвение в расследовании происшествия они принимают за серьезное психическое расстройство. Потому так и хихикают. Нет, никто из них вслух не говорит об этом, по крайней мере в моем присутствии, но я и так все понимаю. Мне все ясно. Но что тут поделаешь? Если я начну защищаться, стану убеждать их в том, что они ошибаются, будет только хуже, эти омерзительные так называемые улыбки перерастут во всеобщий хохот. А вот этого я бы уже не вынес, это уж точно.
По правде сказать, с некоторых пор мне кажется, что и жена моя время от времени сомневается в моем здравии, по крайней мере, когда дело касается этого случая. Она не укоряет меня, нет, нет, напротив, во всем меня поддерживает и охотно помогает, но иной раз, сортируя и складывая фотографии и бумаги с моими заметками, вдруг ни с того ни с сего начинает бормотать, тихонько, словно сама с собой разговаривает. «Слушай, похоже, я уже начинаю сходить с ума от всего этого. Боюсь, мы оба задохнемся в потоке этих твоих данных. Если бы ты, Дуле, – словно неожиданно замечает она мое присутствие, – что если бы ты не так глубоко влезал в это дело, спрашиваю я себя. Нет, мне не тяжело, ты только не думай, что я тебя укоряю, я только думаю про себя, нельзя ли было все это как-то иначе организовать, – испытывает она потихоньку мои рефлексы. – Скажем, что было бы, если бы ты передал все эти материалы в полицию или в Орнитологический институт, пусть бы они продолжили следствие, а ты бы помогал им как советник или задавал бы направление исследованиям. Что ты на это скажешь? У них и оборудование получше, и деньги, специалисты, глядишь, и работа быстрее пошла бы. А уж как бы они тебе были благодарны, я ничуть в этом не сомневаюсь, потому как ты за них уже половину дела сделал… Как ты на это смотришь, а?»
Я никогда не отвечал на эти ее «как ты на это смотришь», потому как смысла в этом не вижу. Ни одна, даже самая мельчайшая частица моей души и тела, ни на секунду бы не поверила в то, что моя жена может всерьез счесть, будто я такой неразумный. Она, которая прекрасно знает, что для меня значат эти сказочные существа, она даже в шутку не может подумать, будто я с катушек съехал. Нет, это был бы конец света. Нет и нет, это просто невозможно.
Хотя, опять же, временами мне кажется, что ее отношение ко мне самую чуточку изменилось, особенно в последнее время. Например, как она реагирует на новые важные сведения, полученные мной в ходе расследования. Я спешу домой, с нетерпением дожидаюсь, когда смогу показать их, вваливаюсь, вспотевший и задыхающийся, и захлебываюсь, рассказывая ей об этом. А она как-то так… Ну ладно, не скажу, что не интересуется, поддакивает мне, но только не чувствую я той прежней ее радости, нет в ее глазах тех веселых искорок, того искреннего участия в торжествах по случаю выявления новых фактов. Нет, не скажешь, что она равнодушна, что отстранилась, но все-таки мне кажется, что она уже не такая, как прежде. Ладно, ладно, может, мне все это только кажется, я преувеличиваю, все это я преувеличиваю. Но что если ей в один прекрасный день показалось, будто все, что я делаю, напрасная трата времени и нервов, и она только и ждет подходящего момента, чтобы выложить мне это? Что если она уже сегодня вечером бросит мне прямо в лицо свое решение закончить, что она так больше не может, что все это просто навязчивая идея обычного инженеришки, который решил прославиться, занимаясь тем, в чем ничего не смыслит? Может, именно сейчас она размышляет над тем, как мне все это преподнести. Да нет, нет, не верю, не верю и все тут. Все это я себе напридумывал. Нервы сдают, и я не могу отличить действительность от своих выдумок. Я не имею права терять уверенность в собственных действиях, ни в коем случае, нет. Я стал слишком чувствителен к тому, что происходит вокруг меня. Ничего удивительного, ведь я постоянно пребываю в таком напряжении, даже странно, что до сих пор не…
По правде сказать, я знаю, откуда этот червь сомнения взялся в моей голове и точит ее. Сам во всем виноват. Я совершил очень большую ошибку в самом начале своего личного расследования, и все ухватились за нее, решив, что это для меня самый что ни на есть диагноз. Я убежден, что жену, как и других людей, особенно тех, в ком я искал поддержки в своих расследованиях, больше всего смутило мое признание в том, что я стал болезненно зависим от этих тихих белых стай грациозных птиц. Да, да, я подтверждаю, вы не ослышались: болезненно зависим. И когда я впервые произнес эти слова, и сколько бы я ни повторял их позднее, я замечал, как присутствующие многозначительно переглядываются, ничуть не стараясь хоть как-то скрыть от меня свои взгляды.
Но это истинная правда. От них – я имею в виду лебедей – я был и остался зависимым. Свою здешнюю жизнь я делю на две части: до и после того дня, когда я открыл для себя этих прекрасных сказочных птиц. Что в этом непонятного или бессмысленного? Я ни разу не подходил к ним ближе чем на два метра, а мое настроение, с тех пор как я познакомился с ними, в значительной мере зависело от того, сколько времени я проводил у озера, любуясь стаями. С тех пор я так много узнал о них и каждый раз, изо дня в день наблюдая за ними, узнаю что-то новое. Слежу, спешат ли они мне навстречу, когда прихожу с полными пакетами корма, или нет. Обычно они быстро выплывали на мелководье, где я поджидал их, и это меня сильно радовало, а иной раз они делали это так медленно, лениво скользя по воде, что поначалу даже трудно было понять, плывут ли они вообще. Я тяжко страдал от их равнодушия, оно портило мне настроение. Кто-то накормил их до меня, разочарованно думал я, ожидая, когда они явятся на старательно составленный и приготовленный, экологически безупречный обед. Кто знает, какими отбросами их кто-то накормил? Может, даже белым хлебом – пугался я, ожидая их, – а тот несчастный даже не подозревал, насколько вредна для них такая пища. Или, может, что еще хуже, он бросал кусочки хлеба в воду, потому как в грязной воде на пищу прямо-таки набрасываются опасные бактерии. Все это с годами я изучил до мельчайших подробностей, наблюдая за их жизнью с близкого расстояния.
Может, мне действительно не следовало бы употреблять это выражение – болезненная зависимость, хотя я использовал его исключительно как метафору. Но что сейчас толковать, если даже кое-кто из моих друзей воспринял эти слова буквально. Так что ж, что случилось – то и случилось. А я ведь только хотел быть убедительнее и ничего другого. Я никогда этого не отрицал. С какой бы стати.
Если бы они только знали, как эти птицы возвышенны, насколько они гармоничнее нас, поверхностных и самодовольных людей. Все, что им известно о лебедях – это кич, жалкие базарные картины, на которых красуются важные лебеди на синем или зеленом фоне. Низкопробные маляры оптом срисовывают этих птиц с других подобных шаблонов, а ведь мало кто из этих псевдохудожников видел живого лебедя. Любители и покупатели этой жалкой пестрой мазни даже не подозревают, как сильно эти мазилы оскорбили благородных птиц.








