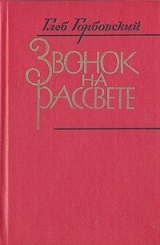
Текст книги "Звонок на рассвете"
Автор книги: Глеб Горбовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
Из чисто гуманных побуждений наблюдал я за Почечуевым все эти долгие дождливые страницы моей повести. Однако дождь рано или поздно перестает, небо светлеет. И пора мне с Иваном Лукичом наконец распрощаться, так как на сердце его вместо болезненных рубцов возвышающие крылышки Веры, Надежды и Любви появились! Да, да... И это в его-то годы. Ходил он теперь хотя и по земле, и прихрамывая малость, но зато как бы и вовсе не касаясь почвы, потому как с души его (не от ног, не от тела) некий груз гнетущий отпал. И конкретная цель мозги обуяла: отдохнуть в Почечуйках и заявление в детдом подать.
Кукарелов, этот смешной «арцыст», как его Почечуев величал, узнав о намерении Ивана Лукича в детдом податься, решил, что старик в дом для престарелых оформляется. Специально переспросил: «Шутите, в деддом небось? На букву «д» упор? 0,р-ригииально, остроумно и ваще!»
А Почечуева к детям влекло. Как к отдушине. Вот и сейчас смотрел он в просторы, стоя на берегу Киленки, и соображал: «Здесь бы не детдом, а целый детгородок спроворить! Благоустроенный. Чтобы дети сюда, скажем, со всего Большого проспекта Петроградской стороны на лето съезжались. Купались бы, загорали, огороды копали, ягоды ели... А попутно старые добрые места от захирения возрождали!»
Да, полегчало... И не только Почечуеву, но и мне. Оказывается, из мрака безнадежного, из тоски заунывной, из жизни неправильной выйти никогда не поздно – выйти, выползти, выехать, вылететь, воспарить! Лишь бы брешь в стене собственного равнодушия прособачить! Щелочку, скважину пробуравить, в которую луч солнца, то есть любви, на сердце к тебе проникнуть мог бы!
XII
Кладбище сгруппировалось вокруг церкви. Заурядные, простонародные кладбища возникали, как правило, несколько на отшибе, позади селения. Как бы прятались от глаз живых, веселых. Но случалось и так: вокруг церкви, прямо в центре селения, начинали себя хоронить церковнослужители, затем местные господа-дворяне. Нахлобучивали мраморные или гранитные плиты на могилы, а то и памятнички утверждали. И все это тесно, бок о бок с церквушкой. Простых смертных – на общем погосте, там, за рекой, в сосновой или березовой роще, а родовитых персон – возле «бога», под его как бы крылышком. Будто не всех одинаково мухи едят на земле...
Козьмодемьянское кладбище в Почечуйках утвердилось, когда уже ни помещиков, ни просто господ в округе не было. Хоронили возле церкви потому, что – близко, потому, что – можно, и еще потому, что место высокое, песочек. В данный момент кладбище, как и сама деревня, пришло в полный упадок. И не оттого, что людей стало меньше помирать, а оттого, что уехали люди – кто в Свищево, кто поближе к городу передвинулся. От церковной ограды остались пеньки кирпичных столбов. Старые, полузасохшие деревья торчали из общей копны зелени, где преобладала сплошняком разросшаяся бузина, а также глухая сирень пополам с крапивой да ломкий малинник.
Подступил Иван Лукич к замшелым камням церкви, хотел внутрь заглянуть, посмотреть, что от бывшей «веры» осталось, и вдруг на совершенно чужого, внезапного человека нарвался! Высокий, тело удлиненной формации, лицо, а также и нос клином вниз вытянуты; бородка светлая, кудрявая с висков ниспадает; длинные волосы на голове ленточкой засаленной синей перехвачены; из глаз небесная синь льется. Прямо-таки персонаж киношный... И ежели б не блокнот для рисования в руках, такой дешевенький, да не фломастер пузатенький, на карандаш непохожий, баллончик с жидкостью от клопов напоминающий, если б не все это, то и неизвестно, что об этом человеке подумать можно?
Схватился Иван Лукич за черенок лопаты обеими руками, а сам глаз не может от того человека отвести. Потом уже догадался, спустя несколько мгновений, что перед ним – художник. И стоит художник на поросшем травой аменном крыльце, то есть на паперти церковной, где в прежние времена якобы нищие и всякие странные юродивые люди стоять предпочитали. Стоит художник и что-то срисовывает, поглядывая отрывисто на нечто чуть выше дверей храма. А чего уж там срисовывать? – одному богу известно, так как все облезло, облупилось, непогодами вместе с дождем и снегом наземь сошло.
Это уже после, основательно прищурившись, разобрал Почечуев, что над дверью какой-то рисунок, фресочка какая-то просматривалась, едва уловимая.
– Приветствую вас, молодой человек! – бодро прошептал Иван Лукич.
– Салют. Чего это вы тут с лопатой? Червей, что ли, копать решили? – Малый, не отрываясь от фресочкн, кивал своему блокноту, размахивая баллончиком, как сигарой. На Почечуева он не смотрел, но видеть его видел. Так как на приветствие ответил и лопату... уловил. Скорей всего – боковое зрение у художника развито.
– Могилку вот ищу... Материну.
– Могилку матери ищете? А что, разве такое потерять можно?
– Видите ли... На похоронах не присутствовал... Обстоятельства, – послушно объяснял Почечуев молодому человеку, одетому в вельветовую куртку и обладавшему такой же, под цвет вельвета, светлой бородкой.
«С чего бы это я перед ним... исповедуюсь? – удивлялся Иван Лукич. – Сейчас бы и уйти... От греха подальше. Однако – влечение ощущаю. Потому как пусто вокруг, а тут – живая душа».
Иван Лукич лопату в землю воткнул. Носовой платок достал, тщательно, культурно руки от внезапного пота обтер.
– Может, познакомимся?.. Почечуев Иван Лукич. Из Ленинграда.
– По фамилии – вы местный. И что же, из Почечуек все, что ли, в Ленинград переехали? Геннадий, из Москвы.
– Я до войны еще переехал. За остальных не ручаюсь. А вы, что же, извиняюсь, художник будете?
– Почему извиняетесь? Словно выругались?
– Это я к слову... У меня над головой в Ленинграде тоже... артист живет. Кукарелов, не слыхали?
– По документам я, может, и художник... А вот по сути – это еще будем посмотреть, как говорится. Инвалид я, а не художник...
– Это как же? Молодой, приятный.. Сочувствую. На какой же почве инвалидность, если не секрет? Потому как я теперь тоже инвалид, вторая группа. Хромаю вот...
– На нервной, дядя, то есть на духовной почве. Вот такая, дядя, хромота у меня... Всего лишь.
– Что-то незаметно, однако... Чтобы на нервной, – заискивающе улыбнулся Почечуев.
– Да вы не беспокойтесь! – в свою очередь осклабился Геннадий, а затем строго, внимательно посмотрел на Ивана Лукича. – Я не кусаюсь. Чтоб вы знали... А из Москвы я сюда, в Почечуйки, – временно. Чтобы нервы отдохнули, а не потому, что меня за пьянство-тунеядство на сто первый выселили. Ясненько? Да и хорошо тут... А в городе у меня голова болит.
– Это чего говорить! – согласился сразу же Почечуев. – В городе и у меня голова – не приведи господь! Сосуды так и лопаются...
«Дурака валяет... А может, и натурально – припадошный... – подумал о художнике Иван Лукич. – С таким ухо востро надо держать...»
Геннадий захлопнул блокнот, убрал в куртку толстый, как сарделька, фломастер. Заинтересованно глянул на собеседника.
– Вот вы... господа помянули. Сказали: «Не приведи господь!» Вы что же, в бога веруете?
– Да что вы, дорогой?! – испуганно отпрянул Иван Лукич от такого вопроса. – Да с какой стати... Да за кого вы меня принимаете?!
– А испугались-то почему? Вопроса? Побледнели... Не верите, и ладно. Не вы первый... А если, к примеру, жизни молиться? С большой буквы которая? Разве ж она не бог – Жизнь?
– Жи-зень? – засомневался Почечуев. – Нет, отчего же... Такому не возбраняется. Только разве это – бог? Жи-зень, она и есть жи-зень. Существование...
– Культ Жизни! – заметно воодушевился Геннадий.– Разве плохо? Только и это неново... Было уже такое, товарищ Почечуев. Поклонялись огню, солнышку. А что из этого получилось? Вот то-то и оно! – выпучил Геннадий глаза. Затем лопату из рук Ивана Лукича взял и с паперти в высокие ржавые лопухи застарелую кучку навоза откинул. Возвращая лопату, строго сказал: – Так что все это блажь, чепухенция. А сейчас пойдем могилу искать. Помогу вам, если хотите. Это ж надо: могилу матери забыть! Вот где фантастика... Кстати, вы хоть во что-нибудь сверхъестественное верите? Ну, хоть самую малость? Скажем, в значение снов?
– Нет... Как ответить? Сны-то я вижу. А вот придавать им большое значение – не придаю. Да и забываю их, как правило...
– А теория Эйнштейна, а тарелки? Может, сейчас, рядом, возле нас, только в другом измерении, неведомые существа на скрипке играют. Или водку пьют. Вот на той плите...
– Почечуев посмотрел на замшелую плиту, словно и впрямь кого-то на ней обнаружить предполагал,
– Оно конешно... Сейчас наука далеко пошла. Мы-то еще учились, когда на лошадях ездили.
– Я не о том. А вот, если серьезно. Безо всякого шарлатанства... На научной основе. Возьмут и докажут, что в другом измерении жить нисколько не хуже... А? Согласитесь переехать туда?
– Это почему же? Мне и тут неплохо... Чего не знаю, того не знаю. А вот, скажем, заболел я недавно. Свалило меня ударом. В запертой отдельной квартире. Шевельнуть ничем не мог. И вдруг женщина подходит. Со шваброй... Я сперва – был грех – подумал, что смерётушка прилетела, косой машет!
– А я другого мнения, – перебил Почечуева Геннадий. – Никакая не смерётушка, а это к вам из другого измерения гости были. Из других полей магнетических.
– Вот уж не поверю, чтобы... из других. Приборку произвела, бульоном куриным напоила. Это как же? Из другого измерения – с курой?
– А хоть с колбасой! Важно, чтобы человек осмыслил, что ему знак подается, сигнал! Опомнись, остановись!
– А я и опомнился... через некоторое время. Сигнал, говорите? Были и сигналы. Перед самой болезнью размечтался я... Мать вспомнил, детство. Вот эти, стало быть, Почечуйки захиревшие... И вдруг – звонок! В двери. Бегу открывать, а за дверью – никого. Хоть шаром...
– Все ясно, – убежденно сплюнул Геннадий на траву и вновь со значением ухмыльнулся, сверкая белыми зубами. – Тут и к бабушке не ходи. Сигнал, знамение! А... второй звонок был? После первого?? – дотошно поинтересовался художник, безо всякого юмора и ужимок. И вот тут Почечуев малость струхнул – по-настоящему. «Откуда ему известно?» Однако увиливать не стал и про второй звонок поведал.
– У нас там жилец в доме... Кукарелов. Может, слыхали? Иногда он как бы... пошалить любит. И вообще. Думал, застукаю на месте. Ан, шалишь... Не он звонил. Потому как я арцыста из ванной голого вызвал. Не мог он в таком виде на общественную лестницу выходить.
– Ясно. И продолжать не стоит. Оттуда звоночки... – и показывает пальцем в небо.
Почечуев попробовал хихикнуть. Не получилось.
– Откуда «оттуда»?
– Из другого измерения, товарищ Почечуев, сколько вам объяснять? Из другого временного пояса.
– Это что же... вполне серьезно?– И вдруг Почечуев вспомнил, что парень в начале разговора про инвалидность заикался. «Вон какие глаза у него, как чернила синие. Ясное дело – блаженный. А я с ним чирикаю...»
– Да в наше-то время атомное разве кто в такую премудрость верует? – Попытался отшутиться Иван Лукич.
– И оправдана премудрость чадами ее.
– Это как же понимать?
– Иными словами: отойдите, непосвященные! А теперь могилу матери искать! Хоть на карачках! – в приказном порядке, будто Кункин из больницы, распорядился опять Геннадий.
– Да нет уж...– осмелился возразить Почечуев. – Знаете что... Не извольте беспокоиться, – перешел почему-то Иван Лукич на лакейский тон с художником. – Могилку я сам разыщу. Дело-то лично меня касается, деликатное, частное...
Почечуев пятиться начал. В кусты. На которых, созревшая, кровью сочилась ягода бузины.
Удаляясь, Иван Лукич сквозь кусты услыхал какое-то непонятное слово в свой адрес – то ли ругательство, то ли на иностранном языке что-то, но обижаться не стал. На что обижаться-то? То есть – на кого?
Как бабка Акулина, так и Анисим с женой на одну кладбищенскую сосну указывали, у которой ствол рогатиной раздваивался, как бы от тулова две ноги вверх тормашками уходили. В районе той сосны предлагали могилу искать.
Иван Лукич тщательно все вокруг сосны облазил и даже шире забирал, можно сказать – все кладбище обшарил, но с материной фамилией, а также именем могилы не нашел. Большинство уцелевших крестов, обсосанные дождями и снегами, надписей на себе не сохранили. Все с них начисто смылось, улетучилось, заржавело, грибком заросло, плесенью.
Почечуев после некоторого колебания остановился на одном из бугорков правильной формы; на нем даже какие-то цветочки пытались произрастать. Опрокинувшийся, вмягший в траву деревянный крест с отгнившей ножкой, под которым, когда его приподнял Иван Лукич, заморенная, сплющенная тяжестью креста зелень пресмыкалась,– пришелся Почечуеву по душе. Аккуратно вкопал он его в землю, предварительно срезав «штыковкой» все лишнее по бокам холмика. Принес с берега десяток лопат красного сырого песочку. Распределил вокруг.
«Может, и не мама тут лежит вовсе... А может, и в самую точку попал. Во всяком случае, где-то поблизости покоится. Сейчас не это главное. Важно, что вот приполз он, посетил в конце концов... А чьи тут конкретные косточки, поди разберись. Земля все скушает, всех успокоит, примет. На то она и земля – всему начало, всему и конец. Вот бы у Геннадия того чекнутого фломастер попросить. Такой он у него здоровенный. Шикарную надпись на кресте таким-то оставить...»
Почечуев простенькую школьную ручечку шариковую из-под плаща извлек, начал на неотсыревшей стороне крестовины имя, отчество и фамилию Гликерии выводить, проставлять... Шкрябал, шкрябал. Что-то несерьезное в итоге обозначилось на древесине. А нужно сказать; точной даты рождения матери Иван Лукич не помнил. Приблизительную писать не хотелось. В итоге поставил только одну дату – смерти.
Поразмяв таким необычным занятием свои сонные мышцы и опираясь, как на японский зонтик, на Акулинину лопату, вышел Почечуев по тропе с кладбища на берег Киленки. Высокий он тут был, обрывистый – берег. И если глянуть со стороны реки – красный, песчано-глинистый. Сотни стрижей в начале лета кружат здесь над своими гнездами-пещерами с веселым верещанием. На той стороне, за Киленкой, – луга заливные. На них островками-клумбами кустарник, ивушка-вербушка, а далее – лес невырубленный, входящая в рост гущера звериная.
Присел Почечуев на замшелую глыбу кирпича, отколовшуюся от одного из столбов кладбищенской ограды, руками черенок лопаты обнял, подбородком о него оперся.
«Вот и вернулся ты, Ваня, в свои Почечуйки... Как ни старался подальше залететь, как ни пытался на искусственный городской манер пожить, от себя самого улепетнуть, – ничего существенного из этой затеи не вышло, не получилось... Вот, даже закурить и то нельзя в итоге, возбраняется теперь». – покачал головой, обращаясь к возникшим мыселькам, Иван Лукич. – Стало быть, здравствуй, мать, и прости меня грешного... И не обижайся. Молодой был, беспощадный, сердце в железном футляре содержал... Как вот очки теперь. А ныне я и сам старый, И одинокий. Так что и квиты, выходит. Сравнялись. Не поминай, если можно, лихом: плохой я у тебя получился, но сердца... Сердце еще живое... имею. Болит! Теперь наезжать к тебе буду. Почаще. Зимой в детдоме детишек обихаживать, а на каникулы – к тебе».
Приободрился Иван Лукич, словно зарядку по системе йогов проделал. Исподволь и лицо у него просветлело, будто нежданная амнистия человеку вышла. Приподнялся с кирпичей на ноги, головой повертел туда-сюда. Голод в желудке ощутил. Сейчас он в баньке чаю закипятит, булки с колбасою да сыром навернет или – нет: молочка козьего, для легкости на ночь... А завтра чуть свет – на рыбалку. «Подышу недельку свежестью, молочком отпоюсь... А там видно будет. Не понравится – руки в ноги, то есть наоборот, и на шоссе: трешницу шоферу покажу – и до свидания!»
Опираясь на лопату, Почечуев к земле нагнулся, осколок кирпича поднял, размахнулся, швырнул камешек с обрыва в воду. Только не долетел рыжий обломочек до реки, шлепнулся на прибрежный песок.
«Необходимо добросить! – решил, загадал про себя Иван Лукич. – Иначе помру...»
Опять наклонился при помощи лопаты, насобирал щебня. Стоит, бросает. В азарт вошел, потому как серьезно загадано. Однако же, сколько ни бросал, ни разу так и не добросил: резвость в руке не та, мах короток, да и в плече заныло моментально.
«Ладно, пусть... Я же не загадывал – когда именно? А так, вообще только... А ежели вообще, тогда оно любому и каждому предстоит. В том числе и тем, кто добросит!»
И все же боевое настроение, возникшее в процессе метания, сразу и поостыло, будто на него ветром северным подуло. Нелепый, невесть откуда взявшийся задор, пыл рассосался по закоулкам сознания Ивана Лукича. К тому же всегда отрадный, желанный дождичек, начавший занудно накрапывать, настроение отнюдь не приподнял. Осенний, он и есть осенний – гнетущий, в лучшем случае – усыпляющий, но – не оживляющий. Да и шел он сейчас не над Васильевским островом...
Почечуев вспомнил, что у него есть жилье, какая-никакая, но своя «берлога», хоть и банного предназначения. И его стремительно повлекло под крышу. По дороге несколько палок сушняка из ничейной изгороди надергал. В полутемном предбаннике накрошил, нащепал лопатой растопки. Здесь же. в темном углу, нашарил холодную охапку давнишнего покола до звону просохших поленьев.
На лавке возле порожнего поллитра поставил баночкумолока. Вспомнил лицо Акулины: «А баба-то добрая... Тещей всю жизнь была, а я и не знал какая? Дай бог здоровья старой...»
Дохлым веничком-голичком помещение подмел. Выбросил наружу сор, в том числе баночку из-под ставриды и пустую бутылку. Затопил плиту-каменку, поставил прямо в топку, рядом с огнем, чумазый Акулинин чайник с водой. (За водицей пришлось топать в центр Почечуек, где все еще действовал глубокий колодец-журавль.)
«Хорошо, что они с батькой тогда чистую баньку затеяли, – подумал. – С дымоходом. В Почечуйках испокон веков бани по-черному топили: пока истопишь, дыму, как пожарник, наглотаешься!»
Через определенное время тепло в баньке сделалось. Снял с себя Почечуев все лишнее. Бритвенную снасть на подоконнике раскинул. Пока свет в окне не истаял, решил побриться. Зачем, почему такой марафет к ночи – объяснять себе не стал. Просто почиститься захотелось. Выпил молочка с городской булочкой. Ополоснул банку молочную и чаю в ней заварил под махровым полотенцем. Золотого, душистого, любимого. Залез на полок в одних трусах. Ноги свесил. Сидит, чай из Акулининой кружки хлебает с конфетой.
По крыше старенькой, латаной-недолатаной, по доскам сереньким все сильней дождик стучит, ударяет, на горячую, ожившую баньку напирает, наваливается сверху.
Закрыл Почечуев двери поплотней, а потом, когда в печке прогорело, дымоход круглой чугунной задвижкой прихлопнул в трубе. Вытряхнул из чемодана тряпичное содержимое. Пальто клетчатое небрежно на досках расстелил. Под голову пару веников, которые прежде с чердака баньки извлек, приспособил. Покрыл березовую пахучую сушь бельишком растеребленным, вынутым из пакетов прозрачных, городских. Лег поверх всего этого, плащом японским накрылся. Принял таблетку демидрола. Попытался ни о чем не думать, уснуть...
Сон долго не шел. Но вот уже где-то перед рассветом (на часах время к шести подбиралось по фосфорным цифиркам) почудилось Ивану Лукичу, будто лежит он у себя на Петроградской стороне, в своей однокомнатной, лежит, ждет чего-то. И вдруг откуда-то издалека, как бы с очень большого расстояния, появляется и начинает сверлить ему слух... звоночек! Сперва не громче комариного пения, а затем все ярче, назойливее, тревожней. И как бы встает он радостный, довольный, что дождался того звоночка, сползает с тахты и безо всякого кряхтения идет открывать на ранний этот благовест дверной. Потому как предчувствовал, догадывался, кто звонит... Отвел дверь, а на лестнице не архангелы вовсе, а – мать, то есть Гликерья. Еще не старая, в летнем голубом платьице ситцевом и с букетиком травки какой-то полевой. Такую он ее, матерь свою, и не видывал никогда прежде. Моложе была — помнил, и старухой последние годы – знавал. А такой — сильной, ядреной, матерой – и не предполагал увидеть.
– Здравствуй, – говорит, – Ваня. Молодец, что побрился. А то бы я тебя и не узнала. Состарился, сынок. На-ко вот, понюхай цветочки... Зверобою моего... – протягивает, сует букетик цветущий такими крохотными желтыми цветочками-искорками. Прямо в нос Почечуеву тычет. – Ну, миленький, скажи, чем она пахнет, трава моя зверобой?
– Почечуев силится ответить, что ничем-де, то есть травой-зверобоем и пахнет скорее всего... Силится ответить, а губ никак не разомкнуть. Словно ремешком их, как собаке челюсти, перетянуло.
А Гликерья молодая, строго так продолжает:
– Ошибаешься, сынок. Не «ничем», а солнышком пахнет. Ты ведь таких запахов и не нюхал никогда. Живых да сильных. «Ничем» только смерть пахнет, а эти мои – солнышком! Зорькой утренней, рассветом... На-ко, нюхни еще разок, а то и впрямь уснешь, не проснешься более.
Хотел Иван Лукич, перед тем как нюхнуть, спросить маму о двух предыдущих звонках, да постеснялся, промолчал. А мама ему:
– Свечку, Ваня, поди поставь в мою память. На кладбище. А за могилку – спасибо. Угадал: мою обиходил. За песочек спасибо, свеженький...
«А где ж я свечку-то поставлю? – подумал Почечуев. – Храм-то разрушен, заброшен...»
– А ты в себе поставь, – опять угадала его мысли Гликерья. – Душа человеческая – тот же храм. Ну, а теперь нюхни, дорогой...
И тогда нюхнул Почечуев мамашиного зверобоя, нюхнул и тут же проснулся. Очухался. Во рту как с похмелья... В висках стучит. И вот что странней всего: звоночек! Не перестает, звенит! Знай себе надрывается. Что, почему? Здесь-то, в Почечуйках? Может, коза Акулинина приплелась – с колокольчиком?
А звоночек звенит, сверлит мозги Ивану Лукичу.
«От вина выпитого или от жары, – начинает соображать Почечуев. И вдруг спохватывается: – Угораю! Наверняка головешка в печке спряталась, завалилась за кирпичик отпавший. Угораю, помру тут! А мне еще в детдом непременно... Книжки читать... Ах ты ж, господи! Вставать нужно всенепременно! Ну, мама, ну, спасибо тебе, родненькая... Предупредила...»
Сполз Иван Лукич с полка на пол и на карачках – к печке. Кривым сучком принялся в топке ковыряться, затем передумал и вверх к дымоходу карабкаться решил, вялыми руками задвижку нашарил, отбросил на пол чугунную тарелку. Далее – к дверям на карачках же, ползком, по-звериному устремился. Обе двери распахнул, выбил чуть ли не головой – на дождь выкатился. Стал воздух крупными глотками глотать. И воду языком лизать. Стошнило. Малость очухался...
Перевернувшись на спину, глазами небо искать начал и где-то на краю неясный намек на утро – жиденький мазок рассветный – всем существом своим воскресшим зачерпнул. Голова его, чудом уцелевшая, и сообразить в тот момент не могла, не хотела, что это он из угара прежней жизни своей выполз, вывалился. Теперь, когда его дождь малость отрезвил, – не понял, а почуял он Жизнь новую, бесконечную. И не важно было, сколько он дальше проживет – миг, пятилетку или еще какой срок,– не имеет значения, ибо дальше теперь только – вечность, слияние с миром всеобщим – пылинки со звездой, звезды со Вселенной...
Через полчаса, весь мокрый, дрожащий, к чемодану подполз, мешочек с лекарствами добыл, принял от простуды, от головной боли... И вновь на полок забрался. Долеживать сумерки.
Светало. Проносной дождь перешел в обложной, длительный. Неустанным сеянцем опадал он на дряхлеющие деревья бывшего сада, на чернеющую зелень лопухов и крапивы, что кольцом окружили покосившуюся баньку, на коньке которой с полминуты посидела мокрая, блестящая ворона, а затем, подбросив крылья, тяжело поплыла по воздуху в сторону своего гнезда.
1979—1980


