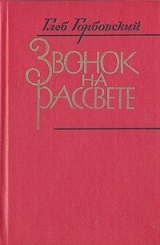
Текст книги "Звонок на рассвете"
Автор книги: Глеб Горбовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц)
«Помню, помню, Маня, глаза твои, василечки! Дурачина я, Маня, простофиля, дак ведь и ты не лучше. В общагу из такого дворца сбежала. Церемонился я с тобой, Манечка, и напрасно! Ломать, крушить тебя надобно было, тревожить, как стену нерушимую. Ты ведь клад, Маня, для такого угрюмца заскорузлого, как я. Всю жизнь только и делал, что стеснялся. Женщин, мужчин, детей, собак, даже соседей... Стеснялся, сторонился. Любил я тебя, Маня, ох, только неправильно любил. Слишком миндальничал, слишком этикетничал... Да, да. А надобно целовать чаще было и обнимать! Вот и не делась... Словно змейка, под камень исчезла, увильнула. А тут еще эта затея с дитем... Из-за дитя беспомощного взбунтовалась. Из-за комочка мяса неразумного, крикливого. Сыночка иметь вознамерилась или доченьку.. А где ж их взять, если нету? Если природа не пожелала?» И пошел, пошел, как сверло, как шлямбур в стену, – в воспоминания свои окаменевшие...
Помнится, вернулся однажды Почечуев с предприятия: кипа бумаг казенных в портфеле – годовой отчет. Первым делом Иван Лукич газету на столе разложил: происшествия высматривать в прессе. Он их, происшествия эти, как правило, из газеты вырезал и сортировал. Если за границей что произошло – в одну папку, если у нас – в другую. Особая, заветная папка содержала сведения о найденных кладах. Но в тот день, когда он вернулся с отчетной цифирью в портфеле, в газете промелькнуло всего лишь одно происшествие: на городскую улицу, прямо к пивному ларьку, неизвестно откуда вышел лось. С рогами. И все. Вырезал Почечуев заметку, убрал газеты со стола, принялся чай заваривать, нюхать, впитывать наслаждение.
За окном успокоительный дождик калякает, по жестяному наружному подоконнику прохаживается...
И тут возвращается Маня с занятий. Достает из портфеля тренировочный спортивный костюм, в котором физкультуре детей обучала, а со дна портфеля – карточку фотографическую. Протирает снимок и Почечуеву протягивает. А на снимке – дите. И в таком нежном возрасте, что не понять, какого полу будущий человек изображен.
Вот... – вздыхает Маня. – Усыновить бы сиротку... Согласись, Почечуев! Уважать буду... – и глаза от безмерной отваги закрыла. Ждет, что ей Почечуев на это скажет.
Господь с тобой, Манечка... Незнакомое, можно сказать, неведомое дите, и вдруг – усыновить... Без подготовки, без обсуждения... Пеленки, кашки... Ребеночек плакать будет громко... А тут как раз отчет, ревизия как раз... Для такого шага созреть необходимо, – заключил и твердо так в глаза Мане посмотрел.
И не стала Маня с Почечуевым спорить. Поняла враз: не доказать ей жалкую правоту свою. По взгляду глаз почечуевских уверилась, что не перешибить, не преодолеть ей страхов его, стеснения его пламенного не потушить, не задуть, не то что словами – молитвами...
(Почечуев тогда допоздна прокорпел над бумагами. А затем снотворное принял и тут же, на кухне, на алюминиевой раскладушке уснул без памяти.
Проснулся Почечуев соломенным вдовцом. Ушла от него Маня. К ребеночку. От мужа – к малышу неизвестному. Растворилась в огромном городе. Искать ее по общежитиям, школьному Маниному начальству надоедать постеснялся. Поскучал, даже поплакал и приспособился жить один. Без спутников.
Выручала бухгалтерия. Какой-никакой, а все же коллектив. Войдешь в помещение, а воздух в нем так и жужжит от арифмометров, будто на пасеке у Анисима. Последнее время, правда, тише в бухгалтерии сделалось: арифмометры списали, заменили их электронными бесшумными калькуляторами.
И вдруг – на пенсию... То есть такая тишина гробовая наступила, хоть в стену башкой бейся! И бился... шлямбуром.
Одинокие люди, от которых жена ушла, раздражают. Как хронически больные кашлем. И настораживают: от других не ушла, а от этого скрылась. Почему? Кто он такой после этого? Не иначе – меланхолик закоренелый.
Почечуев своим добровольным отщепенством попавшего в капкан зверька напоминал. Попавшего, а лапу себе откусить – не решившегося. Откусить, чтобы на трех остальных от самого себя попытаться уйти. В лес, в приволье, на свободу. Он, конечно, дергался из тенет: собачек прикармливал, в очередях без надобности стоял, из солидарности с бабушками. Достоится в толчее до прилавка, наслушается слов разных и, ничего не купив, домой идет, удовлетворенный. Даже в детдом наниматься ходил, спрашивал: не нужны ли там пожилые, опытные люди, желающие за детьми приглядывать?
Одним словом, избавиться от капкана хотел. И все же лапу перекусить не осмеливался. Или зубов не хватало.
Почечуев к концу жизни в себя ушел, а его жена Маня – от него ушла.
Марьяна Лилиенталь своему дружку Кукарелову рассказывала. Однажды она из чисто женского любопытства в Никольскую церковь зашла. В выходной день. И встретила там Ивана Лукича. Бухгалтер воровато озирался. Как будто искал кого-то. И вдруг у Марьяны ехидно так спрашивает: «А вы-то сюда зачем? С комсомольским значком?» Марьяна ему: «Поют, дескать, здесь очень хорошо. Необычно». А Почечуев ей будто бы: «Вот и шли бы в филармонию. А церковь для старушек. Которым дышать трудно». – «И вам – трудно?» – не удержалась Марьяна. А Почечуев шепчет: «Лично я – машинально сюда пришел. Ноги привели. Не голова. Шел за пельменями в гастроном – очутился в храме».
Такая непоследовательность в желаниях, а также в передвижениях по морю жизни говорит о завидной непотопляемости Ивана. Лукича. Он мог носить в себе заскорузлую боль о загубленных математических способностях, мог отдельную квартиру общежитейской предпочитать, годами – неба не видеть, книг не читать, Баха от Шестаковича не отличать и. все же – быть самим собой!
Вот, скажем, его застарелая любовь к дождикам. Можно оказать, к непогоде любовь, к агрессивному явлению природы. От которого все, когда их дождь на улице застает, врассыпную бегут. А Почечуев как раз и преображается при его воздействии. Вот тебе и цифирь скучная. Стало быть, тайна в плоском бухгалтере? Загадочка, загвоздочка некая? И не эту ли искорку божию раздувать в Почечуеве надлежало ветрам жизни?
IV
Почечуев с трудом оторвался от воспоминаний. Прекратил молотком по шлямбуру стучать. Запрокинул голову к потолку лицом. А лицо, руки, волосы, одежда – все в рыжей кирпичной пудре. Очень уж вдохновенно долбил. И вспоминал не менее возбужденно. Потому и перепачкался так залихватски.
И вдруг еще одна деталь из пережитого вспыхнула! Словно молния из ночи в окно брызнула. Отпечаток Маниной фигуры на забытых ею старых, просиженных джинсах... На стуле висели, когда он в комнату ворвался. И, не найдя жены, брючата ее схватил и к сердцу прижал. И так он остро тогда невосполнимость ее умчавшегося мирка ощутил, с такой выпуклостью предельной, что даже теперь, по прошествии лет, вспыхнув остервенело, размахнулся молотком и со всего маху врезал по настенному, календарю, на картинке которого японская девушка в натуральном виде была изображена.
Ив тот же миг совершенно отчетливо в прихожей прозвенел звонок! Продолжительный, деловой, даже – спокойный.
На этот раз Почечуев рысью к дверям не побежал. Ему еще помнился недавний «пустой», как бы мнимый звонок. Но любопытство и сейчас победило. И тогда он нехотя зашмунил тапочками в прихожую. Спрашивать «кто там?» не стал. Зачем лишний раз унижаться, самолюбие стеснять?
Распахнул дверь и презрительно на лестницу взглянул. Улыбнулся трагически в порожнее пространство. Ясное дело: сбежали, пока соображал: «Ах ты ж в рот бутерброд! Придется с арцыстом отношения выяснять». Потер Иван Лукич руки от удовольствия, от предвкушения перемен, ибо в прозвучавшем звонке ветры грядущих событий ощутил, стряхнул пыль с головы, как пепел судьбы, и, как был в тапочках и с молотком в руках, побежал вверх по лестнице, позабыв свою однокомнатную ключом-пилой запереть.
Звонит Почечуев к Кукарелову, и моментально двери распахиваются. Словно поджидали Ивана Лукича с нетерпением. В черном проеме белая волосатая фигура мужская, местами намыленная, возникает. Полуобнаженный молодой человек вырисовывается. Черты лица мокрые. Черные усики резкие. Нос прямой, мокрый. Капля на кончике. Зубы, открытые улыбкой, с никотиновой янтарной желтизной. На голой груди целый букет из волос. И радужный мыльный пузырек в волосах сверкает.
Почему-то Почечуеву прежде всего веселый пузырек в чужих волосах потушить захотелось. Прижимая молоток к груди, как ребеночка, Иван Лукич затоптался на пороге, не решаясь входить.
– Вызывали? – робко и одновременно радостно поинтересовался Иван Лукич у Кукарелова.
Кукарелов остатки пены с лица пятерней обтер. Глазами заморгал от неожиданности.
– Не звонили? – застенчиво поинтересовался Ивян Лукич. – А я сосед. Под вами живу... То есть – как бы живу. Потому как – разве это жизнь?.. Одиому-то? Вот и подумал, что... позвали. На предмет продолжения знакомства. Месяц назад, помните, я к вам по вашему сигналу заходил: вы тогда веревочку опускали... На третий этаж. С почтой. И артистом императорским представились.
– Да я вас хороша знаю! – воскликнул Кукарелов. – Проходите, ради бога! Садитесь! Правда... у меня кресле ненормальное, низкое очень. Ноги у него отгнили и... ваще! Я мигом! Ополоснусь только под душем. Располагайтесь!
На паркете пустой комнаты действительно стояло, верней – лежало старое-престарое кресло. Не обеденный стол, за которым гостей принимают, а почему-то именно кресло, ветхое, плюгавое, обитое некогда натуральной кожей, ныне истонченной до таких болотных окошек, из которых, как мох-трава высохшая, клочьями торчали какие-то волосы. В правом дальнем углу комнаты, тоже безногая, простиралась в лежачем положении тахта. «Видать нынче мода такая...» – соображал Почечуев. Остальное помещение можно было назвать порожним.
Кукарелов появился минут через пять. На голове у него было закручено полотенце турецким тюрбаном; на плечах вместо халата – старенький, линялый плащ-пыльник, видевший на своем веку и адские машины химчистки, и прибалтийские непогоды, а также – непомерную автобусную давку в часы пик.
Голые волосатые ноги артиста, розовые от горячей воды, нагло выглядывали из-под пыльника.
– А вы проходите на кухню. Там уютнее. И ваще! На кухонном столе Кукарелова лежали горелые спички, окурки сигарет, огрызки хлеба, точнее – сухарики, стояла чашка, на дне которой чернел ободок осадка, скорей всего от кофе.
«Ну и ну... – соображал, принюхиваясь, Иван Лукич.– Кофий потребляет, дурачок. Да разве чай с кофием идет в сравнение? Сразу видно – холостой. Арцысты – они всегда так-то, без разбору... Да и зачем такому семья? За кулисами-то? Бедолага, одним словом. С девушкой, с этой чернявенькой, видать, тоже всего лишь по веревке, не ближе, связан... Запустение на столе какое!»
– Хотите кофе? – улыбнулся Кукарелов.
– Не извольте беспокоиться. Да и непьющий я...
– А я вам не водки предлагаю...
– От кофия, говорят, тоже дуреешь... Наркотик, одним словом.
– Ну, как знаете... Слушаю вас и ваще!
– Может, вам того... И знать неинтересно... Только забавно получается. В данный момент ремонтом я занимаюсь. Нишу такую... Под книжную полочку... Короче – стенку малость ломаю. Книги решил приобретать. Сейчас без книжки нельзя. Без жены можно, а без книжки – нельзя. Срам, ежели у человека книжная полочка под кастрюли приспособлена. Прежде-то, то есть до пенсии, читать было некогда. А теперь... Да я вас от дела, должно быть, отрываю? Так я – мигом! Стало быть, занимаюсь я нишей преспокойненько... Вот этим вот молотком стучу. И вдруг – звонок! Выхожу открывать – никого... Ну, и к вам... За советом.
– Я к вам не звонил. Я душ принимал, – выдернул Жукарелов у себя черный волосок из ноздри, выдернул и повлажневшим взглядом ласково так по Почечуеву заскользил.
– Согласен, что вы не звонили... Однако – беспокойство. Как жить дальше – не знаю. Иные-то с выходом на пенсию помирают. А я не хочу. Рано. Вот... книг почти не читал. Не успел. И в Эрмитаже только один раз был: сразу после войны, когда смету на ремонт музейного здания составляли...
– Может, вам книгу дать? Вы не стесняйтесь... У меня есть кое-что.
– С большим удовольствием». Только я сейчас не за книгой. А – за советом. Вот вы – человек начитанный. Артист театра... Таланты-поклонники. И мне ваше мнение драгоценно.
– Ну, если так считаете... Рад помочь. Только какой же я вам советчик? Вы старше меня, опытней.
– Одни мозги – это одни мозги, а ежели двое... Тут всегда выгода. Отстал я... за цифирью... От современных людей. Вот и скажите мне, если не жалко... Постой, постой! А зовут-то как? Сидим, кофий пьем, а как звать друг друга – не знаем... Некультурно вышло.
– Виноват, растерялся... В мыле был. Игорь я, Кукарелов. И ваще...
– А я Почечуев, то есть Иван Лукич. Вот и скажи ты мне, Игорек... Подумавши. Можно человеку... в моем положении вроде как заново родиться? Не через родильный, понятно, дом, а душой-сознанием переделаться? И непременно в лучшую сторону?
– В вашем возрасте? – выдернул Кукарелов еще один волосок. – В вашем чтобы возрасте переделаться? Сомневаюсь. Извините меня, конечно. И ваще. Но поверить в такое трудно. Это все равно, что другим почерком начать писать. С другим наклоном и нажимом. Надолго не хватит... То есть внешне можно приноровиться: передвигаться и даже поступки совершать, а характер все равно прежний останется... Это с моей точки... А там кто ж его знает: чужая душа – потемки.
– Не веришь, стало быть... В человека.
– Сомневаюсь.
– А ведь я почему иначе-то жить собираюсь? Нужда отпала притворяться. Прежде-то я себя сдерживал. К окружающей среде приспосабливался. И над собой, натуральным, насилие делал. Вот как бы всегда обувь на номер меньше, чем нужно, носил... Да и одежду – тесней, чем требовалось. А теперь, когда окружающая среда отпала, когда я перед самим собой, как перед богом, предстал, – зачем, для чего теперь ежиться? Раньше-то я мимо людей галопом проскакивал. А теперь специально в автобус переполненный влезу и на людей с близкого расстояния смотрю. Пуговицу оторвут в давке, а мне приятно: не сама отлетела, не отгнила, а движением жизни ее снесло! Вот-так-то, Игоречек! Беспокойство ощущаю. Казалось, правильно жил, приказы-циркуляры и прочие формуляры не нарушал. Юридически ненаказуем. А не нравлюсь...
– Кому, Иван Лукич?
– Себе, Игорек... Лично.
– Развеяться вам нужно, съездить куда-нибудь, Или – с женщиной познакомиться.
– Маму вот обидел...
– У вас мама жива?
– Какое! – махнул Почечуев молотком и застеснялся, голову ниже опустил, а затем и вовсе на выход потянулся. – Спасибо, Игорек!
– За что же?
– Выслушал старика... Ты дружи, дружи со мной. Я тебе плохого не сделаю. Безвредный я теперь. Потому как желаний мало имею.
V
Возвращается Почечуев к себе в квартиру. Ругает себя за ротозейство (двери незапертыми оставил). Защелкивает запорчики, поворачивает голову от двери, а в прихожей у него человек с веником под мышкой стоит.
– Приветствую хорошенько! – скрипит деревянным голосом пришелец. – Смотрю, понимаешь ли, дверь отошла, а в щель кошка грязная лезет. Ну, я кошку под зад ногой хорошенько, а сам захожу. Глядь – никого. Одевайся, пошли, миленький, в баню.
– С какой же это стати в баню?
– А с такой, что не притворяйся... Любитель ты этого. Знаю.
– А мне вот ваше лицо незнакомо.
– Вот те на! Запамятовал. А мне, сынок, твое лицо на всю жизнь врезалось. Вот сюда! – и незнакомец почему-то похлопал себя по затылку. – Мы с тобой, Ваня, в войну ой как парились хорошенько!
– Разве? Не обознались? Может, не со мной... парились? Все-таки давно было. Сами говорите: в войну... А на какой же улице баня, в которой мы парились?
– Здеся, на Щорса. На Петроградской, стало быть, стороне.
– Та-ак... И вы что же, опять меня в баню зовете? А если я откажусь?
– Пойдем. Что тебе делать, на пенсии-то? Сегодня суббота, сам бог велел. Собирайся, чего мнесси? Чай, у тебя не семеро по лавкам. Ты мне спину потрешь, а я тебе сказочку расскажу. Приятное с полезным. Про тебя, про дурачка, байку поведаю.
– Ничего не понимаю. Какие такие сказочки?
Смотрит на незнакомого гостя Почечуев и видит, что человек с веником старенький уже, ну, форменный дедушка, и что бояться такого сморчка нет причины. А сопротивляться ему, то есть бить его, и подавай грех.
«Ладно, пусть... Может, и парились когда. И скорей всего не на войне, а в прошлую субботу, – соображал Почечуев. – А насчет сказочек... Небось заговаривается, вон какой древний. Одно смущает: каким образом он меня разыскал? Неужто по пятам плелся, когда на прошлой неделе из бани возвращались? Местожительство проследил, внимательный какой старичок. Видать, цель имеет. Сходить, что ли, с ним, попариться? Может, и размякнет моховик сушеный, откроется?»
– Обождите меня на кухне. Бельишко соберу... Только объясните первоначально, как вы меня нашли? В таком большом городе?
– В справочном ларечке за пятачок, миленький... Вот так нашел. Теперь по этой части дело налажено. Ну, а здесь, перед фатерой твоей, смотрю – дверь отошла, и кошечка, страшненькая такая, в щель всовывается. Сразу видно – бесхозная. Ну, я ее... Да погоди-тко, миленький, неужто взаправду не признал? Очки надень. И мужик, ты против меня молодой, .а гляди-кось, заколодило... А все табачище! Видать, куришь много. Помещение вон как просмолил... Вот тебе и заволокло память-то. Погодь, погодь, миленький! Сейчас признаешь. Я тебе доказательство предоставлю, любо-дорого... Писарем в стрелковом батальоне состоял? Состоял, по глазам вижу. Под Старой Руссой... возле Холма, в землянке сидел? Сидел. А человечка одного... солдатика пожилого, от расстрелу спас? Замолвил словечко перед начальством? Замолвил. И свидетелем проходил. Помнишь, дезертира судили? А какой дезертир, если за ягодами на брюхе уполз, за брусеной... Лоб в лоб мы с тобой в том ягоднике столкнулись, во мху пушистом. Припоминаешь? Мина потом прилетела. Ротного калибра. И промеж нас врезалась. Тебе ничего, а мне пальчики секанула. И энтот, которым воины на спусковой крючок нажимают, в том числе. Дошло, или продолжать? Занятная сказочка? А ты закури... хорошенько! Ишь, разволновался. Спаситель ты мой – вот кто! Да я тебя, почитай, сорок лет разыскиваю. Еще какие тебе доказательства предоставить? Желвак у тебя на животе. Шишка такая. Непременно парить его необходимо, иначе он, желвак этот, в рак перейти может. И крышка. А ежели паром его хорошенько потревожить, он и ослабнет а потом и вовсе потом наружу выйдет. Я тебе в прошлую субботу в бане не признался: Сомнения брали: вроде он, а вроде и не он. И желвака прежде никакого не было.
«Смотрите-ка, чего знает! – восхитился про себя Почечуев. – Говорит, свидетелем будто? Это когда же? В штабе каких только дел не разбиралось... И к стенке без лишних слов ставили. Если провинился человек. Может, и не врет. На войне событиям разным – числа, нет... Выходит, что же – однополчане? Вот притча...»
И пошел Почечуев в баню с незнакомым дедушкой.
«Сбегаю разок, а там и не разрешу больше приходить... Если чего не понравится».
– Позвольте, дедушка: вопросик задать?
– Какой я тебе дедушка? Обижаешь. Должник я твой на веки вечные – вот кто! Спрашивай, что душа пожелает.
– Извиняюсь... А спросить вот о чем намерен: минут этак двадцать тому назад в дверь мою не звонили? В звонок? Не нажимали кнопочку?
– Нет, не звонил. Чего не было, того не было. Мимо дверей проследовал, глядь – не заперто, и кошчонка, туды ее хорошенько,– шасть... Ну, я...
– Ясненько. А веничек где же купили?
– Он у меня свой, домашний; деревенский. Довоенной поры. Который год одним и тем же пользуюсь. В городе тут пар, он какой? Никакой. Одно названье. Вот веничек и не лысеет. В деревне-то, бывало, за одну баню пару таких отстебаешь...
В бане Почечуев вспомнил, что, собираясь дома пельмени варить, вынул их из холодильника, и тут как раз позвонили... «Раскиснут теперь пельмешки, – сокрушался про себя Иван Лукич. – Принесла нелегкая», – неприязненно посмотрел он на старикашку.
Вообще-то Почечуев ближе к вечеру и сам непременно в баню сходил бы. Без посторонней помощи. Но коли уж так получилось – будь что будет.
Снимая с себя какие-то допотопные подштанники с тесемками вместо пуговиц и обнажая тщедушное, почти детское тельце, старичок как бы невзначай обронил:
– А мне, Иван Лукич, намеднись восемьдесят годочков жахнуло! А словно и не жил еще...
– Поздравляю! – улыбнулся Почечуев, а про себя подумал: «Ничего себе: будто и не жил! Восемьдесят годочков хапнуть... И куда только влезло, в такого сморчка? Тут в шестьдесят, того гляди, в Парголово свезут».
Иван Лукич поднес к ноздрям веник, который у незнакомой бабушки на крыльце бани приобрёл. Яростно встряхнул березовый букет у себя над головой.
Первым делом – в парилку. Взбились на полок. Народу что людей! Но втиснулись, хотя и сели прямо на доски помоста. Несколько молодых мужиков попроворнее, которые скамейки заняли, веселятся, пару наподдавали – состязаются! Почечуев про дела временно позабыл, лысину холодной водой смачивает, отфукивается. А старичок тот самый, военных времен, в гущу тел забрался и хлещется, как ненормальный. Изо всех сил. Так размахался веничком своим бессмертным, аж красный сделался, будто стручок перцу.
Почечуев как бы оттаивать стал... Во вкус банный входить. Веничек в тазу мочит. Истязать себя собирается. И вдруг откуда-то из груды тел дедушкин холодный голосок заструился:
– Рад я тебе, Ванюша... Праздник у меня сегодня! Я ведь тебя не отблагодарил тогда... За спасение. Теперь-то уж отблагодарю. Говори, чего желаешь?
– Не болтайте чепухи... – фырчал намыленный Почечуев. – Я голову мою. Какие могут быть желания?
– А – любые. Машину легковую... «Жигуленка» сообразить могу. По части золотишка – опять же... Дубленку болгарскую. Вазу хрустальную. Икры любого цвета, хоть бочку. О коньяке не заикаюсь – нельзя тебе, из возраста вышел... коньячного. Не робей, Ваня, бери, пока дают. Потому как осчастливил ты меня! И притом дважды: тогда, на фронте, и теперь... За то, что отыскался! – спасибо! Как бы я в гроб сходил, не отблагодарив тебя, не пропев тебе аллилуйю? Чего молчишь, реагируй!
– С ума-то не сходите... Да и не нужно мне ничего. На седьмом-то десятке. А чего нужно, того за деньги не купишь...
– Это что же, в смысле здоровьишка?
– В смысле – другим человеком стать. Не нравлюсь я себе... прежний. Разве я жил? Трава и та краше живет.
– Эвон ты куда... – вылил на себя шайку воды дедок. – Такого товару достать не могу. Туманно говоришь, Ваня. Желания твои... как бы это попроще сказать, эхимерные слишком. Ежели о жизни баять, оно конешное дело, годков двадцать я еще поскриплю. А вот ты, Лукич, со своим желваком, не обижайся, но вровень со мной не протянешь...
Почечуев сделал вид, что не слышит старичка, уши стал себе намыливать, пеной затыкать, а дед громче прежнего трубит:
– А я, Ваня, беспременно до ста лет проживу. У меня и мама сто пять отмахала. А тебе... Тебе, Лукич, спасибо по гроб. Молиться за тебя – хучь во здравие, хучь за упокой – до скончания дней буду. Мне ж тогда, под Старой-то Руссой, не шибко верили, что миной пальцы поотрывало... Самострел, шепчут! А ты, Ваня, не отвернулся от меня. На правде настоял. А ведь мог бы и того... промолчать. Молчком-то спокойней. Настоящий ты, Ваня, человек! Золотой у тебя характер. И задумал ты глупость: другим человеком сделаться. Не пори горячку. Обдумай все. А на мой взгляд – от добра добра не ищут. Вон, посмотри-ка по сторонам... Какой только сволоты не встретишь... Ежели б нас не раскидало на войне (меня после госпиталя – в обоз сунули), я б тебе раньше все это высказал. Давай спину потру! – крикнул дедок в самое ухо Почечуева и, не ожидая приглашения, жестко прошелся снизу вверх по спине Ивана Лукича.
«Откуда что берется?.. Силища такая в блохе!» – мелькнуло в сознании Почечуева, а дедок тер и тер, не переставая заливать в уши бухгалтера свой, до печенок проникающий, ледяной говорок...
– Один ты, Ваня, как перст. Некому тебе не только спину потереть – глаза закрыть. У меня вот мама сто пять отмахала. Я ее недавно зарыл. Лет десять тому назад. И могилку соблюдаю хорошенько! Не как некоторые!.. Твоя-то мама, миленький, чай, живая еще?
Почечуев не стал отвечать. Он вдруг сорвался с полка и по скользким ступеням, гулко шлепая ягодицами, съехал вниз, до самого пола. Кряхтя и стеная, с трудом отклеился от мерзкого бетона. Заторопился в зал, незаметно для себя прихрамывая. В мыльной было больше света и воздуха. Поспешно окатил он себя там летней водичкой и, забыв на лавке крепкий, неиспользованный веничек, ринулся раздевалку.
«Проклятый дедок! Мама ему моя... спонадобилась! Огарок сопливый... До моей мамы ему дело!» Когда полотенцем обтирался, рядом какой-то тип, пивом налитый, громко рыгнул и пальцем на желвак Почечуева показал:
– У моего, понимаешь, брательника такая же дуля сперва выросла... А потом...
Иван Лукич не сразу сообразил, о чем этот боров толкует. Мужик и от бутылки-то вроде не отрывался, а вот успел брякнуть.
– Вы ко мне, что ли?
– У моего брательника, грю, такая же блямба спервоначалу на пузе... А потом...
– И что же потом, если не секрет? – сощурил Почечуев глаза и так сатирически посмотрел на пивного дядьку, что тот покраснел заметно, а ведь был и так красным – после пара и пива.
– А что потом... Известно что... Рак.
– Дурак... – улыбнулся Почечуев сытому гражданину. – Вечное блаженство потом. Пушкина читать надо. А не пивные наклейки.
Розовый мужик от неожиданности тоже улыбнулся. Почесал мокрую макушку головы, успокоился. Оба теперь поворотились друг от друга и занялись одеванием.
Возвращаясь из бани, Иван Лукич не переставал смущенно удивляться тому, как он грубо ответил в раздевалке неприятному хаму. «Сколько можно церемониться? – подбадривал он себя. – Всю жизнь вянул – достаточно! Лихо я его подбрил. Вон если деду верить, я и на более смелые поступки способен. Шутка ли? – человека в войну спас...»
Во дворе, возле дверей своей лестницы, Иван Лукич обнаружил небольшую толпу человек в пять-шесть. Люди смотрели на обшарпанную кирпичную стену. На стене, раскрашенная под серый мрамор, висела фанерная дощечка – на манер мемориальной. А на дощечке печатными буквами надпись: «Здесь жил и работал выдающийся бухгалтер современности Почечуев Иван Лукич». И даты. Жизни и... смерти. Нынешний год поставлен.
Дощечку, естественно, тут же удалили со стены. Дворничиха лопатой сковырнула. Почечуев сперва хотел заплакать. Глаза его увлажнились, губы вздрогнули частой мелкой дрожью. И вдруг маму вспомнил. Потому как некому, кроме ее бессмертному образу, пожаловаться было. А вспомнив маму, сразу и утешился: «Сам гусь хорош, нашел на что обижаться. Небось когда мама в бане умирала в одиночестве, не остановилось твое сердчишко, Почечуев... Пельмешки небось в этот самый момент употреблял или чай заваривал. Вот теперь и читай... Про то, как тебя заживо из жизни вычеркнули», – усмехнулся покорно Иван Лукич. И сразу же подумал: «Неужто Кукарелова баловство? Навряд ли... Тот бы дату смерти не проставил. Кукарелов – добрее. Тогда – кто же? С предприятия поблизости никто не живет... Может, из ЖЭКа чудотворец какой?»
Дощечку Иван Лукич снес к себе на квартиру и очередную пробоину в нестандартной, «таинственной» стене фанеркой той самой прикрыл. «Что ж, мы люди не гордые... Приспособимся и к дощечке. И к желваку притерпимся. Не привыкать нам за существование жизни бороться. По ученой теории товарища Чарльза Дарвина».
Разодрал Почечуев бумажную коробочку со слипшимися пельменями, хлебным ножом искромсал спаявшийся комок теста и фарша, покидал в кипяток бесформенные клочки. Из нешумного, молчаливого холодильника «Морозко» извлек банку сметаны. Сварил, заправил, пообедал. Лег на диван, над которым висел коврик, расшитый Маниной рукой, изображавший лукошко с грибами. В основном боровички с подосиновиками. Расслабился, блаженная улыбка на лицо к нему слетела. И тут стихи одного давнишнего приятеля-студента на память пришли. Не все целиком стихотворение, а лишь две его последние строчки:
Лягу спать на полу в коридоре,
буду ждать с нетерпением – горе.
«Буду ждать... – повторял, засыпая и улыбаясь, Почечуев. – Лягу спать. Пусть пляшут, по трубе водопроводной как муравьи, бегают, пусть! В звонки звонят, сосисками машут – выдюжим, промолчим... А то и отбреем, не заржавеет у нас... А ежели по-доброму, так и спасти можем... Ляжем спать на полу... Будем ждать-поджидать...»
Страдать умеют все. То есть своей болью болеть, а ты вот чужой болью занедужить попробуй. Почечуев потому заживо не умер, в Плюшкина или Собакевича не превратился, потому что росток сострадания в нем не полностью засох. А ведь суета внешней жизни подчиняет, засасывает, можно сказать – перерождает тело и душу жителя земли. И вот тут очень полезно назад, в далекое детство, оглянуться: чего там в поведении дитя больше было – жалости или жестокости? Отсюда и танцевать.
Почечуев во время постигшей его болезни в разговорах с Кукареловым не единожды пытался извлечь из памяти нечто светлое, достойное, перепрыгивал в воспоминаниях с деревни на войну, с войны на женитьбу и вдруг с улыбкой остановился на самых далеких событиях детства.
«Помнится, было мне этак пять или шесть годиков. И вышел я из деревни по такой славной тропочке ласковой... Босиком шлеп да шлеп. Рожь на холмистом поле спину прогибает, волнуется. Птички звучат, бабочки летают. И приводит меня тропочка в низинку между холмами. А там – пруд, вода. По-местному – «мочило». В этом водоеме лен крестьяне мочили. Обыкновенно осенью. А в момент, когда я туда по тропе выбежал, раздавались там крики ребячьи, визг, детская, одним словом, брызготня. И чую: жалобное такое мяуканье от воды исходит. Понял я: братка Анисим с дружками котят топят. Было им такое от старших поручение злодейское. И вот кинулся я на них с горячим решением отбить хоть одного котенка! А котята, помнится, зрячие уже, игручие. То ли запахом, оставляемом на полу, не угодили, то ли количеством своим... И вот вижу я: плывет один рыженький через «мочило» – прямиком ко мне. От Анисима с дружками бегством спасается. Схватил я мокренького и под рубаху запихал. Да бегом со всех ног! А погубители – за мной. Во главе с Анисимом. Вдогонку сопят. И вот слышу – настигают. Ножки-то были коротенькие, тоненькие... Кривенькие. По ним душа-то в пятки так и скользнула. Упал я в рожь и ну ползком петлять. А ржица высокая, густая. Котеночек из рубахи вывалился... и, как сквозь землю провалился! И главное – затих, не вякает.
Налетели на меня... истребители! С брюха на спину переворачивают: котеночка ищут. А мне весело: обдурил, спас! Когда ребятня разбежалась и слезы на мне высохли – отыскал я киску и к одной божьей старушке отнес, благо у нее этой живности в избушке – пруд пруди...»


