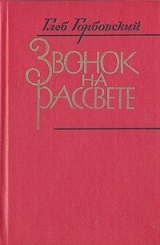
Текст книги "Звонок на рассвете"
Автор книги: Глеб Горбовский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Ножки тонёньки, душа коротенька. Жив, жив, курилка!
Игровая приговорка (Д а л ь В. Толковый словарь)
I
Почечуеву нравилось, когда идет дождь. Многое ему нравилось. Скажем, баня с паром или, к примеру, чай крепкий, индийский; опять же – одиночество нравилось, а в газетах – происшествия. Но дождь! – летний, теплый и лучше, если затяжной, создающий под кепочкой Почечуева определенную музыку, – дождь этот, городской, бульварный, садово-скамеечный, отраженный асфальтом улиц и меланхолически дребезжащий по черному куполу зонтика, дождь этот, утешающий и просветляющий, любил Почечуев более всего на свете. Он любил его даже в трескучие морозы. При малейшей оттепели ноздри Почечуева начинали нервно подергиваться, втягивая сырой воздух, глаза увлажнялись в предвкушении будущих дождей. Дышать становилось легче, жить радостней, устремленней.
Как только Почечуеву исполнилось шестьдесят, он незамедлительно вышел на пенсию. Директор предприятия робко предложил ему остаться поработать еще. Но слишком вяло предложил. Без горячего усердия. Так случается, когда вам что-либо протягивают, скажем деньги, однако из рук бумажку не выпускают.
И Почечуев от предложения отказался. Он весело вышел на пенсию, так как устал от бухгалтерской цифири, от женского общества, устал быть чужим коллективу.
А как только вышел на пенсию, с удовольствием начал совершать оздоровительные прогулки по городу. Чаще всего с Петроградской стороны пробирался он на Васильевский остров, к Соловьевскому садику, где усаживался на скамью и поджидал, легкий на помине, балтийский дождичек, с удовольствием поджидал, как лучшего друга, с которым, не торопясь, можно выкурить папироску и всласть побеседовать, не раскрывая при этом рта.
Одеваться Почечуев умудрялся во все импортное, хотя дешевенькое, но обязательно заграничное, «потустороннее»: слабость в его возрасте труднообъяснимая. Приобретал носильные вещи в Гостином дворе. То сереньким германским костюмчиком разживется, то чешскую шляпу спроворит, а нынешней весной достоялся в очереди (два раза валидол принимал) до натурально японского плаща с иероглифами на бирке – рукава-реглан, и влаги не пропускает ни снаружи, ни изнутри.
Но вот что в связи со всем этим раздражало и даже обижало Почечуева: никто, решительно никто за все прожитые Почечуевым годы жизни, никто ни разу не принял его за иностранца! Ни в метро, ни в трамвае, ни тем более в такси, не говоря уж о бане, которую Почечуев любил так же стойко, как ленинградские дождики. Всюду и везде проходил он исключительно за своего, тутошнего. Прохожие только скользнут приценивающимся взглядом по его финским ботинкам, плащ японский обзырят, шляпу с тирольским перышком зафиксируют, а дойдут до лица... и привет. Отворачиваются равнодушно. Или того хуже: фамильярничают с места в карьер: «Дядя, билетик оторвите!» Или толкнет тебя для начала, а потом и хрюкнет: Извини, папаша!» И все по-русски, по-скобарски. Даже иностранцы и те, пусть на ломаном, однако не на своем английском или греческом, а непременно на нашенском ухитряются. И как только, черти, определяют принадлежность?.. По каким таким признакам? И нос не картошкой, и на лбу не написано, какой ты нации, а вот поди ж ты... В бухгалтерии по поводу почечуевского обличья одна Фрося изрекла: «У вас, Иван Лукич, неприметное лицо. Незапоминающееся». – «А у кого запоминающееся? У тебя, что ли?» – хотелось ответить на это ей. И совершенно напрасно не ответил. Поскромничал. А у кого запоминающееся?! У Венеры Милосской? У которой руки отрублены? Да у нее, кроме фигуры, ничего и нет. Своего. Присущего. Ни единой изюминки в обличье. У Почечуева – незапоминающееся! А ты приглядись. Вникни. Все-таки лицо, не тарелка. У того же Почечуева десятка два отметин на нем: в юности чирей был на скуле, вскрывали, шрам остался; под носом на губе старинная царапина, кот в детстве лапой ударил; что еще? Десятка полтора ямок от оспы-ветрянки... Разве не индивидуальные штрихи? Запоминай на здоровье. Да и все лицо такое мощное, краснощекое, живое, несмотря на пенсионный возраст Ивана Лукича. Нос, конечно, не выдающийся, не с горбинкой, попроще. Но и не с провалом. Нос как нос. Пологий. Утиными такие носы называют. И губы есть. Свои, не казенные. И пара бровей, пусть слабеньких, неярких, но ведь имеется! Прическа не ахти. Волосья редкими сделались. Почти прозрачная прическа. Череп сквозь нее полностью просматривается. Чем тоже не отличительная черта?»
Вот и сегодня стоит Почечуев в Соловьевском саду под зонтиком перед обелиском в честь полководца Румянцева, а на песочек дорожки падают веселые дождевые капли. То есть самая размилейшая погода. Если взглянуть на календарик ручных часов, можно уловить, как весна арифметически переходит в лето: отсчитывается последний день мая. В прорехе между двумя тучами висит молодое цветущее солнце. А над городом шумит дождь. Но вот тучи сомкнулись, захлопнув солнце, и дождь грянул сильнее.
К Почечуеву подошла незнакомая собака и встала под его зонтик. Прежде Иван Лукич мог бы и отпихнуть непрошеную гостью от себя. Сказать ей грубо: «Кыш!» Сейчас он этого не сделал. Он рассуждал примерно так: «Я одинок, и собака без сопровождения. Зонтика у нее нету. Пусть пользуется моим, шалава...»
Рассудив таким образом, Почечуев улыбнулся собаке. Улыбнувшись, подумал: «Добрый я нынче какой-то... С чего бы это? Видать, к финишу дело. Может, зачтется где? Доброта то есть... Вот болеть начал, старым делаюсь. На теле в одном месте доктор увеличение обнаружил. Место одно в организме увеличилось в объеме. А что, как того?.. Нет уж. Стоп, себе говорю. Черные мыселькн только потревожь, сразу в душе лягушки заквакают, разные жучки-плавунцы из глубины повыныривают, пиявки поприсосутся – не оттянешь! Для чего мне такая печаль? Человек я свободный, одинокий. Ухаживать за мной некому. Коллектив меня на пенсию проводил, а сам дальше пошел. Жена, то есть Маня-физкультурница, жить вместе чинно-благородно не пожелала, к другому ушла. Десять лет, как врозь. Непостоянная оказалась. И ведь не бил физически, не уродовал. Перегаром винным не отравлял существование. Заскучала, насупилась. Одной ей, что ли, скучно на белом свете? И ему, Почечуеву, грустно случается. Бывало, скажешь ей: «Марусечка, за что. обижаешь? За мою хлеб соль вкусную? За духи-помаду драгоценную? За что гнешь, как чалку? Смотри, переломишь – хрустну!» И вдруг сама сбежала... Теперь бы он ей, понятное дело, так не говорил, теперь бы он промолчал, в тряпочку или по голове Маню погладил. Ан – поздно спохватился: сбежала. Как померла. Потому что даже тряпочек своих не забрала. Все оставила. Даже самое интимное: чулочки, трусики. Ежели б не записка: «Прощай, Почечуев, скучно с тобой. Обманул ты мои планы». Ежели б не записка сия, хоть в неестественную силу верить начинай. Или во всесоюзный розыск кидайся...»
Очнувшись от воспоминаний, Почечуев не обнаружил у себя под зонтиком собаки. «Вот и эта, косолапая, сбежала... И все они так: подойдут, обнюхают и – прочь. А ты, значит, стой на дороге один, соображай, как тебе дальше линию свою проводить».
Дождь внезапно кончился. Как будто небо всю запланированную воду враз израсходовало. «Не могло лишних пяток минут побрызгать», – усмехнулся Почечуев, сложил японский зонт и, опираясь на него, пошел к себе на Петроградскую сторону, предвкушая удовольствие от предобеденного чая, который он заваривал любовно, словно красивую женщину рассматривал.
Из кармашка, приспособленного в импортных пиджаках для авторучек, Почечуев извлек длинный ключ, напоминающий небольшую пилу. И сразу же в голову мыслишка бросилась: «Ключ в одном экземпляре остался... Не дай бог, потеряется – в квартиру не попадешь. Двери дубовые. О такое дерево в кровь разобьешься – не откупоришь жилье».
На дверях его отдельной квартиры висела нелепая медная дощечка: «К Почечуевым три звонка». От былой коммуналки бирочка осталась. Почечуев лукаво подмигнул своей фамилии, всунул ключ в отверстие, проник в помещение, в прихожую с вешалкой и старым, помятым креслом, в которое Почечуев, возвращаясь домой с предприятия, бросал портфель с бумагами, пельменями и половинкой круглого хлеба.
Однокомнатная Почечуева была выкроена из обширной некогда квартирищи. Всякий раз, возвращаясь домой и включая в прихожей электролампочку, Почечуев придирчиво, с нескрываемым озорным любопытством рассматривал угол, которым выпирала в прихожую его двадцатиметровая комната. Задумчиво поглаживал он стены, образующие угол, особенно ту, что уходила в кухню. Постукивал по ней костяшками пальцев, недоуменно пожимал плечами и даже загадочно улыбался, а то и просто разговаривал со стеной. Иногда после простукивания Иван Лукич, не снимая верхней одежды, азартно бросался в комнату за складным «сантиметром» и начинал обмеривать, передвигаясь по квартире на коленях. Поначалу, когда накатывали подобные «измерительные» порывы, Почечуев стыдил себя мысленно, обзывал ненормальным и даже улыбался на себя со стороны, как на пьяного, и все-таки, время от времени, производил обмер. «А что? – подбадривал он себя. – Квартира-то отдельная, никто за тобой не наблюдает».
Закавыка получалась при обмере именно той стены, что уходила на кухню. Не меньше метра толщины содержала стеночка. Откуда, почему? Говорят, в старину стены толще делали... Положим. Наружные. А внутреннюю для чего вширь пускать? С какой целью ее-то раздувать? Не несущую тяжести. В чем тут дело?
Почечуев порывался долбить и долбил толстую стенку шлямбуром. Несколько неприглядных отверстий были завешены в комнате современными литографиями, отрывным календарем, а также задвинуты мебелью.
А началась вся эта несерьезная возня со стенкой после того, как завхоз предприятия, где работал Почечуев, некто отставник Кубарев, рассказал в бухгалтерской поразительную историю о кладе, найденном в коммунальной квартире, где в свое время проживал рассказчик. Завхозу понадобилось как-то заземлить радиоприемник о водопроводную трубу, и дядя решил пробуравить из своей комнаты на кухню небольшое отверстие. Сверлил, колотил, бухал... А кирпичи вдруг возьми да и вывались, вернее – ввались, сразу несколько – внутрь стены! Побежал Кубарев на кухню, думает: сейчас его бабы в оборот возьмут за порушенную стенку. А на кухне тихо. Ни сном ни духом. И стена как стояла без единого изъяна, так и по сию пору стоит. Вот те на! Удивился Кубарев. И обратно в комнату бежит. Сунул фонарик в отверстие, а там... не что иное, как дополнительная жилплощадь обнаружилась! Метров пять квадратных комнатка. И стоит в этой замурованной комнатке креслице старенькое, банкеточка буржуазная, сундучок махонький, кованый, и еще что-то в этом роде. Ну, а в сундучке царские денежки: золотые-серебряные, а также бумажные кредитки и еще кое-что в том же плане, необыкновенное.
Денежки, естественно, государству сдали. Правда, одну монетку завхоз все же зажилил. Для производства зуба. Улыбаясь после рассказанной истории, непременно рот открывал пошире и всем и каждому, не стесняясь, желтую коронку показывал.
Однако в стене Почечуева кирпичи держались друг за друга мертвой хваткой. Никаких пустот, даже самых незначительных, не обнаруживалось. И все же сомнения в голове Ивана Лукича теплились и нет-нет да и вспыхивали, как огни на болоте. А вдруг – повезет? Что тогда?
И тут уж Почечуев знал безо всякого колебания, как бы он с золотыми денежками поступил: половину государству, на детдом. Вторую половину – себе. Кашу бы из той половины золотую варил до скончания дней или настойку настаивал, но отдать вот так, сразу, добровольно– никому бы не отдал. Хотелось пальцами его потрогать, металл благородный. Какие от него в организм токи магические переходят – ощутить желалось. А затем и вторую половину металла на детдом по завещанию отказать. Перед отбытием в Парголово, то есть на вечное успокоение. Естественно, мог и он себе, скажем, золотые зубы вставить, но зубы у Почечуева свои – натуральные – хорошо сохранились.
Иногда в процессе долбежки Почечуев как бы даже и вовсе забывал, с какой целью он в стену проникает, для чего молотком машет. Определенный образ жизни составился, от стены неотделимый. Как будто что руку подталкивало: долби, толцись! И отверзется...
Как правило, после такого вдохновенного порыва наступала всеобщая в организме депрессия, и Почечуеву даже в мрачный разгул, то есть в запой, окунуться хотелось. Как когда-то в более молодые годы. Но против такого способа разрядки выступал теперешний жизненный опыт. И тогда Иван Лукич шел в баню: паром и зноем вышибать из себя недостойные поползновения.
Если верить артисту Кукарелову, проживавшему над Почечуевым этажом выше, то однажды вот что произошло: «Почечуеву газету в почтовом ящике дети сожгли. Поймал бухгалтер поджигателя и за ворот рубахи держит. А я мимо прохожу. Глянул, а у Почечуева глаза такими несчастными сделались! И ваще... И вижу, действительно, плохо мужику. Тошно. И не из-за какой-то там газеты, а из-за чего-то более ценного, не сегодня утраченного. И тут мне стыдно стало. О себе самом нехорошее вспомнил. Проделку одну. С веревочкой...
Через этаж от меня, на третьем, жила Марьяна Лилиенталь – яркая девушка с Восточного факультета. Интересная. Печальная. Заманчивая. И ваше... В целях конспирации переписывались мы с ней необычным способом: я ей письмо вниз на веревке опускал. А в конверт, как грузило, не дающее ветру корреспонденцию от форточки относить, помещал шоколадку, или мизерную бутылочку духов, или еще что-нибудь весомое. Иногда Лилиенталь отвечала мне тем же, прикрепив к веревке вместе с запиской – пачку заморских сигарет или брусочек жевательной резинки. Мы обменивались информацией и ваше... пренебрегали пропастью, разделявшей нас в то время. А разделяли нас, помимо невыясненных отношений, немытые окна четвертого этажа, то есть бездна, где обитал грустный гражданин Почечуев. Правда, если быть откровенным, то и Почечуев – хорош гусь! В единственном числе проживал, а шуму от него – будь здоров! Стучит и стучит. В разное время суток может начать. Безо всякой системы. А это нервирует. И потому, когда я Марьяне почту опускал, порой не без злорадства думал: позлись, позлись, стукач! Подергайся. Может, и затихнешь!
Не знал, понятия не имел жизнерадостный Кукарелов о неосознанной мечте Почечуева – из жизни вялой, затхлой вырваться в жизнь, не ограниченную временем и пространством, в измерения, неощутимые прежде, необъятные, невероятные...
И получается, будто заурядного человечишку сопровождали по жизни некие замечательные странности, содержались в нем некие аномалии невыясненных запасов энергии. А Кукарелов его веревочкой дразнил. Нет, не потемки чужая душа, чужая душа – сфинкс, звезда неоткрытая, туманность непотревоженная. Знай Кукарелов Почечуева несколько основательнее, разве ж представился б он Ивану Лукичу с вызовом: «Артист императорских театров!» Никогда бы не позволил себе так созорничать.
А Почечуев грустно так передразнил Кукарелова: «Арцысты... Одне арцысты кругом. А где же люди?»
II
Пообщавшись посредством шлямбура со стеной, Почечуев закипятил воду, нагрел над паром фарфоровый заварник, проворно насухо вытер нутро чайника, с превеликой осторожностью отмерил две малые ложечки чайной смеси, брызнул туда кипятком, не удержался, понюхал пар... Затем долил до полного и тщательно укутал посудину полотенцем.
И вдруг вспомнил о вздутии на животе. Торопливо разделся до трусов, внимательно принялся рассматривать выпуклость.
Выше этажом «арцыст» Кукарелов яростно сдробил чечетку. Непродолжительно, зато уж – отчетливо.
«Вот, у лохматого гастролера небось никакой такой опухоли нет... Здоров, как лошадь. Ногами дребезжит, жизнерадостный какой. А тут, смотри-ка, недуги какие вышли, напасть какая... За что, господи? Ни одного рубля казенного не извел. Ни одного человека не убил, даже на войне. Потому как писарем в штабе всю дорогу... Ни одной женщины посторонней не соблазнил, не обидел. А то, что Маня ушла – тут женское разгильдяйство сказалось, неуравновешенность дамская.
Это как болезнь. Как вот желвак на животе. А ведь и вся-то была с травяное семечко. Вылезла из земельки – чумазая, неотесанная. В рост вошла, к свету потянулась. Лихой стебелек наметился. А потом и расцвела вовсе. Эх, Маня, Маня... И чего не поделили с тобой? Прошла ты меж пальцев у меня, как вода ключевая...»
Почечуев Маню заприметил, еще когда она девочкой была. Приехал как-то в Почечуйки свои, после переживаний военных оклематься, одуматься. Картошки родительской с огурцами свежепросоленными пожевать. И встретил Маню. Девушка на мальчишеском турнике упражнения совершала. Встала на руки да так вся и вспыхнула на глазах Почечуева.
Обретаясь в городе, Иван Лукич запрещал себе вспоминать деревню. Несподручно было. Рядом граждане на тротуарах к различным целям стремились, истины постигали. И какая тут польза кому, если он вдруг своими Почечуйками похваляться начнет? Никакая. И закопал в себе Иван Лукич воспоминания о детстве, о папе с мамой. «Ни к чему такое наземное прошлое, – рассуждал он. – такое дырявое да голодное, в веснушках да цыпках». Изо всех сил отшвыривал от себя минувшее, как щенка мурзатого, но извести его, изничтожить в себе – не мог: жилистое оно было, живучее, на земле стояло, не на плиточке панельной. И даже влекло к себе – время от времени.
Посещал Иван Лукич Почечуйки с каждым годом все неохотнее. Чаще, когда еще в техникуме финансовом учился, реже, когда на предприятии работал. Приезжал, как правило, летом. Слезет у околицы с подводы, соломинки с городских брюк поснимает, галоши носовым платком до зеркального блеска протрет, пиджачок на руку повесит и – входит... Как белый пароход.
Со всех сторон ребятишки. Собаки лаем надсаживаются, куры мечутся, кошки из-под ног брызжут. А взрослы: люди – кто улыбается бескорыстно, а кто челюсть откинет и так стоит, закаменев, пока не опомнится и в канаву не сплюнет. Такое от приездов впечатление осталось у Почечуева. А может, так ему только хотелось – праздником в глазах почечуевцев возникать. Идет, бывало, Почечуев с портфелем, как министр. А на портфеле замки сверкают никелем. А в портфеле зубная щетка бьется в футляре, как рыбина об лед. Да пара белья, в газету увернутая, помалкивает. А под бельем гостинец. Родным, близким. Конфеты-подушечки и еще что-нибудь городское...
От воспоминаний лицо у Почечуева розовым сделалось. Помолодело на миг. А сердце словно подтаяло, теплые ручейки по организму пустив. Как был в трусах – налил он себе чаю оранжевого в стакан. Начал прихлебывать напиток... И надо же, видения деревенские занавесили временно, как дымкой предрассветной, теперешнюю тревогу, навязчивое беспокойство, связанное с бугорком на животе. И вдруг слеза сорвалась, покатилась по мясистой Щеке вниз, в щетине седой запуталась.
«Плачу, – сообразил Иван Лукич. – Это хорошо. Слеза нутро мягчит. Без нее-то, без слезы, сердце давно бы уже потрескалось».
Помнится, весна тогда была, хоть и не жирная, впроголодь, а – звонкая! Молодежи по деревне сколько угодно. Телевизором ее тогда в город не сманивали. И все в поведении – шальные, нескучные, на собраниях речи толкают. И только у Почечуевых в доме невеселая тишина образовалась,
Отец Почечуева – Лука Андреич, крепкий еще мужик, лет шестидесяти, принесший с империалистической войны опасную бритву золингеновской стали, – однажды утром после бритья вышел за огороды бритву о лопухи обтереть и там, на меже, поссорился с председателем только что организованного колхоза. Из-за нескольких грядок приусадебной земли поскандалили. Люди они были хоть и северных краев, но в споре делались горячими, свирепыми. То есть опасными. Вот ткнули спорщики друг друга «в грудя», изматерили один одного холодным шепотом, а след за этим по колышку из плетня извлекли. И стал председатель как бы одолевать Луку Почечуева. Одолевает, стало быть, помаленьку, а в портках у Луки золингеновская бритва болтается, о себе напоминает. Ну, и махнул в итоге Лука Андреич председателя по уху. Трофейной сталью. Так ухо и полетело в траву. Будто бабочка-капустница. Осерчал председатель не на шутку. Колышком супротивника по голове приласкал. Потом Луку Андреича еле откачали. Едва ему фельдшер уголек жизни в очах раздул. А когда наконец очухался Паликмахер (так Луку Андреича за наличие бритвы прозвали), тут и повестка на суд подоспела. И поехал драчун в далекие края, где и застрял до скончания дней своих.
В Почечуйках дом родительский опустел. Брательник Анисим в соседней деревне избу с женой и пасекой приобрел. Бизнес ему медовый померещился. Две сестры замуж в города вышли, а в какие – Иван Лукич путал: то ли в Кинешму одна, то ли в Камышин другая... А в Почечуйках никого, кроме старухи матери, не осталось.
И вот приезжает однажды Почечуев в деревню. Макинтош у околицы, свернутый прежде в трубочку, раскатал, на плечи накинул, принарядился. В большой, опорожненной от людей избе встретила его Гликерья. Не бросилась навстречу, а словно из глубины омута всплыла – тихая, жалкая... Почечуев обниматься с матерью кинулся. А Гликерья таки замешкалась с порывом, топчется на месте.
– Что это, мама, не признаешь будто?
– Больно розовый ты, красивый шибко...
– Да чего невеселая-то?
– Спала.
– Так и проснись. Отощала-то, господи! Небось и спишь оттого. От недоедания. Чем питаешься, мама? Одним хлебушком, поди?
– Хлебушко? – старуха робко заулыбалась, как во сне. – Не обессудь, Ванечка... Я тебе картофников мигом натру. А ты ляг. Растянись с дороги. Набил, чай, ноженьки? А хлебушко... – и Гликерья вновь чудесно так улыбнулась. – Давненько его не месила... Булочку.
– Не унывай, мама... Вот колбаска краковская. Полкило. И сахарок пиленый. А также – ситного. Гостинец, мама. А это – чай. Китайский. Сам заваривать буду. Аромат в нем – на лицо брызгать можно. Как духи.
– Кому же гостинец?
– Лично тебе.
– Господь с тобой! Не маленькая...
– Не унывай, говорю, самовар ставь. Жевать будем. Почечуев по избе прошелся. Светлые брюки, не вынимая рук из карманов, высоко над ботинками приподнял.
– А что, мать, полы-то запустила?
В дальних двух комнатах, нетронутая, всюду дремала пыль, а по углам паутина висела.
– Обленилась, сынок. Здеся, возле кухни, и живу... А туда, в дальние, по полгода не заглядываю. От праздника до праздника. Продать бы домик-то... Не справиться мне с ним. Мне бы и в баньке хоть куда. Банька у нас чистая, светлая. С трубой-дымоходом. Не банька – гнездышко аккуратное. И покупатель приличный: бывший майор. А ты бы, Ваня, на вырученное квартиренку в городе спроворил. Приезжала бы я к тебе внуков нянчить.
– Чепуху городите, мама, – перешел на официальное «вы» Почечуев, – не унывайте, говорю. В какой это такой баньке будете жить? Засмеют, заплюют меня граждане. Не бывать этому. Хотя, конечно, опять же... С таким... объектом – разве одной под силу.
Во время чаепития, поверх блюдечка, которое чуть ли не к самым глазам от волнения подносил Иван Лукич, подносил, чтобы жалкого лица матери не видеть, поверх блюдечка как бы невзначай рассмотрел Почечуев за окном серенький сруб баньки. Вспомнил, как с отцом и братом Анисимом возводили ее играючи. Просторное получилось сооружение. И запашистое. Дерево удачное употребили. Не старое и не шибко молодое. В самом соку древесина. Паром его да зноем проймет – и пошла отдача: такой дух ангельский. Как из кадила поповского.
– А вот и продам! – робко воскликнула Гликерья. И глазами поддержки у Почечуева ищет, улыбается. – Продам, и все тут...
– Воля ваша... Продавайте. Только в бане жить не разрешу. Вам бы к Анисиму для начала...
– Выпивают у Анисима. Шумно там... А с баньке-то я как у Христа за пазухой.
Не отговорил. Не убедил. Не настоял. Продала Гликерья дом. В баню перебралась. Через год письмо из Почечуек – померла...
И тут в квартире Ивана Лукича звонок прозвенел.
Почечуев начинал, как большинство: крепче всего на свете любил свой организм. Всячески оберегал его от различных бедствий-происшествий. Родная мать для него являлась прежде всего усталой, морщинистой женщиной, рано поседевшей и малоинтересной. Был ли он благодарен ей за факт своего появления на свет? Вряд ли. Кусок по-вкусней подсунула – благодарен. Пяток секунд. Кражу двугривенного простила – признателен. На руках до больницы доперла – что ж, само собой... Тогда ведь машин в деревнях не было.
Святое чувство, которое отдельные люди испытывают к маме своей, посетило Почечуева слишком поздно, но посетило-таки. Окликнуло. Позвонило.
И еще: Почечуев прежде понятия не имел о законе сообщающихся сосудов: сколько злых дел кувшин молодости вместил, столько страданий придется принять и кувшину старости. Прежде понятия не имел, а сейчас всем существом ощутил.
Однажды Кукарелов с подружкой своей Марьиной Лилиенталь застали Почечуева за кормлением бродячей собаки. Он ей, шелудивой, недоеденные в обед пельмени скармливал. Расстелил во дворе, прямо на асфальте, газету и кормил. К людям с хорошими намерениями вторгаться он еще не отваживался, стеснялся. Выручала собака, тварь, для экспериментов удобная. И благодарная: вон как хвостом работает!
III
И тут в квартире Ивана Лукича звонок прозвенел. «Не часто теперь звонят, – подумал, – не то что до пенсии». Подумал и пошел открыть двери.
– Кто там?
Однако не ответили. Он вторично задал вопрос, и вновь – безрезультатно. Тогда дрожащей рукой отодвинул засовчик замка и высунулся на площадку.
Никого.
«Не иначе – Кукарелов хулиганит. Его почерк...» – посоображал Почечуев, поскреб щетину на подбородке и уже хотел было успокоиться, как вдруг на память пришло другое, недавнее Кукарелова озорство, и Почечуев тихо, чтобы и самому не слышать, рассмеялся...
Кукарелов тогда сосиски на веревке, целую связку, должно быть несвежие, к самой форточке Ивана Лукича опустил. И записка на них бумажная бантиком. Только сосиски сразу вниз поехали, не задержались. Еще подумалось тогда: «А малый-то неспроста чудит, видать,тоже одинокий. А не пора ли нам познакомиться? Может, и подружились бы? Чем черт не шутит... А то – сосиски...»
Странное дело. Стоит Кукарелову затихнуть, то есть из дому отлучиться, ну там, на гастроли или еще куда на заработки, так сразу и не хватает Почечуеву чего-то. Какую-никакую, но жизнь излучал «экстремист» этот. Недаром говорят, что люди в одиночестве с мухами, а то и мышами дружбу заводят, не брезгуют.
«Ладно... – усмехнулся Почечуев, запирая дверь. – Я к нему сам пожалую. Вот еще что-нибудь опустит на веревке – и подымусь! Необходимо инициативу проявить. Может, малый сигналы бедствия подает?»
Нацедил Иван Лукич в хрустальный стакан вторую порцию индийского пополам с цейлонским. Вытер кухонным полотенцем пот с шеи. И снова мысль его к воспоминаниям молодости перекинулась, того именно ее момента, когда он со своей будущей женой Маней познакомился вплотную.
Приезжает однажды из города в Почечуйки, а на турнике, на железной перекладине, девушка лет шестнадцати фигуры «высшего пилотажа» показывает. Купальник у нее розовый, полинялый, без рисунка, сплошной от груди до бедер. Ноги тоже розовые. И руки. Не успели как следует загореть, солнце их только что лизнуло. Лето в самом зародыше. И померещилось Ивану Лукичу, что перед школой на спортплощадке вовсе голая женщина, то есть девушка, выступает! Бесстрашно себя белому свету и зрителю показывает. А зритель в основном мальчишка сопливый, хмурый народец, с завистью наблюдавший за физкультурным полетом красивого тела.
Почечуеву тогда тридцать лет было. Он уже на счетах в Ленинграде щелкал и в коммуналке проживал. И очень хотел жениться. Чтобы потом, в светлом будущем, в отдельной квартире пожить.
Остановился Иван Лукич не в Почечуйках, а километром выше по реке, в Свищеве, – у брата Анисима. Не в баньке ж ему ночевать, в отцовом-то доме вовсю уже дачники распоряжались, покупателя-отставника «личный состав».
В хозяйстве Анисима несколько домиков пчел, на огороде стояли. Выпили со свиданьицем, медовухи. Через пятнадцать минут Анисим на Ивана Лукича кулаком замахнулся.
– Маму... в баню уговорил! Не пр-р-рощу! – И по столу – бах! – Мама в бане умерла... На старых вениках. Не прячь глаза, бухгалтер!
– Оба мы, братушка, виноваты, – спокойно отвечал ему Почечуев. – Мама в километре от тебя богу душу отдает, а ты брагу хлещешь. В баню-то мама добровольно переселилась. Не позволял я ей...
– А денежки, которые мать от продажи выручила, принял?!
– Денежки мама по почте прислала. Переводом. Ко мне почтальон их принес. Казенное лицо. Откажись попробуй... А вот ты, братец, сплоховал. Маму-то на руки в охапку да и отнес бы к себе! Вот как. И стало быть, оба мы обмазались... Об мамины слезы.
Поцапались они тогда крепко. Брат с братом. Улей на пасеке перевернули. Рой потревожили.
Однажды, когда с лица Ивана Лукича уже сошла припухлость от пчелиных укусов, гулял Почечуев по родной деревенской улице в нарядной городской «бобочке» с отложным воротником. И встречает тут розовую Маню. Студентку физкультурного техникума. Старушки местные, глядя на ее купальник, беззубо посвистывают:
– С-срамота! Бес-ссовестна!
Оно конечно... Девка яркая, по глазам бьет, кровь в сосудах будоражит, как реактив химический. Того гляди, пена через край пойдет! У зрителя.
– Девушка... – приступил к знакомству Почечуев.
– Ой! – вскрикнула Маня, будто на что нехорошее ногу поставила. – Почечуев! Не узнаете... Да мы вашему троюродному дяде тетей будем. И меня вы на велосипеде катали. В свое время...
Слово за слово – купаться пошли на речку Киленку. Маня плавала, как торпеда с моторчиком. На руках по берегу ходила. Крепкая была, целеустремленная. А главное – веселая. Как раз то имела, чего в жизни другим не хватает.
Когда, розовая, поняла, что именно от нее Почечуев хочет, – сопротивляться не стала. Однако всю себя израсходовать сразу не дала. Природная бережливость выручила. Иван Лукич хоть и старше на четырнадцать лет оказался, но кое-какие перспективы в себе таил. Решили для начала переписываться. А когда Маня техникум закончила – поженились! И перебралась Маня в красивый город Ленинград. Повезло, считал за нее Почечуев. А все потому, что бесхитростная была. Жила прямиком. Если ногу в пути накалывала, трагедии из этого не делала. Обработает ранку и дальше идет.
Сидит Почечуев, вспоминает Маню, а сам третий стакан чаю зарядил. Пот уже не только по шее, но и вокруг глаз и выше, на лбу, выступил. Беспокойство во всем теле наметилось. Какая-то нервная спираль по всему организму пошла от воспоминаний о жене. Захотелось действий! Физически, то есть руками, что-то расшибить, согнуть, разметать вокруг себя. Чтобы и впрямь не набедокурить, Почечуев решил сковать себя по рукам работой: очередную дырку в стене шлямбуром прособачить. Выбрал местечко поновей, в стороне от прежних пробоин, и принялся за дело. Долбит, а сам будто с Маней разговаривает.


