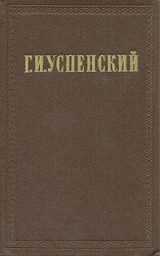
Текст книги "Том 4. Из деревенского дневника"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 40 страниц)
– Ты тут зачем? – заговорил он зловещим и в то же время рыдающим голосом, приближаясь лицом к Баранкину. – Прррон-ню-хал?
Офицеров не разгибался, а еще более присел, уперся обеими руками в раздвинутые колени и, как бы намереваясь «прянуть» на Баранина, уже не голосом, а «сипом» змеиным зашипел:
– Кр-рови н-нашей насосаться пришел? Кровушки че-ло-ве-чей захотел пососать?
На мгновение водворилось молчание; Баранкин не мог оторвать глаз от этого мокрого, но зверски ожесточенного лица Офицерова и трясся от злости… Это продолжалось мгновение. Офицеров выпрямился, вытянулся во весь рост, подошел вплотную к Баранкину, так что животом касался и напирал на его лицо, и тут же ткнул ему в губы кукиш, прибавив:
– На!
И еще ткнул и еще прибавил:
– На! Еще на!
– Перестань, разбойник! – завопил, наконец, Баранкин, но Офицеров не перестал; он только отошел от Баранкина на один шаг и, не теряя злобного выражения в лице, продолжал:
– Я т-тебя, зм-мею, насквозь вижу! Это ты наши сиротские-то крохи хочешь отнять? Это ты кровь-то, последнюю-то кровь хочешь выпить? Али мало пил? Не насосался? Ну, так, змея ты проклятая, не придется тебе пососать-то! Царские деньги! слышишь, проклятая душа!.. У меня мальчонка, сын шестнадцати годов, помирает, а ты пришел отымать помощь! Бутылку водки писарю принес? Разобью об голову – и ответу не будет… Ты взыскивай, разбойник, дьявол вас знает, как вы там щета пишете – пиши, пиши там, я тебе потом сочту всё!.. А этих денег не будет тебе, подлецу! Пронюхал! Нос твой паскудный разорву на двадцать частей! Ах ты, удавиться бы тебе ноне ночью, разбойник ты этакой! Ведь ты грабитель! Ведь ты душегубец! Ведь ты разоритель, гадина ты этакая! И против тебя нет управы? Тебе надо ветчинки, а мне не надо? Ему не надо? Не надо нам всем! Ах ты, преисподний-ты смрад, ах ты… Да ведь я тебя плевком пополам перешибу, ежели на то пойдет…
Я не в силах передать того потрясающего впечатления, которое производили проклятия, сыпавшиеся из уст Офицерова. Голос его, сначала как бы с трудом протискивавшийся сквозь стиснутые зубы, с каждой минутой делался все более и более выразительным, проникал с жгучей страстностью, речи делались короче, отрывочней, но жгли и Баранкина, и Офицерова, и всю публику как огнем. Офицеров побледнел, пот градом лил с его лица, всклоченные волоса прилипли к худым вискам, и по мере того как в голосе его начали слышаться уже рыдающие ноты, те же, какие-то отрывочные, но рыдающие звуки послышались и в толпе… Она говорила тоже о ненасытности Баранкина, говорила по словечку, глухо и как бы всхлипывая…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Не помню, чем кончилась эта сцена. Помню одно, что деньги были отданы тем самым лицам, которым они предназначались по спискам земской управы. Помню и Баранкина, уходившего после всех, его ожесточенное лицо и слова, сказанные Лиссабонскому:
– Ну, миловидный мой писарек, разговорец у нас с тобою будет особенный… Особенный у нас будет с тобой обиход…
Сильно хлопнув дверью, Баранкин исчез.
– Скажи, пожалуйста, неужели же я должен был деньги эти зачесть в подати или отдать мироеду? Ведь если сочли нужным помогать людям, стало быть знают, что у них нет!.. Не правда ли?
Что отвечал я Лиссабонскому – не помню… И комната волостного правления и Лиссабонский исчезли неведомо куда, и сон принял беспорядочный, отрывочный характер; места и лица менялись, следуя с поразительной быстротой одни за другими…
…Вижу я деревенскую улицу, заваленную снегом; по средине белой дороги, несмотря на то, что на дворе поздний вечер, ясно видна группа мужиков… Это те самые Офицеровы, Ворокуевы и т. д., которые только что получили пособие… Шум и говор между ними, и смех даже слышится: рады, веселы, благодарны; поминутно снимают шапки, крестятся…
– Что, язва сибирская? – остановившись около дома Баранкина, произносит Офицеров. – Взял?
– Что? – вопрошает тот же дом другой из осчастливленных: – Хлебнул?
– А было, братцы, подобрался! Ло-о-вко подобрался было… Дай бог здоровья писарю-то, писарь-то не пьяница, не вор… – Не пошел на его сладкопевство… А то бы сглонул.
– Сгло-онул бы! Этому живоглоту…
Вдруг Офицеров не выдержал, и со словами:
– Ах ты, язвина! – вдребезги разнес стекло в окне у Баранкина каким-то попавшимся на дороге кирпичом…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вижу опрятную, теплую-претеплую, хоть и сильно пахнущую маленькими детьми комнату, принадлежащую некоему Иоанну Бенедиктову. Согласно «духу века», Иоанн Бенедиктов поражен страстию, даже не страстию, а сладострастием к материальным благам, которые понимает в самом обжорном, так сказать, виде. Иоанн Бенедиктов любит пряники, сладкое, вообще, что вкусно языку… Когда он едет по железной дороге и ему приходится видеть буфет, обставленный яствами и питиями, он не может оторваться, все трогает рукой: и бутылку, и шоколад, и яблоко, он трясется… Но ведь на все это надо деньги, и Иоанн Бенедиктов достает их; он святей святого – что касается его обязанностей. «Знаешь молитву господню?» – «Где нам знать!» – «Ну, не венчаю». – «Да у нас все готово, напекли, наварили, ваше боголюбие!» – «Двадцать пять рублей серебром!» Дают. Он не дает причастия, если знает, что у человека есть в кармане деньги, не дает под каким-нибудь предлогом, которых в церковном уставе множество; не крестит, не хоронит и т. д. Деньги и деньги, а кроме денег, гуси, окорока, пряники, вино… Голос у него тихий, взор ангельский, но в малейшем движении видна обжорно-сладострастная душа.
Иоанн Бенедиктов и Баранкин, весь дрожащий от гнева и ожесточения, строчат бумагу… Они союзники по части ветчины. Тут, в этой ветчине, замешаны и церковные деньги и староста, у которого, посмотрите, какой хорошенький домик, а ведь старостою всего два года. Иоанн Бенедиктов строчит, а Баранкин помогает; староста входит тоже взволнованный и растрепанный.
– Что за напасть? – испуганно спрашивает он.
– А вот слушай: казенных денег не платит… Камнем разнес окно… Чистое бунтовство… Пиши: и на мои слова – коли ежели казна требует…
Белый день. Опять снежная дорога. Баранкин с бумагой под жилеткой, в легких санках на дюжем рысаке, во всю мочь мчался к тому самому мировому судье, который постановлял решение насчет взыскания Баранкина. Он примчал одним духом. Минута – и они беседуют, слышатся слова: «Что ж это будет? Ведь решено по законам? Камнем в окно!..» и т. д. Мировой судья, с носом, налитым водкой, чувствуя, что душа его уж продана чорту, подправляет бумагу; писарь Юнусов, из штрафных солдат, перебеляет… и опять поле, саночки, вдали станция железной дороги…
– Поговорим мы с тобой, миловидный, миламур писарек!..
Опять большая, даже громадная комната; столы с бумагами, конторки, в отдалении масса таких же комнат, откуда доносится скрип перьев. За большим. столом сидит лицо в мундире, перед ним тетрадь с надписью: «Дело о именующем себя Лиссабонским, обвиняемом…»
– Опять! Боже мой, что это такое? вчера Карпов, третьего дня Андреянов, сегодня Лиссабонский – конца нет!
Каким образом все три лица, о которых упомянул человек в мундире, очутились в комнате – не знаю, но помню, что между ними и лицом происходили такие разговоры:
– Помилуйте, – говорит Лиссабонский, – за что же? Ведь, действительно, пособие приказали выдать? Почему виновным оказываюсь я, а не Баранкин, который довел их своими бесчеловечными требованиями…
– Помилуйте! – слышу я голос Карпова. – Крестьяне сожгли хлеб у г-на N ночью в тот самый день, как я появился в селе и толковал с ними. Я не буду говорить о причинах, которые побудили их стать во враждебные отношения с г. N, – дело Бобринского с Фишером и дело в Великих Луках разъяснят это лучше. Я буду говорить только о себе: в настоящее время всеми сознано, что улучшение крестьянами своего состояния зависит, между прочим, от улучшенной обработки земли. Я ничего не хочу, я говорил только о земледельческих орудиях, уговаривая их купить молотилку всем миром. Теперь они пользуются молотилкою г. N, который берет с них за час. Я уговаривал их купить сообща. Неужели это преступление? Вот газета, издаваемая благонамеренными лицами; извольте прочитать: «в артели, товариществе – спасение нашего крестьянства», я говорю то же самое. Можно писать в газете, так неужели же нельзя говорить-то о том же в деревне? Я прошу вашего снисхождения выслушать следующий пример. Представьте себе, что какая-нибудь фирма, торгующая земледельческими орудиями, разослала по деревням агентов с самыми обыкновенными коммерческими целями: как можно больше распространить этих продуктов в народе. Ведь всякому такому агенту непременнонадобно будет говорить с народоми непременно надобно будет проповедыватьте самые идеи, которые проповедывал я, непременнонадобно будет говорить о том, какая выгода в приобретении собственного инструмента, надо говорить, что деньги, которые вы за него платите тому-то, останутся у вас в кармане, и т. д. Без такихразговоров нельзя обойтись никому, никакому самому скромному деятелю в народе.
– Однакож, подожгли!
– Но, позвольте…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– В свое оправдание, – слышу я голос Андреянова, – я могу сослаться на параграф такой-то устава – ского ссудо-сберегательного товарищества, где сказано, что имущество крестьян – такое-то и такое-то – не может быть продано для уплаты долга товариществу, так как такая продажа расстраивает их благосостояние и ослабляет платежную силу. Устав утвержден господином министром внутренних дел. Извольте посмотреть. В то время, когда купец Миломордов прибыл с урядниками и приставом для описи имущества и когда урядник, выстрелив из револьвера в цыпленка, ранил при этом женщину и хотел стрелять в овцу, я, будучи членом правления ссудного товарищества и состоя письмоводителем, заменяющим председателя в его отсутствие, вышел и объявил, что так как, согласно параграфу устава, все члены товарищества отвечают своим имуществом, то, во-первых, лишать их имущества, обеспечивающего ссуду государственного банка, нельзя, ибо банк – учреждение правительственное, а Миломордов только мироед, и что, кроме того, согласно параграфу, то имущество, которое хотели описывать, не можетбыть описано, ибо параграф утвержден, как я уже доказывал, господином министром внутренних дел…
– Однако, после ваших слов, крестьяне оказали сопротивление. Урядник Двуглавов получил по уху.
– Но, позвольте. В параграфе сто двадцать третьем…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вижу вокзал железной дороги. Отправляются. Сонное состояние позволяет мне видеть, что в одной из сумок лежит толстыйпакет за семью печатями, а в пакете немного менее десятка дел: тут и о Лиссабонском, и об Андреянове, и о Куприянове, и все обвиняемые… Вижу Петербург в восемь часов утра, когда приходит почта. Бегут со всех концов России кучи, горы пакетов, и всё Лиссабонские, Андреяновы и Куприяновы, и всё с вредными разговорами. Вижу лицо: распечатало оно все пакеты, всплеснуло руками и возопило:
– Одновременно во всех губерниях, во всех уездах и во всех деревнях!.. Нет, тут надо без послабления…
И опять ночь и снег, сугробы снега, елки; елки и тройки; тройки и колокольчики… А на тройках Лиссабонские, Андреяновы, Куприяновы… Только колокольчики позвякивают, да полозья скрипят. Даль, тьма…
* * *
На мгновение я ничего не видал во сне, но ухо мое не переставало слышать звуки колокольчиков; они то замирали вдали, то слышались громче. И в самом деле, они с каждым мгновением стали явственнее доноситься до моего уха и, наконец, заговорили полным звуком… Что же это такое, однако? Я опять в волостном правлении; опять те же стены, тот же сундук, тот же шкаф, но Лиссабонского нет; на столе лежат нераспечатанными два пакета, из-за которых случилась вся рассказанная история. Очевидно, что ничего этого не было, но продолжая грезить и сознавая, что все это делается во сне, я чувствовал, что что-то будет. И точно, едва только бубенчики замолкли, как мне показалось, под самыми окнами волостного правления, как в комнату ввалился грузный человек в бобровой шапке и в лисьем пальто с бобровым воротником. Это был старшина. И я еще раз убедился, что мне пригрезилось бог знает что, потому что без старшины ничего подобного тому, что сделал Лиссабонский, – нельзя было ни под каким видом. Но меня интересовало, чтб именно будет сделано теперь. Вслед за старшиной вошел писарь, проворный и ловкий парень, по фамилии Загалстухов; оба они, и старшина и писарь, разделись, поотогрелись, поразмялись и приступили к разборке дел.
– Читай, что в бумагах! – сказал старшина.
Писарь прочитал бумагу о пособии.
– Читай другую.
Писарь прочитал о взыскании.
– Ну, как же быть теперь? – спросил старшина. – Ведь в обеих «в противном случае» прибавлено – а это слово у меня вот где.
Старшина показал на затылок.
Писарь повертел бумаги в руках, поглядел в списки и проворно произнес:
– Очень просто!
– Уж уладь!
– Будет в аккурате сделано!
– То-то чтоб…. Я уж сиживал… знаю… уж, пожалуйста, чтобы – вполне!
– Авось знаю? Чего ты?
– То-то!..
В это время вошел Баранкин; помолился богу, поздоровался со старшиной, с писарем; вынул бутылку водки, шепнул писарю что-то на ухо; писарь взял бутылку, поглядел на ярлык и отнес ее в угол, за кассовый сундук. Порешив с писарем, Баранкин взял под руку старшину, вышел вместе с ним в сени и, поговорив там минуты две, возвратился назад вместе со старшиной.
– Ну, ладно! Пес с тобой! Будь по-твоему! – сказал старшина Баранкину, войдя в комнату, и, обратись к писарю, прибавил:
– Слышал, что ль, что старый хрыч-то желает?
– Я и так знаю!
– Можно?
– Очень просто!
– Ну – ин пущай! Обладим!
Немедленно после этого разговора расписки, хранившиеся в кармане Баранкина, очутились на столе; писарь положил их посреди бумаг о пособии и взыскании и расправлял рукой. Офицеров, Недобежкин, Ворокуев и все прочие явились немедленно.
– Что, господа, – сказал Офицеров, – говорят, гостинчик есть нам, горьким?
– Кажется бы помолчать можно, покуда не спросят, – сказал писарь. – Ты видишь, делами занимаемся.
– Это-то я вижу, а зачем бы Баранкина-то к нашей крови припускаете?
– Какой такой крови? Что здесь за бойня? Ты видать, чей тут портрет? Смотри, брат…
– Это все мы видим…
– То-то помалчивай… Гостинчик!
Настало мертвое молчание. Холодные, промерзлые до нутра люди стояли окаменелыми столбами, не шевелясь и не двигаясь ни одним членом. Глаза выражали напряженное ожидание, и толстые, налившиеся кровью жилы на худых шеях бились с горячечною скоростию…
Писарь шумел бумагами; старшина и Баранкин, глядя в разные стороны, барабанили по столу пальцами и по временам вздыхали.
– Офицеров! – произнес, наконец, писарь.
Офицеров выступил вперед.
– Тебе пособия двадцать восемь рублей.
– Благодарю покорно.
– Погоди благодарить-то. После поблагодаришь.
– Как угодно. Мы готовы.
– Да взыску с тебя, – продолжал писарь, – вот ему, Баранкину, столько же.
– Отдадим… Вы способие-то пожалуйте нам… Вы сначала дайте, что нам следует, а потом уж и о Баранкине…
– Вот твои деньги, – сказал старшина, держа в руках пачку денег, – видишь, что ль?
– Да вы в руки-то потрудитесь…
– Аль мои руки хуже твоих? Украду, что ли, я их?
– Зачем украсть, а как сказано в бумаге отдать, так и отдать бы…
– А вот в расписках тоже сказано отдать, а ты не отдаешь – это как?..
– Пускай взыскивают… А способие надобно на руки…
– Я и отдам на руки, только не тебе… Нам сказано наблюдать закон, за это нашего брата не хвалят… На, Баранкин, получи!
Баранкин взял деньги, а писарь, показывая Офицерову расписку, оказал:
– Вот твоя расписка, теперь ты расквитался.
И разорвал ее.
– Покорно благодарим! – весь зеленый от гнева, сказал Офицеров. – Благодарим, что исполняете закон… Как же, позвольте вас спросить, теперь вы Баранкину деньги отдали, а как же насчет казны? Опять выбивать будете? Из чего же теперь вы выбивать-то будете… царю-то?
– А ты меня попроси, – сказал Баранкин. – Я, милый мой куманек, пустошь взял в аренду у господина Онегина, так, ежели на то твоя будет воля, бери под работу… Я дам. Работа легкая – косьба. Коли что – дам, перед богом.
Офицеров молчал, но так смотрел на Баранкина, что меня мороз подирал по коже. Баранкин долго и ласково говорил о работе и о том, что готов дать денег, но Офицеров молчал как убитый… Наконец он вдруг как-то ослаб, вздохнул и, беспомощно опустив руки, сказал:
– Н-ну, давай!.. Я… что ж… Я буду…
– Вот и добре. Сейчас и условьице… Ну-ка, милушка!
Писарь, к которому относились эти слова, немедленно выхватил из кучи книг, лежавших на столе, книгу условий и опытной рукой настрочил условие. За двадцать пять рублей Офицеров обязывался выкосить территорию величиной с Великобританию, обязывался кучами неустоек, подвергая себя всяким египетским казням, и в задаток получал пятнадцать рублей. Офицеров, в конце условия, приложил три креста…
– Получай деньги, – сказал Баранкин, отсчитывая из полученных денег три пятирублевки. Но едва Офицеров протянул руку к деньгам, как Баранкин, вместо того чтобы вручить ему их, быстрым движением руки описал над столом кривую линию, вручил их старосте со словами:
– Вот и казну-матушку почтим! Получи недоимку-то!
– А мне-то?
Эти слова несчастный Офицеров не произнес, а крикнул, как малое дитя, и этот тон горькой обиды – обиды, доведшей большого, рослого и немолодого мужика до того, что он почувствовал в себе беспомощность ребенка и ребячьим криком выкрикнул. слова обиды, тон этих слов – «А мне-то?» хватал за душу.
– А мне-то что ж? – повторил Офицеров, еще более чувствуя себя беспомощным и жалким. – У мене сын помирает… Дайте, господа! в ножки вам…
Зато старшина, писарь и Баранкин, благодаря этому детски-беспомощному состоянию Офицерова, сразу почувствовали в себе какую-то внутреннюю, или нет, прямо физическую силу, физическое спокойствие и непреклонность. Они чувствовали, что из Офицерова и всех других его товарищей, присутствовавших в комнате, «хоть веревки вей» – так все они ослабли духом.
– А ты подумал ли, – спокойным и поучающим тоном проговорил старшина, постукивая рукою с деньгами по столу, – подумал ли ты, сколько разов я сиживал за вашего брата в холодной? И что ж! и теперича вы меня, перед праздником-то Христовым, хотите в темную упечь? а?
– Да дай хоть что-нибудь! Господи боже мой! Ведь что ж это такое? Ведь тут уж последние способа… Царица небесная, что это такое!..
– Иван Абрамыч (так звали старшину), – вступился Баранкин, – ты тово – помягче… Ус-ступи… Ну, хоть что-нибудь… Как-нибудь по-божьи… по-суседски!
– Да хоть что-то-нибудь дайте – что ж это такое? Ведь это… Господи помилуй!..
– Свиньи у тебя есть? – как бы в раздумье спросил старшина.
– Поросенок есть, а так, чтоб свиньи, – нету!
– Что поросенок… Мне свинина нужна… Н етели велики ли?
– Одна н етель есть… Купи хоть н етель-то!
– Только что именно из-за одной твоей нужды – больше ничего… два целковых дам. Получи.
– Да прибавь хоть что-нибудь из казенного-то? Господи ты боже мой… Абрамов! Ведь, братец ты мой, на том свете есть судия…
– Вот тебе еще трешна – и ступай-ступай.
Офицеров взял молча пятирублевую бумажку (старшина сказал: «За н етель потом вложу свои в подати-то»), постоял, подумал и, видимо приходя в себя, проговорил:
– Вот она, кровь-то наша где!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Как я очутился на дворе, на морозе – не помню; знаю только, что я как будто хотел очнуться, заглотнуть свежего воздуха; я действительно делал глубокие вдыхания и в то же время слушал, что происходит внутри волостного правления (я стоял у окна). Тихо было внутри большой комнаты; слышался только гул разговаривающих и по временам слово «кровь», произносимое на разные тоны. Минут через пять с крыльца правления спускался, после вышеописанного расчета, мужик и, надевая шапку обеими руками, шептал то же слово… Он сделал два-три шага по улице и опять сказал «кровь». Еще через пять минут выходит другой мужик, также рассчитавшись… И так – все. Они плелись по улице один за другим вялою поступью, как осенние мухи, и не знаю, каким образом всех их я вдруг увидел вместе, в маленьком жарком кабаке. Здесь уже шел громкий говор, и слово «кровь» произносилось не шопотом, а громко, во всю мочь.
– Дурачье! – возопил в толпе находившихся в кабаке крестьян чей-то посторонний голос. – Дур-рачье!..
– Кто ты такой? Как смеешь ругаться?
– Это лакей чей-нибудь. Ты зачем сюда залез, лизоблюд?
– Какой я лакей! – гордо сказал неизвестный человек весьма подозрительного вида. – Я – «уровень»!
– Какой-такой?
– Просто – уровень! Без всяких прочих… Умственный и нравственный.
– Это, ребята, оборотень. Бей его!
В волостном правлении все было кончено; все разошлись; весел ушел Баранкин, и доволен был старшина. Много накупил он по сходной цене разной живности и провизии и под рождество повезет ее на широких розвальнях в город на базар; Баранкин немедленно пустился на бойком рысачке по окрестностям скупать свинину. У писаря к празднику в кармане жилета тоже шевелилась красненькая. По удалении из волостного правления публики он откупорил бутылку водки, стоявшую за шкафом, выпил залпом три рюмки, взял лист белой бумаги и, описав пером в воздухе несколько зигзагов и кругов, как ястреб «пал» им на белую бумагу и побежал: «Во исполнение предписания, честь имею доложить, что пособие в размере роздано, в чем препровождаю расписки; равным образом, при неусыпном старании о взыскании недоимок, таковых, при нынешнем голодном времени, взыскано…»
– Очень просто! Всем сестрам по серьгам! – заключил писарь, запечатал бумага в пакет и отправил. В губернии распечатали, прочитали и сказали:
– Все благополучно…
В то время, когда писарь дописал последнюю строчку, из кабака вышел пьяный Офицеров и, бия себя кулаком в грудь, бормотал, между прочим, что-то несообразное:
– Я в-вас успокою… Вот бог свидетель, отец наш… Я сссебя не пожалею, а уж удостоверю!.. Уж да.
* * *
Я проснулся.
Открыв глаза, я увидел, что около меня стоит тот же Лиссабонский, только настоящий, живой. Он и разбудил меня.
– Какими судьбами? – с удивлением воскликнул я, изумленный появлением Лиссабонского, которого не видал более пяти лет.
– Разрешено! – весело улыбаясь, проговорил Лиссабонский. – Еду, брат, в деревню, в волостные писаря…
– Зачем? – не без ужаса воскликнул я, находясь под влиянием сна.
– Призывают… Вот погляди газету: «с нравственным и умственным уровнем». Только знаешь что… Действительно призывают, и очень часто, но почему-то не говорят о тенденции этого уровня… Ведь и у грабителя тоже есть уровень, и у всякого мракобесца. Неграбительский-то уровень позволителен ли? вот в чем вопрос… Между тем эти неграбительские течения в русской жизни и в русской мысли ведь положительно необходимы в это время, когда такой простор течениям грабительским. А главное, этого течения идей искоренить-то нельзя. Они – не выдумка, а правда, и правда именно русской жизни. Я расскажу, как они захватили меня, например. Что я? Человек без определенных занятий, ничтожная капля общественного моря. А и в капле кое-что видно любопытное.
* * *
Отрывки из этих рассказов мы и хотим передать в последующих очерках.








