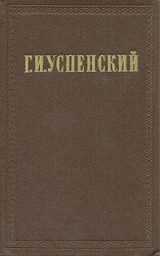
Текст книги "Том 4. Из деревенского дневника"
Автор книги: Глеб Успенский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
Всего Влас действительно получил 20 р. 23 к.
Вы уж знаете, что Влас 12 февраля 1878 г. расплатился с банком начисто, и все-таки чистого долгу за ним осталось не 20 р. 23 к., а 27 р. 50 к., [9]9
Вычитая из 58 р. 50 к. – 31 р. пая, который, при выходе Власа, пойдет в уплату.
[Закрыть]то есть гораздо больше того, что он взял в действительности.
Банк жес Власа взял за пользование этими действительнодолжными последним 20 р. 23 к. следующие капиталы:
В 1874 г … 2 р. 16 к.
В 1875 г … 2 р 34 к.
В 1876 г … 5 р 27 к.
В 1877 г … 5 р 27 к.
и 9 р 10 к пени.
Всего банком за 20 р. 23 к. взято% и пени 24 р. 14 к. Правда, Власу присчитали 8 р. барышей за 5 лет. Причислив их к 20 р. 23 к., окажется, что Влас получилиз банка 28 р. 23 к., а уплатил 24 р. 14 к., то есть почти все, что взял, и все-таки, в конце концов, за ним остается непокрытый долг, и притом больший, чем он брал, на семь руб., то есть 27 р. 50 к.
И таких мучеников – множество.
№ 35-й. Василий Костин.Декабря 31 1875 года он внес сразу 5 р. и занял (с поручителем) 20 р., уплатив 1 р. 20 к. (на руки получил 13 р. 80 к.). Июля 20 1876 года он 20 р. возвратил, но ему, по случаю рабочей поры, нужны были деньги, хотя рублей с 10. Чтобы получить их, он вносит якобы 20 р. в пай и получает 30 р.; из них он 2 р. 70 к. платит процент (стало быть, на руки получает только 7 р. 30 к., так как 20 р., будто бы внесенные в пай, вычитают из 30-ти). Долгу на нем образуется 50 р., которые он должен оплачивать по 1 к. за рубль ежемесячно, тогда как в действительности за ним только 21 р. 10 к. (13 р. 80 к. и 7 р. 30 к.).
И запутавшийся таким быстрым и несообразным образом Василий Костин – исчезает. «Ну вас к богу», – наверно произнес он, махнув рукою.
Объявился он через полтора года и платит 6 р. 75 к. пени да 4 р. 50 к. процентов.
Сентября 17 1878 г. он вносит еще 2 р. процентов.
В книге, по которой я цитирую, находится еще такое примечание: пропущено 1 р. 80 к., но я не вижу, в каком именно месте они пропущены, и потому в счет их не ставлю.
Всего, стало быть, № 35 заплатил банку: (1 р. 20 к. + 2 р. 70 к. + 4 р. 50 к. + 6 р. 75 к. + 2 р.) = 17 р. 15 к., а брал 21 р. 10 к. Прибыли он получил 4 р., стало быть, 12 р. заплатил он за 21 р. 10 к. и остается должным 25 рублей.
Товарищ № 244-го – № 243-й понес убытки точь-в-точь такие же, как и его сосед.
№ 31-й. Афанасий Задворнов.Членом с 1 января 1875 г.
Паю имеет 12 рублей.
Долгу считается за ним 28 р. (то есть 16 действительных).
Процентов и пени за три года заплатил 16 р. 47 к. или (вычитая дивиденд 5 р.) – 11 р.
Стало быть, уплатив из собственного кармана 23 р. (12 пая и 11 процентами) и все-таки оставаясь должным банку 28 р., он в действительности пользовался только 16-ю рублями.
И все это без всякого злоупотребления, прямо по уставу.
Не по уставу – только снисходительность, допускаемая правлением. Но спрашивается: что было бы с товариществом без этой снисходительности? На основании устава, оно должно было бы через первые же 9 месяцев по открытии быть закрыто, так как громадное большинство членов не могло внести всей суммы долга, вследствие чего необходимо было бы приступить к описи и продаже имущества. (Порядок этой продажи разработан в уставе довольно основательно.) Но возможно ли было пугать этой продажей только что народившееся товарищество? Как же могут после этого проникнуть в массу какие-нибудь облегчающие положение этих масс идеи, ежели тотчас по появлении этих идей будет следовать опись и продажа имущества? Необходимо было дать возможность установиться делу, окрепнуть, чтобы потом, согласно § устава, предоставляющего общему собранию ходатайствовать об изменении устава, перестроить начатое нехорошо дело на новый, лучший лад.
Но вот прошло пять лет, и дело остается в том же порядке. Долг вырастает над мучениками-страстотерпцами выше лесу стоячего. Кто справился – ушел; кто не справился (множество) – совсем не кажет глаз, пропав без вести, не платит и слуху о себе не дает. Но новый, неопытный человек, которого гонит нужда, все подходит со стороны, и число членов, несмотря на пропавших без вести и убравшихся подобру-поздорову, не уменьшается, а растет с каждым годом, и хомут товарищества никогда не остается праздным. Новые члены, идя на сию вольную страсть, возлагают его себе на шею точно так же, как и старые.
И представьте себе, что, несмотря на опыт, – безобразное положение товарищеских дел ежегодно то «единогласно», то большинством голосов утверждается общим собранием всех членов. На наших глазах в нынешнем (1878) году были отвергнуты два следующие постановления: 1) о том, чтобы процент с 12 был уменьшен на 8 или 9, и 2) чтобы выдача дивиденда производилась не по паям, а по количеству переплаченных членом процентов, и чтобы тот, кто ничего не брал, получал бы за свои деньги, как за заем, – столько, сколько товарищество платит в государственный банк, то есть 6 %.
Сказать, что эти предложения были действительноотвергнуты действительнымбольшинством, – было бы неправдой. Съезжается народу на собрание действительно много; в нынешнем (1878) году, например, были почти все 500 членов, но в числе этих пятисот едва ли найдется человек тридцать, которые бы смогли понять всю банковую механику. Достаточно было «знатокам» дела сказать, что при меньшем проценте не будет, мол, вам и тех 30-ти копеек, которые пришлось большинству получить за 1877 год, – чтобы 12 % остались в прежней силе. Предложение о действительно справедливом возврате переплаченных процентов было мгновенно уничтожено также «знатоками» дела, объявившими, что как только такое распределение случится, тотчас же будут вытребованы самые большие полные паи, а так как паи эти у мелких заемщиков, то, стало быть, немедленно же с этих заемщиков начнут взыскивать долги.
Толпа ворчит, покряхтывает, но слушает этих знатоков, действующих исключительно в свою личную пользу… Да как, собственно говоря, и не слушаться-то их? Что такое этот деревенский «знаток» или, правильнее говоря, нарождающийся и уже народившийся кулак? Это такой же еще недавно на памяти у всех серый, бедный мужик, как серы и бедны сотни ему подобных. И вот этот-то человек, почти при одинаковых условиях с соседями, сумел (очевидно, благодаря уму и даровитости) выбраться на божий свет, сумел устроиться лучше всех, сумел лучше всех одеться, завести хорошую скотину, сколотить деньгу. Всякий знает, что, чтобы выбиться из нужды, этому злодею надо было работать вдвое против своих собратьев. Собрат вот не поехал ночью на станцию – больно, вишь, темно и грязно, и волков боится, – а нарастающий кулак не задумался слезть с теплой печи и погнал лошадь в непогодь. У собрата ничего, а у нарастающего кулака 1 рубль. Нарождающийся кулак, несмотря на вьюгу и холод, встал в глухую полночь и повез хлеб в город; он двумя часами поспел на рынок раньше своих собратьев и взял дороже. А сколько надобно иметь твердости духа, чтобы отказаться от вина, чтобы не пить, то есть быть трезвым на всех этих сходках, праздниках и т. д.! Словом, всякий знает, что человек, достигший кулачьего звания, достиг его благодаря уму, твердости воли, выносливости, терпению и множеству других качеств, отличающих даровитого человека, качеств, какие есть не у всякого.
Каким же образом не слушать советов этого человека, который «сам» умел выбиться из нужды? Надо только слушать его одним ухом, – это тоже всякий знает, – такой человек, разумеется, будет гнуть в свою сторону всегда, но вот это-то и нужно изучить и узнать, как именно надо гнуть в свою сторону, играть себе в руку. Нет сомнения, что кулака давно бы сокрушили, сожгли, словом, извели; глухая злоба, касающаяся его возрастающего благосостояния, волнует его односельчан-неудачников; если же кулак продолжает здравствовать, продолжает расти, то этим он обязан исключительно только обаянию, которое производит его ум. «Знание» (чего бы ни было – все равно) и уважение к знанию, к уму – вот что дает кулаку право выматывать крестьянские животишки.
Другого направления уму и таланту – в деревне покуда нет. Нет и другого знания.
Итак, кулацкий ум и кулацкое знание всегда настолько сильны и основательны, чтобы если не убедить, то заставить замолчать небольшую кучку «пытающихся» рассуждать деревенских людей. А за этой кучкой стоит сплошная масса народа, который покорно, аккуратно, как машина, выносит на своих плечах тяжелое бремя и старых и новых порядков.
Благодаря этой-то массе знатоки дела, сидя сложа руки, получают из товарищества в буквальном смысле громадные дивиденды. Так, например, люди, у которых с основания товарищества был полный пай (50 р.), получили через четыре года по 50 р. барыша, а серый человек, заняв 12 р. 50 к. и заплатив за них в 4 года (по 1 р. 86 к. в год, считая на 15 р.) 7 р. 44 к., получил барыша много-много 1 р. 60–70 к., потому, во-первых, что из 8 р. пая (который он вносил каждый год по 2 р.) он два раза «ошибся», занес его после нового года, и четыре рубля, благодаря этому, не дали ни копейки.
В отношении распределения прибыли я мог бы представить примеры поразительной несправедливости, если смотреть на дело «по-божески», а не по-банковски. Но я думаю, что и того, что высказано здесь, вполне достаточно, чтобы дать ясное представление о том, что такое вообще наш деревенский банк и в каких условиях находится у нас так называемый мелкий кредит.
В конце концов выходит, что сельские товарищества не поглощают капиталов вовсе не потому, что господа капиталисты не предлагают их, а потому, что их нет возможности поглощать, благодаря ужасному уставу, который обставил дело мелкого кредита так, что от него, кроме величайших затруднений, величайшей тяготы для народа, ничего не вышло, да и не может выйти. Да, наконец, нам и не надо никаких господ капиталистов: у нас, у нашего товарищества, есть кредит в государственном банке на 15 000 р., а мы в 4 года взяли только 4000 рублей. Остальных мы не берем, так как очень хорошие барыши, в 4 года удваивающие капитал, можем получать, согласно уставу, просто так, зря, за ничто, то есть не давая плательщикам процентов почти никаких денег или давая вздор и получая за этот вздор целую прорву самых настоящих денег.
Непорванные связи *
«Лядины»
Всякому петербургскому ружейному охотнику должны быть хорошо известны те места, преимущественно в Новгородской губернии, которые называются лягами,или лядинами,куда господа столичные охотники ездят бить медведей, зайцев, лисиц, тетеревов, вальдшнепов, бекасов и вообще всевозможных зверей и птиц и откуда возвращаются в столицу, в большинстве случаев не пролив ни единой капли птичьей или звериной крови и не выпустив из своих превосходных ружей ни единого превосходного патрона, если не считать нескольких выстрелов в пустые бутылки от рейнвейна, опорожненные за завтраком и очень часто (надо отдать честь искусству господ столичных охотников) разбиваемые в мелкие дребезги на лету…
Господам столичным охотникам очень хорошо должно быть известно, что такие бесплодные, хотя и дорого стоящие, зкскурсии оканчиваются выстрелами в пустые бутылки вовсе не потому, чтобы в лядине не было ни птиц, ни зверей. Как известно, в противном уверяют охотников все местные обыватели-мужички, разделяющие с ними трудности экскурсии. Один, например, Родион Миловидов, сам видел целое полчище тетеревов в то самое время, когда барин, около которого он хлопотал, сидел в шалаше и ничего не видал. Если же Родион и не убил ни одного тетерева, то именно потому, что «поопасился»барина потревожить, «как бы, мол, не осерчали, зачем разбиваешь охоту, – а то тетеревей было даже до пропасти, вот это самое место». Зайцев, или, как говорят здесь, зайц ов, Иван Харитонов также настиг целую стаю, «хошь руками бери», да на грех у него ружье не далеко бьет и порох «крупен», «поопасился у господ увспросить пороху, а то бы, ежели бы с хорошим ружьем, так он одним ударом в клочья бы всю стаю расшиб; главная причина – ружье оченно неспособно… А кабы, ежели!»
Господам охотникам так же должно быть хорошо известно, что такого рода уверения, начинающиеся обыкновенно после полной неудачи и блещущие удивительной изобретательностью, хоть и страдают известной долею преувеличений, имеющих целью успокоить неудовлетворенных «господ», объяснив неудачу охоты только самыми незначительными случайностями («ружье не хватает», «поопасился вдарить» и т. д.), но не совсем лишены и некоторого правдоподобия, так как не только Иван Харитонов или Родион Миловидов видели «собственными глазами» и зайцев и тетеревов, но и сами господа охотники также видали – хотя, конечно, не в таких, как Миловидов и Харитонов, размерах – и тетеревов и зайцев. «Действительно, – подтверждает свидетельство Миловидова г. N***, – я самвидел тетерева… только ужасно далеко!» Г-н М. также видел и утку и зайца и стрелял, но не попал. Мало того: иногда во время этих разговоров, а иной раз именно в ту минуту, когда охота уж кончилась и охотники, отложив попечение о кровопролитии, начинают палить в бутылку, именно в эту-то минуту у кого-нибудь из них «из-под самых ног», в буквальном смысле, шумно взовьется тетерев, и – удивительно! – нисколько не спеша и не торопясь, умеет как-то тут же куда-то бесследно исчезнуть, пропасть у всех на глазах!
Такое очень частое появление «из-под самых ног» или «под самым носом» всевозможного зверья и птицы, наряду с собственными, также довольно частыми наблюдениями господ охотников и уверениями местных обывателей, несмотря на почти постоянные неудачи столичных охотников, продолжает удерживать за «лядинами» славу отличнейших для охоты мест.
И точно, есть здесь много всякого зверья и птицы; но отличительные природные свойства, характеризующие местности, называемые лядинами, дают ей полную возможность пропадать из-под носа и из-под ног. Даже подстреленную птицу или зайца иногда бывает очень трудно. а очень часто и просто невозможно разыскать, хотя и видно, куда она упала. Поминутно от местных охотников-крестьян слышишь: «вдарил я в него – только шерсть клочьями разлетелась; побег я, хотел уж руками брать, а он (заяц) очувствовался, прыгнул в прутняк, искал-искал-искал – нет! А уж верно, мертвый лежит где-нибудь!» Природные свойства ляти, так приветливо укрывающие зверя и в такое беспомощное положение ставящие человека, заключаются в следующем.
Лядины – суть громадные пространства лесных болот, перемежающиеся с незначительными более или менее сухими (но никогда совершенно не высыхающими) пространствами, едва-едва приподнятыми над поверхностью болот. Пространства эти, не исключая самых топких мест, густо покрыты довольно разнообразными породами леса – ель, сосна, береза, ольха, осина – леса, растущего в буквальном смысле, «как борода»: так же скоро и так же часто. Из каждого срубленного более или менее рослого дерева в тот же год целыми пучками начинает пробивать прутняк, густыми, непроходимыми стенами которого окружены все промежутки между рослыми деревьями, все пни, и которым непроходимо зарастают так называемые гари,места лесных пожаров.
В этих гарях прутняк (коллективное название всякой древесной породы, растущей тонким, длинным и ломким прутом), как щетка, лезет из мхов, из-под старых корней, опутывает громадные сгнившие, поваленные огнем и ветром и гнилью деревья, и вот здесь-то во всякое время года преспокойно полеживает и погуливает Михайло Иванович, твердо зная, что до него здесь никто не доберется. Здесь нельзя сделать шагу без звонкого треска сучьев, ломающихся и под ногами и в руках, которыми приходится раздвигать густой прутняк чуть не у самого носа. Сухие сучья от малейшего толчка, по сухому, кое-как еще держащемуся на ногах дереву, падают с треском вам на дорогу, загораживают путь, который весь пересечен массами наваленных друг на друга деревьев. Нога проваливается в гнилой пень, и, едва выбравшись из этой засады, вы попадаете в непроходимую топь. И гнилые деревья, и сухие сучья, и корни, и пни – все это обильно затянуто какою-то неустанно лезущею из болота растительностью мхов, болотных трав, цветов, ягод, каких-то грибных наростов, и под всем этим – вода, грязь бездонная, гниль мокрая, какой-то зацветший, заплесневелый студень, в котором можно увязнуть по уши, не в фигуральном, а в буквальном смысле. Такова гарь.
Не лучше и самая лядина. Там, где стоит негорелый лес, утопающий в прутняке, там точно так же, под всевозможною болотною растительностию, непроходимое болото, хотя здесь и можно кой-как пробираться, пользуясь обилием старых корней и сучьями. Но пространства между лесом и луговинами украшаются, во-первых, так называемыми «мокринками», то есть местами, где в сухую погоду нога вязнет только по щиколотку, а в мокрую по колено и выше; во-вторых – настоящими болотами, перебраться через которые иногда нет никакой возможности, так как лошадь тонет по брюхо, а тина так засасывает ступню, что человек рискует навеки остаться в трясине, а лошади вытаскивают ноги, оставляя в трясине подковы. Много в таких местах навалено хворосту, палок, бревен, неизвестно – облегчающих или затрудняющих дорогу в эти злачные места; но вообще пробраться туда – вещь весьма мудреная, и без проводника, который знает тропинки, летом пробраться трудно, а весною в апреле, мае – совершенно невозможно.
Самое лучшее время для здешних мест – зима: вся масса воды замерзает толстым, крепким слоем льда, который все увеличивается вследствие таяния снегов в оттепели, и какой бы ни был большой снег, всегда под ним нога отыщет твердую и ровную, как пол в комнате, почву. С весны начинаются «отпотины», потом целые лужи, потом лужи превращаются в реки; но сообщение во все это время еще возможно: еще не вышло днище,то есть еще цел низший слой льда. Но вот настали теплые апрельские дни – и тут для всех смертных, имеющих с лядиною какие-нибудь отношения, настанет роковая минута: днище начинает выходить. В эту минуту все, у кого за зиму не вывезено накошенное летом сено или нарубленные дрова, из всех сил бьются как можно скорее переправить их к большой шоссейной дороге. Лядина оглашается воплями, хляском бьющейся в воде, как рыба, лошади, шлепками мокрого веревочного кнута, раздающимися во всех углах громадного лесного пространства. Люди и скот выбиваются из сил, вязнут по колено, по пояс, по брюхо, по три, по четыре часа бьются на полверсте и кое-как добираются до двора, измучившись сами и измучив скотину. Наконец какой-нибудь из обывателей, весь мокрый с головы до ног, возвращаясь из лядины и проходя по деревне, свидетельствует своим видом, что «днище вышло!» Тут уж следует благодарить бога за то, что успели спасти, и отложить всякое попечение о том, что в лесу осталось столько-то сена и дров, обреченных лежать там до будущей зимы и, стало быть, гнить.
Кроме всех вышеуказанных сортов мокроты, лядины изобилуют многочисленными ручьями, которые летом хотя и пересыхают до того, что через них перейдет курица, если только не погибнет в густой траве, которою ручьи эти зарастают в изобилии, но все-таки по обоим берегам окаймлены непересыхаемой топью. Даже места, на которых косят траву, места сравнительно высокие – и там в траве постоянно блестит на солнце мокрота, вода; почва и тут гнется под ногою, как бы сухо лето ни было, и всегда, каждый год, благодаря этому обилию отовсюду просачивающейся воды, там, на этих сравнительно сухих местах, гниет масса сена. Словом, где бы нога человеческая ни ступила там, везде она тонет либо в гнилой кочке, либо в желтой и неароматической болотной трясине, либо вязнет в пышном, как губка напитанном водою, мхе. Каждый шаг, даже в самые сухие года, сопровождается чавканьем сапога на разные тоны, далеко отдающиеся в мертво-безмолвном лесу.
Вот это-то обилие всевозможных звуков, сопровождающих решительно каждый шаг человеческий по лядине – то глухим треском сухого пня, то звонкими переломами сухих сучьев, то хляском болотной воды, и шумом жидкой грязи, и неумолкаемым чавканьем сапога, грубо щелкающего на мокринках и глухо хлопающего на мхах, – это-то обилие звуков, весьма исправно передаваемых лесом в отдаленнейшие углы территории, и дает возможность обитающей лядину птице и зверю заблаговременно убраться подобру-поздорову от господ столичных охотников и их превосходнейшей доброты английских ружей. И зверь и птица за две и более версты слышат приближение столичного лакомки, и всегда имеют время – Михайло Иванович уйти в свою любезную гарь, а заяц, тетерев, рябчик тут же, поблизости господ охотников, забраться в прутняк и спокойно слушать разговоры о том, что хорошо бы попробовать новое ружье на какой-нибудь толстомясой тетерьке. Зимой, когда лядина замерзла и покрылась пушистым снегом, количество предостерегающих зверя звуков значительно убавляется; но зато всякий звук, даже шелест, простой разговор, шарканье спичек о спичечницу – значительно выигрывают в силе, благодаря удивительной тишине, царящей в лядине, удивительной неподвижности воздуха. Обилие прутняка умеряет самые бурные порывы ветра, рассекая волны ветра на миллионы ровно гудящих струй; а в тихие зимние дни, в особенности вечера, когда над лесом видна темная полоса тепла («лес надышал») – тишина здесь стоит заколдованная: за три версты слышен на деревне говор, и можно различить – бранятся ли, поют ли песни, или разговаривают; слышен лай собак, и деревенский житель, находящийся в лесу, узнает, чья именно лает собака. И опять хорошо зверю и птице.
– Так ты говоришь, – спрашивает столичный охотник местного проводника: – есть зайцы-то?..
– Зайц ов-то? зайц ов здесь – страсть!
Вот от этих-то разговоров и зайцы разбегаются заблаговременно.
Вообще «пропасть» из глаз, из-под ног и т. д., благодаря предостерегающим звукам, густоте и обилию прутняка, зверю в лядине нет ничего легче; но и человеку, говоря без всякого каламбура, ничего нет легче «пропасть» здесь, если бы только существование его зависело исключительно от ее природных богатств и свойств. Что здесь делать ему? Подо мхом, на самых сухих местах лежит тоненькая, в два вершка, прослойка земли, с грехом пополам удобной для посева; но толстый, непроницаемый слой глины, лежащий под этой прослойкой, делает занятия хлебопашеством весьма рискованными. В дождливое время хлеб вымокает от обилия влаги, в сухое – от непроницаемости слоя глины, которая задерживает влагу около корня хлеба и спаривает его. Сена здесь много, но массу его спаривают дожди и вечная, непересыхающая сырость. Вывозить его большую часть года нельзя – нет проезду. Кормить им скот тоже не всегда удобно по причине той же болотной сырой почвы. Овцы, например, от этой сырости болеют здесь какою-то странною болезнью: у них отрастают ногти длиной (как рассказывают) более полутора вершка, так что больная овца начинает ползать на коленках, не имея возможности ходить. Дрова, рубимые беспрекословно в господских, казенных и крестьянских дачах едва ли не всеми желающими, так называемое в настоящее время третье сословие (имеем, благодарение богу!) скупает охотно по рублю за сажень и, представив в Петербург, продает по пяти. Дрова – это самое легкое и выгодное, что доставляет человеку лядина. Правда, кроме сена и дров, лядина доставляет еще корье, то есть кору ивняка, употребляющуюся на дубление кож; но с какими страшными не только трудами, а прямо физическими страданиями достается этот продукт, равно как и добыча сена, – невозможно себе представить, не наблюдая этого дела лично.
С первых теплых апрельских дней обыватель, знакомый с лядиной, начинает замечать в ясные солнечные вечера на темном фоне леса какие-то движущиеся в воздухе кучки сероватых существ. Это – комары. В первое время поведение этих тварей весьма деликатно относительно человека и скота. Комар еще слаб: прилетит, сядет на руку или на щеку, воткнет свой нос в кожу, но проткнуть ее у него еще нет силы, он еще не справился. Но теплые дни становятся все чаще и чаще, и маленькая тварь размножается с необычайной быстротой; она уж запела, робко и слабо сначала, но с каждым днем это пение становится все звучнее и назойливей. С каждым днем серенькая тварь нарождается миллионами, начинает покалывать, пощипывать; человек начинает похлопывать себя то по руке, то по щеке. Еще день – комариное племя уже трубит, а человек начинает отмахиваться обеими руками; затем – глядишь – ни дышать, ни работать, ни смотреть на свет от этой до невозможности плодущей твари невозможно. Рабочим человеком овладевает ожесточение; он начинает ругаться нехорошими словами, бьет себя нещадно и беснуется… То же самое бывает и со скотиной: сначала она просто похлопывает себя хвостом по спине и по бокам, потом начинает бросаться из стороны в сторону, чуметь, реветь… Иногда заяц выскакивает из прутняка в каком-то безумном состоянии: уши у него разъедены и разодраны в кровь, и, выскочив на полянку, он ровно ничего не может сообразить. Вот минута, когда его подлинно можно взять руками, если бы человек сам не находился в том же, как и заяц, положении. Не спасают ни дым костров по ночам, ни чад зажигаемых нарочно для этого пней, ничто, до тех пор покуда кожа человека не загрубеет и не заструпеет до степени непроницаемости. Но едва человек приспособился к борьбе с комаром, как на смену его является слепень и за ним овод. Начинается новая война и прямо с кровопролитием. А затем появляются какие-то мошки, которые, по примеру своих предшественников, успевают вновь еще раз доказать здешнему обывателю, что «житья» для него в здешних местах, точно, «нету» никакого. Еще зимой картина молчаливого, точно глубоко спящего леса имеет нечто характерное и даже сильное по впечатлению, но летом просто-напросто – нет житья. В сухую погоду жрет тебя комар, слепень, мошкара, а в мокрую – боже мой, что за тоска здесь! – из-под мхов «булькают» какие-то пузыри грязи; какие-то птицы прилетят и начнут терзать вас унылейшими звуками: одна как будто уныло лает; другая, мрачно запустив свой нос в грязь, издает отрывистые, грубые и редкие, как погребальный звон, звуки; третья вопит жалобным голосом, похожим на голос плачущего ребенка… вопит без умолку, точно умоляет о спасении, точно кричит: «погибаю, погибаю, спасите… спасите». Нет, нехороши здешние места!








