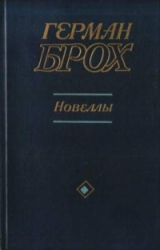
Текст книги "Новеллы"
Автор книги: Герман Брох
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Страх
© Перевод В. Фадеева
Бывают дни, когда мир напоминает обжитую комнату: небо – обновленный приятным колером потолок, горы – бело-зеленый рисунок обоев, и по пестрому ковру жизни вольно катится всякая игрушка под свою собственную мило-дурашливую музыку. Такими днями весна вклинивается иногда в глубь лета, а случается – и захватывает осень. Это дни детства, дожившего до старости, когда разбуженная память возвращает нам радость от первой игрушки, слитую с ощущением глубочайшего покоя.
На дворе был июль, и мне показалось, что выдался именно такой день – с наплывом необыкновенной неги, окутавшей мир облаком прозрачной мягкости, неосязаемо податливой и текучей, но все-таки невозмутимо устойчивой, как водная гладь в безветрие: какая-то бесчувственно-деревянная мягкость, никогда не угадаешь, что она несет – радость или печаль. Звон посуды был необычайно весенним, за окном заливались кузнечики. Роза с Каролиной сидели за столом и пили кофе. Обе одинаково юные и одинаково пожилые, обе пяти-и-пятидесятилетние, они степенно роняли в свои чашки обломки неспешного разговора, и, может статься, об их внебрачных детях был тот разговор.
По, когда я вышел из дома, день не показался мне таким уж славным. Хотя, конечно, он был полон света и тишины, а в тишине, как и следовало ожидать, все принимало особо трогательный вид, и можно было подумать, что на склонах горы мирно ютится сама добропорядочность человеческого жизнеустройства.
Но звуки долины, которые обычно уносились ввысь так легко и свободно, будто их всасывал голодный воздух неизмеримых пространств, изменили окраску, налились тяжестью. Нехотя и как бы по привычке отрывались они от земли, растекаясь в пределах, обозначенных душным сводом, – синева утреннего неба не вела в бесконечность, ома была именно пределом, подобием целлофановой пленки, натянутой между вершинами гор. И, отталкивая от себя плывущие снизу звуки, она словно становилась все более непроницаемой и упругой. Я начал вслушиваться. Звуки шли только снизу, наверху царило безмолвие, молчали даже птицы.
Прозрачная пелена держалась все утро, а к полудню уже стала чем-то вроде прочного синевато-свинцового купола.
Я шел в деревню вдоль берега ручья, огромной петлей охватившего долину с востока. В полях уже наливались колосья, трава просила второго покоса. В это время всякий, землей живущий человек, невольно переходит па шаг косаря, и руки его тоскуют по взмаху косы. Даже если они, как, например, у меня, заняты докторским саквояжем, даже если жизнь в этом человеке начинает свой ток от головы и наполняет его руки и ноги, повинуясь тяге земли, которая уже не метит в бесконечность своими зелеными побегами, но вбирает в себя самое бесконечность, впитывает ее, приберегает для зимнего покоя.
С наступлением жатвы человеку уже не нужно облекать свои мысли в слова. Да у него и нет никаких мыслей. Он просто идет по земле мерно-размашистым шагом косаря. Он всего лишь один из несчетного множества земледельцев, которые думают об одном и том же. А то, что они думают, – не более чем зов истомленной ожиданием земли. И я, шагающий по зыбкому пунктиру полевой тропы, то и дело поглядывал на небо, опасаясь, что свинцовый купол вот-вот рухнет на землю, притянутый ее жадным дыханием. Было еще тише, чем утром. Возле уступов, с которых маленькими водопадами сбегает ручей, слышалось негромкое клокотание, а наверху, где горные луга уже сменяются лесом, кто-то время от времени отбивал косу. Там чернели крохотные фигурки людей, иногда взблескивало лезвие косы или выделялось белое пятнышко рубашки.
Между ручьем, скрытым густым кустарником, и дорогой тянулась узкая полоса болотистого луга, заросшего калужницей и болиголовом, а местами попадались целые острова камышовых зарослей. Оттуда, из-за высокой гущи, слышались сабельный свист косы и отрывистое шуршание подсеченных и падающих стеблей. У обочины дороги рядом с плетеным коробом лежала синяя рубаха.
Это Венцель косил камыш на подстилку скоту.
– Утро доброе, господин доктор! – раздался его голос.
– Доброе утро.
Обнаженный торс Венцеля был безупречен, кожа отливала бронзой и была совершенно безволоса, зато руки, могучие и по-обезьяньи длинные, казались попросту мохнатыми. Он слегка опирался на черенок косы, такой несоразмерный его маленькому росту. На животе болталась кожаная кошелка с точильным камнем.
– Упарился, – сказал он.
– Понимаю.
– Вы бы тоже сняли рубашечку, господин доктор.
Лицо расплылось в довольной улыбке, как будто мое появление было встречено с восторгом. Он просто млел от чувства сердечного доверия, но чувство это было такого рода, что не оставалось сомнений: в любой момент оно может перейти в неприязнь или вражду. Передо мной стоял плут и палач в одном лице, весельчак и разбойник без роду, без племени; малый, которому можно поручить все что угодно. Например, восстановление старого горного завода и, уж разумеется, – травлю безобидного агента радиофирмы. Он смеялся, слизывая пот с верхней губы. И поскольку он сам заступил мне дорогу, я счел себя вправе выложить ему все без обиняков.
– Хорошо, что я встретил вас, Венцель… Скажите, что вы, собственно, замышляете против Ветхи?
Он уперся каблуком в холмик кротовой норы и начал растирать побелевшую от зноя землю. Потом выразительно вздохнул.
– Ну?
– И морока же с этим парнем, господин доктор, – ответил он сокрушаясь и таким полунаигранным-полуискренним тоном, что заставил меня все-таки рассмеяться: – Теперь он и с вами породнился.
– ?..
– Вы ведь его дочку заполучили?
– Ну, разумеется.
– А другая больна корью?
– Да.
– Вот горе-то, – голос его звучал сочувственно.
– Именно поэтому вы должны оставить его в покое.
– И кто его заставлял плодиться…
– Ну, это довольно распространенный обычай.
– Лучше бы этакое вообще не появлялось на свет.
– Чем бы вы его ни допекали, естества вам все равно не изменить.
Венцель обиженно надулся:
– Он сам всех допекает своими страховками и радиоштучками.
– А вам-то какое дело?
– Мне?.. Никакого…
– Но вы все время вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются.
Он отмахнулся.
– Господин доктор! Да я-то кто такой?.. Попросту никто… Люди, люди не выносят этого Ветхи!
– Да, но до сих пор он жил спокойно, стоило появиться вам…
– Мне?.. Но, господин доктор!
– Кому же еще? Может быть, Мариусу?.
Он поскреб пятерней голову.
– С Мариусом-то какая история.
– Да, – сказал я, – это уже другая история – когда вы по указке Мариуса подбиваете парней к бунту.
– Мариус ничего не указывает, – почти презрительно бросил Венцель.
– Что же он делает?
Тут Венцель всерьез задумался и не сразу ответил:
– Мариус просто говорит то, что другие думают.
– Вот как? Эту дурацкую затею с золотом тоже придумали другие?
– То-то и оно, господин доктор, то-то и оно.
На его лице вновь заиграла привычная веселость, но па уме, как видно, были слишком серьезные вещи.
Я посмотрел вверх, в сторону Купрона. Вот он высится, скрывая золото в каменном чреве, и держит на своих зубцах тяжесть свинцового неба, он, глыба земная, извергнутая землей и подпирающая небо, чтобы оно не было поглощено алчущей силой земли. Великан, а может быть, великанша. Этого уже никто не знает. А рядом со мной стоял шельмоватый карлик с косой. Он тоже был исторгнут землей и теперь скашивал ее зеленую поросль.
– Да, – сказал он, – люди должны делать то, что думают.
– То, что думает Мариус…
– Это одно и то же.
Трапп, свесив язык, улегся на горячую землю. Он глухо ворчал, как будто сердился на самые недра земные.
– Если вы делаете то, что думаете, – ответил я Венцелю, – вам не избежать близкого знакомства с жандармерией. Насколько я знаю, кое-кто, очень скорый на исполнение замыслов, с этим уже столкнулся.
– Жандармы тоже так думают. – Он хитровато подмигнул мне. – Так же, как и вы, господин доктор.
– Такими шутками, Венцель, меня не втянуть в игру. То, что вы собираетесь преподнести Ветхи, обыкновенная подлость. А насчет авантюры с золотом могу вас лишь предостеречь.
Я считал своим долгом сказать ему это. Но с большим удовольствием я вырвал бы у него косу и сам бы пошел косить. Этот до странности тяжелый, свинцовый воздух горячими потоками ходил в моих легких, и, даже хорошо зная анатомию, я не мог постичь в тот момент, как дышит мое тело.
Он снова надавил каблуком на кротовый холмик, осклабился и после некоторого раздумья сказал:
– Людям всегда подавай что-нибудь новенькое, вот и пускай себе позабавятся.
– А вы не замедлите объявить это спасением человечества.
– Я – нет…
– Ну, значит, Мариус.
Он снова сделал цинично-презрительный жест:
– Возможно.
– А вы будете находить в этом забаву… Это жестокое удовольствие, Венцель.
– Мир должен идти вперед.
Первобытной, угрожающей мощью веяло от Купрона, от застывшего буйства скал, теснящих свинцовую синеву неба, пронизанных миллиониожильной жизнью деревьев, кустов и трав. И вдруг все это обернулось ехидной угрозой старца, который стягивает с себя тонкие одеяния жизни, разводит руки, выставляя, как броню, омерзительную наготу своего тела.
– Мир должен идти вперед, – повторил карлик с косой в руках.
Да, он должен идти вперед, беспрерывно оспаривать чудовищную мощь нагого старца, теснить его самого, – того, кто жуткой наготой смерти попирает радость цветения. Измотать его, одолеть, вырвать у него тайну золота, чтобы он уже не смог подняться, и небо слилось бы наконец с истомленной землей.
– Да, – сказал я, – мир должен идти вперед, но, вероятно, не так, как вы полагаете.
– Это не суть важно, лишь бы шел, – засмеялся он. – Хочу вам кое-что показать, доктор.
Он подошел к плетеному коробу и откинул крышку: в куче травы и листьев копошилось не менее дюжины черных, с прозеленью, раков; все они шевелили клешнями.
– Здесь, в ручье, наловил, – пояснил он, – это для Кримуса. Лопает за милую душу. Он и сам-то вроде рака.
Трапп обнюхал корзину.
Венцель поднес рака к самой его морде.
– Это вот луна-рыбка, – сказал он.
– Лучше бы гонялись за раками, чем за золотом. Так было бы разумнее.
Он снова ухмыльнулся.
– Раков тоже ищут под камнями.
– Но ловить раков – более безобидное занятие, по крайней мере, не натворите бед. До свидания. И не вздумайте задевать Ветхи.
– Слушаюсь, господин доктор! – крикнул он мне вслед, и, когда я обернулся, он стоял в позе часового, и коса в его руках сверкала изогнутым лезвием, как тонкий полумесяц, дерзнувший светить в синеве полуденного неба.
Недалеко от деревни на знакомом покатом лугу я увидел Мариуса. Он, крестьянин и батрак Андреас двигались ровным рядом на одинаковом расстоянии друг от друга, слаженно работая косами. За ними следовали Ирмгард и крестьянка, движения их длинных вил были не столь стройны и свободны, они разметывали укос. Издалека Мариуса легко было спутать с крестьянином. Ирмгард махнула мне рукой, возможно, даже крикнула, но все звуки безнадежно вязли в отяжелевшем, ленивом воздухе. Они просто валились наземь, будто их тоже засасывала земля.
Деревня совершенно вымерла. Можно было подумать, что полдень встретился с полночью – до такой темноты сгустился свет безоблачного дня, славший волну за волной, подобно беззвучному барабанному бою. В узкой полосе тени у стены трактира распластался Плутон, положив морду между передними лапами. Похоже, и он сердился на то, что делается в глубине земли. Он окинул меня печальным взглядом, но не потрудился подняться хотя бы для того, чтобы обменяться собачьими приветствиями с Траппом. Сегодня им нечего было сказать друг другу, а то, что они и могли бы сказать, скрывалось в земной толще, на которую они глухо рычали. Нечего было сказать и фрау Сабест. Она сидела в пустом зале трактира, глядя куда-то в пространство.
– Думаю, сегодня в амбулаторию никто не придет, – сказал я, чтобы как-то начать разговор.
– Никто, – отозвалась она.
– Подожду грузовика с пивом. Может, подбросит.
– Да, – ответила она.
Минуту спустя сказала:
– Петер сегодня работает на бойне.
– Вот это новость. Теперь-то он увидит, что такое кровь?
– Так ему Венцель велел.
– Стало быть, он передумал заниматься торговлей?
– Мариус сказал, что все лавки с барахлом надо позакрывать… Дескать, здесь они нужны одним только бабам.
– Вот как. А вам как это понравилось?
– Муж доволен.
– Доволен и тем, что не будет мелочной лавки?
Она улыбнулась.
– Пока что в трактире полно народу по вечерам… крестьяне приходят посмеяться над Венцелем. Правда, драки пошли уж очень жестокие.
– В прошлое воскресенье имел возможность убедиться.
Вскоре появился Сабест. На нем был повязан забрызганный кровью фартук, сбоку, как шпага, болтался длинный мясницкий нож. Он подсел к жене, обхватив красными ручищами ее пышные телеса, она хихикнула. В безмолвии затянувшегося полдня это прозвучало неожиданно и странно.
– Значит, дело пошло в гору, Сабест?
– Да, – сказал он. – Мариус – мировой парень, другие теперь времена.
– Но сам-то он в трактир ни ногой.
– Не беда. Хватает и прощелыги Венцеля, он даже к Кримусу сумел подъехать.
– А Кримус доволен.
– Еще бы. Малый вкалывает, как лошадь, а кроме того, будет добывать золото.
– Но это чревато осложнениями.
– Кто станет перечить? Эти, из Верхней деревни, отступятся… они, как бабы, всего на свете боятся.
– Как раз этого-то я не заметил.
Он поигрывал лезвием ножа.
– А не отступятся, придется пустить кровь… такое нынче время.
– Неужели вы забыли войну, Сабест?
Он выпятил мясистую нижнюю губу, пряча за ней улыбку, а рукой продолжал тискать жену.
– Войну? Нет, войну я не забыл.
– Так как же вас понимать?
– Знаете, господин доктор, я много чего забыл, считайте, все забыл… но кое-что все же осталось, да, осталось – это когда пахнет женщиной.
Он замолчал и высморкался самым незатейливым способом.
– Надо, чтобы опять пахло женщиной… на то и кровь потребна… не только телячья и свиная… когда я работаю на бойне, я чую, подошвами чую, господин доктор, чего хочет земля… если ее не напоить, она и нам не даст силы, тогда на кой мы бабам нужны, тогда все пойдет прахом.
Он не смеялся, хотя и тужился рассмеяться, его лицо выражало неподдельный ужас, а рука, обнимающая женщину, уже не тискала чужую плоть, но искала опоры.
– Вон как сосет снизу-то, – сказал он, показывая глазами на пол.
На лине хозяйки тоже погасла улыбка. Она отвела руку мужа, положила ее себе на грудь и накрыла сверху своими ладонями.
– Это Мариус должен добыть для вас силу? – спросил я.
– Чему быть, того не миновать. Кому-то надо это делать.
Позднее – я уже поднимался к амбулатории – пришел грузовик с пивом. Гудок его был слышен издалека. А когда я стоял у окна, он показался у въезда в деревню, Скособоченная машина с пыхтением и лязгом переползала через бугры деревенской улицы. Это металлическое страшилище, оснащенное стеклянными глазами, сигнальными фарами, табличками и даже флагом, хранило в своей утробе холодный напиток для человеческих желудков. Оно остановилось у моих окон. Я услышал хрипловатый голос Сабеста, а потом – шум катящихся бочек. Сборы в дорогу не заняли много времени, и вскоре мы выехали из деревни. Три сочащихся потом человека ехали на тарахтящем чудовище, которое под нашей тяжестью лоснилось испариной и сильнее пахло маслом, жиром и бензином. Три человека на громоздком изделии рук человеческих двигались в неподвижном, как стоячая вода, послеполуденном мире; проезжали луга, истосковавшиеся по крестьянской косе и медленно втягивающие горячий воздух. А то, что еще не было поглощено землею, зыбилось над ней волокнами прозрачного глянца и, ждало своего часа. За нашими спинами, громыхая цепями, плясали пустые бочки.
Когда проехали третью часовню, я вышел из машины. Трапп лениво и даже как-то неловко прыгнул за мной. Мы с ним выбрали самый короткий проселок на пути к лесу. Я посмотрел вверх на отвесные скалы Купрона. Казалось, что это они виноваты в дрожании воздуха, потому что тоже напряженно подрагивали, совсем как человек, взваливший на плечи колоссальный груз и не желающий подавать вида, что ему тяжело. Воздух между стволами сосен тоже чуть зыбился, а рои комаров зависли почти неподвижно.
Ужинал я вместе с Каролиной и Розой.
– Расскажи сказку, – просил ребенок.
Каролина стала рассказывать:
– В давние-давние времена небо лежало на земле…
– Почему? – спросил ребенок.
– Потому что так эго было…
– Да, но почему?
– Потому что-это был рай, – вмешался я, – когда небо лежало на земле, получается ран, а люди ходят гулять по небу.
– Нет, – возразила Каролина, – тогда еще не было людей, сперва из земли вылезли великаны.
– Потому что небо легло на землю? – не унимался ребенок.
– Может быть, и поэтому, – ответила Каролина и задумалась. Вероятно, она размышляла о том, не великаны ли были первой на свете прислугой.
– Рассказывай дальше.
– Вот. И великанам не нравилось, что небо лежит на земле, они были злыми и ревнивыми, хотели, чтобы вся земля их была.
– А дальше…
– А дальше? Они взяли камни и начали класть их друг на друга и так высоко нагромоздили, что небо поднялось над землей.
– Да? И больше на ней нс лежало?
– Больше уже не лежало.
– Ему стало грустно?
Вопрос был Каролине неприятен.
– Может, да, а может, нет.», только из камней великаны сложили Купрон.
– И другие горы тоже, – добавил я.
– И небо уже не сможет спуститься?
– Нет, не сможет.
– Неверно, – рассуждал ребенок, – оно опускается ночью, когда никто не видит.
– Нет, – .быстро ответила Каролина, потому что думала о человеке, так и не пожелавшем вернуться из Америки.
– Иногда это все же случается, – сказал я.
Каролина недовольно посмотрела на меня.
– Иногда, – повторил ребенок с таким видом, будто припоминал нечто подобное.
После обеда я пошел в сад. Уже смеркалось, но не хватало привычного вечернего ветра. Сухой жар воздуха был неколебим. У забора вдруг появился Мариус. Он поздоровался.
– Мариус? Вы здесь?
Он кивнул.
– Кто-нибудь болен?
– Нет, господин доктор.
– Вы пришли ко мне?
– И к вам тоже… Вы сегодня говорили с Венцелем.
– Так вот зачем.
– Не только… я иду сегодня на гору, гора подала знак.
– Что она сделала?
– Пока ничего… но меня к ней тянет.
– Великолепно. Да вы хоть присядьте.
– Спасибо, господин доктор.
Мы сели на садовые скамейки, друг против друга. Я предложил сигарету. Нет, он не курит.
– Вы сказали Венцелю, что я будто бы замыслил недоброе, – начал он тоном вежливого упрека.
– Не знаю, что вы замышляете, я сейчас не о замысле, а об исполнении. Мне не нравится то, что делает послушный вам Венцель.
– Венцель, – произнес он раздумчиво. – Венцель – шут гороховый, но он знает, что делает.
– А что он делает?
– Чего люди хотят.
– То же самое и он мне пытался внушить. Но делает он то, чего хотите вы, Мариус.
– Крестьянин не желает иметь дела с золотом. С этим пора кончать.
– Но ради чего, собственно? Только не надо меня уверять, что вы довольствуетесь ролью наблюдателя.
– Ради справедливости.
– Под ней вы подразумеваете и травлю Ветхи?»
– При чем тут я… есть глас народа, а народ всегда прав.
– Знаете, Мариус, здесь мы расходимся в понимании справедливости.
– Лучше, если страдает один, чем все.
– Справедливость безусловна, она рождается из бесконечного.
– Нет, – сказал он, уставившись в землю, – справедливость рождается там. До нее можно докопаться так же, как до золота или воды. Все это едино и, в конце концов, тоже бесконечно… горы бесконечно громадны, земля бесконечно громадна, приложишь ухо – услышишь бесконечность.
– Слушать надо вот здесь, – сказал я и показал на сердце.
– Сердце тоже из земли. А раз оно бьется в земле, слышно все, чем она наполнена… Здешние, – продолжал он, – умеют слушать землю, все умеют, а Ветхи – нет… Вот и вся справедливость, господин доктор.
Он выпрямился передо мной во весь рост – две ноги, подпирающие мужской торс… грудная клетка, к которой крепятся руки, способные хватать и загребать землю, сжимать колдовской жезл кладоискателя; позвоночный столб с насаженной на него головой; отверстие, из которого летели фразы о справедливости.
Мариус расхаживал взад и вперед, и его длинный, но как бы подсеченный шаг был приноровлен ко взмаху косы. Поскрипывал гравий, стрекотали кузнечики, больше ничего не было слышно.
Мариус возобновил разговор:
– Слушать землю надо всем сообща, тогда будет справедливость… а тех, кто не хочет вместе со всеми, придется переломить.
– Вы хотите власти, Мариус?
– Да, ради справедливости.
Если бы хоть чуть-чуть дохнуло ветром, я бы не дал ему так разговориться; в его разглагольствовании звучала зловещая и придурковатая музыка, я ощутил это так же отчетливо, как и во время нашей первой встречи, но я не мог одолеть парализующую вялость. Ею был охвачен и вечер этого тяжелого дня, и даже слова этого человека, казалось, бессильно вываливались из одеревеневших губ, будто они с трудом просачивались сквозь тело, поднимаясь от ног к голове, и безвольно выплескивались наружу.
Тем не менее я нашел в себе силы сказать:
– Как будет выглядеть эта всеобщность? Как массовый поход за золотом?
Но он уже не слушал меня, он говорил:
– Правда…
– Что-что?
– Правда всегда уходит в землю… женщины это, они все время заглатывают правду.
– А разве женщины в земле, Мариус?
– Да… но они уже не отдают знание, которое успели заглотить… они дают только детей… надо отнять у них знание… они глотают-глотают, высасывают, но их веку приходит конец… они уже не могут слушать землю, потому что сами в земле, их век на исходе, их власть па исходе, земля больше не желает терпеть.
Я слышал много слов, они были знакомы, но непонятны мне. И все-таки в них был какой-то дурман: мне почудилось, что земля под нашими ногами дрогнула и поплыла вниз, не теряя своей неподвижности, стала погружаться в бездну того океана бесконечности, ночные волны которого медленно и бесшумно подступали к горным вершинам. Но наверху, на отвердевшем куполе неба тускло проклюнулись звезды, они тоже были мертвенно неподвижны.
– Гора зовет, – сказал Мариус и мгновенно исчез.
Я продолжал сидеть. Тьма стекала со скал. Нет, не стекала, а неподвижно разрасталась. Из горы лезла серебристо-черная борода, она так плотно заполняла собой пространство, что звезды, хоть их становилось все больше, вязли в темноватой мути и поглощались ею. Я старался различить голос каменного существа, позвавшего Мариуса, голос отца, зовущего к избавлению, но уловил лишь глухое бормотание мрака и мягкое, ползущее шевеление бороды. На сучья сосен и елей вскарабкались черные раки и сковали их бесчисленными клешнями так, что те не смели шелохнуться, даже не помышляя о спасении. Узким мутным лезвием над верхушками деревьев навис серп луны, он замер, изготовившись к покосу. Я тоже застыл в полной неподвижности, глядя вверх, в черную шахту бесконечности. Но где был верх, а где низ, и считалось ли пространство с моим взглядом, – я не мог сказать. Всюду абсолютная неподвижность глубины, не признающая ни вех, ни направлений; она вообще не допускает существования человека – мужчины или женщины, остается лишь некое знание как предельный общий знаменатель, изначально данный всякому человеческому опыту, но все же им не постигаемый.
Так я сидел в нарастающей неподвижности ночи. Серп луны снова скрылся за оцепеневшими деревьями, и пропал он задолго до того, как начался гром. Это был далекий и какой-то полузадушенный грохот, идущий со стороны Купрона. Гром из сновидения. Теперь он вырвал меня из сна. Я встал, чтобы разглядеть надвигающуюся тучу, и почувствовал, что теперь мне будет больно нагнуться, – как человеку, весь день пробывшему на сенокосе. Я вышел на открытое пространство дороги. Но тучи не было видно, должно быть, гроза стояла за Купроном. Едва я об этом подумал, как раскат повторился, и тогда мне стало ясно, что он шел не из-за горы, а из самой горы. Поначалу это был вкрадчивый, какой-то матовый шум, он незаметно переходил в разгульный грохот и резко, обвально замирал. Через мгновение посыпалась черепица с моей крыши, лес ухнул и со стоном затрещал, как будто настал его последний час.
И только тут я почувствовал, как под моими ногами ходуном заходила почва, и ощутил ту крайнюю степень беззащитности, какую испытываешь во время землетрясении.
Я кинулся в дом, в комнату Каролины. Там должна была спать и девочка. Включив свет, крикнул старухе: «Землетрясение, Каролина! Быстро в сад!» Зажженная лампочка маятником качалась из стороны в сторону, с потолка летели куски штукатурки. Я схватил ребенка и бросился к выходу. Но прежде чем я добежал до порога, последовал второй толчок, затрещали балки перекрытий, дверь распахнулась, в каминных дымоходах что – то с шуршанием осыпалось, снаружи снова донеслось звяканье упавшей черепицы. Входные двери заклинило, я напрягал все силы, чтобы открыть их, и был по-настоящему счастлив, когда с ребенком на руках наконец оказался на улице. Но как раз в этот момент все и стихло.
Роза, столь бесцеремонно разбуженная, хныкала в моих объятиях, а я соображал, что делать дальше. Можно было подумать, что по случаю землетрясения Каролина выбирает лучшее платье из своего гардероба, она так еще и не появилась. Снова идти в дом и тащить с собой ребенка я не хотел и оставить его одного на улице тоже не мог. Поэтому я несколько раз прокричал: «Каролина!» Разумеется, не получив никакого ответа. Все было тихо. Только лес еще немного потрескивал, как будто потягивался своими онемевшими ото сна членами. И действительно, кажется, лес стряхнул с себя дремотную неподвижность и пробудился от кошмарного сна. А издалека повеяло чем-то похожим на ветер.
Пока я ломал голову, силясь принять какое-либо решение, прибежал Ветхи.
– Что это было, доктор? – спросил он, дрожа всем телом.
– Надо думать – землетрясение… с вами что-нибудь случилось?
Нет, с Ветхи ничего не случилось, но разве я не слышал страшного грохота канатной дороги? Только после его слов я вспомнил резкий свистящий шум, слившийся с треском деревьев. Странно только, что это выпало из моего сознания. Но это, действительно, было.
– Скажите, Ветхи, вы успели вынести ребенка?
– Да, жена сидит с ним возле дома.
– Он закутан?
– Закутан, и очень хорошо… Можно идти в дом?
– Думаю, что уже… Вы присмотрите, пожалуйста, за Розой. Только не берите на руки, иначе наш карантин потеряет всякий смысл… Вы просто посидите рядом с ней.
Я усадил ребенка на скамейку и пошел в дом. Не исключено, что Каролину от испуга хватил удар.
Нет, оказалось, что удара не было и в помине. Она преспокойно спала в своей постели и, словно заранее предвидя ход событий, предусмотрительно не выключила свет. Возможно, она не понимала, что творится вокруг. II, наверно, в подобных случаях это самое разумное. Однако я не решился принести назад Розу.
– Побудьте немного здесь, – сказал я, вернувшись к Ветхи, – схожу наверх, успокою вашу жену и разузнаю, что делается-в деревне… Здесь люди приучены к таким встряскам.
И я поспешил вверх по горной дороге. Сначала я завернул к фрау Ветхи, сидевшей с малышом на руках. Ребенок был хорошо укрыт, в такую теплую ночь за него можно было не опасаться. Я снова пошел вверх по улице.
Во многих домах горел свет. В проулке я увидел горстку полуодетых людей. Они не казались слишком взволнованными. Подземные толчки здесь не в диковинку. Правда, сегодняшние были сильнее, чем обычно, а ночью все выглядит более зловеще, чем днем. Но здесь на это не обращают внимания. Как и там, в Нижней деревне. Я помню, это было осенью, четыре года назад. Тогда никто не выказывал ни малейших признаков беспокойства. Будут ли новые толчки? Нет, все уже позади. Конечно, гора поступает как ей заблагорассудится, но ее намерения можно угадать особым чутьем.
У меня оно тоже было. Воздух насыщался теплом, идущим снизу, из долины. Небо было усеяно мерцающими летними звездами. Чудесная, бестревожная ночь.
В Верхней деревне тотчас зажглись окна. Мне хотелось как можно скорее повидать мамашу Гиссон, но я был весьма удивлен, заметив возле ее дома фигуру Мариуса. Он стоял рядом с Матиасом-с-горы. Как мне показалось, между ними шел горячий спор. Причем масла в огонь подливал, конечно, Мариус, а не его рассудительней собеседник. До меня доносились слова:
– Ты слышал, Матиас, что сказала гора: час пробил.
– Да, – ответил Матиас, – гора кое-что сказала, она просила, чтобы ты оставил ее в покое.
Мариус был сильно возбужден, он чуть ли не рвал на себе волосы, на манер итальянцев, когда их переполняет отчаяние.
– Канатка оборвалась, – кричал он, – неужели ты не видишь в этом знака?
– Вот как? Канатная дорога оборвалась? – спросил я, подходя к спорившим. – А вы, Мариус, были при этом?
– Сам видел, как лопнула, видел, как вагон полетел в пропасть. – Его глаза бесновато сверкали.
И верно, ведь он пошел тогда в сторону канатной дороги. Может быть, поэтому я и не пожелал услышать шум крушения?
– Горе надоело держать дорогу, – спокойно ответил Матиас, – она прекрасно обошлась без тебя.
– Гора сделала предупреждение, – прошипел Мариус.
– Вот именно, – не уступал Матнас-с-горы, – она предостерегла вас, нижних… Она хочет, чтобы от нее отстали. Можешь передать это своим.
В проеме окна показалась мамаша Гиссон. Она слегка перегнулась через гущу горных гвоздик, пышной прядью свисающих с подоконника, и улыбнулась нам.
– И ты здесь, господин доктор? – сказала она. – И все оттого, что гора чего-то сказала.
Мариус полоснул ее взглядом.
– Мне она подала весть… Горы грозят, сама земля грозит… слишком долго испытывали ее терпение… прошло бабье время!
– Может, и правду говоришь, – мягко сказала мамаша Гиссон, – худые настают времена.
Мариус сверкнул белозубой улыбкой.
– Закрой-ка окно, мамаша, идет новое время, наше прозрение идет.
– Да, – ответила старуха, – этого, видно, не миновать.
– Шел бы ты спать, Мариус, – посоветовал Матиас-с-горы.
– Нет! – крикнул Мариус. – Лучше пой вместе со мной.
И он заголосил:
– Канатка сковырнулась – другие времена!
– Ну, чего молчишь? – спросил он, видя, что Матиас не собирается подпевать.
– Надо же так нализаться, – сказал Матиас-с-горы.
Мариус стал вдруг серьезным.
– Может, и так, – ответил он и повернулся, чтобы уйти. Но, сделав несколько шагов, снова затянул:
– Канатка сковырнулась – другие времена!
Люди, еще не успевшие разойтись по домам, смотрели на него во все глаза.
Матиас Гиссон рассмеялся:
– Вот дурень проклятый!
– Дурень-то дурень, – подала голос из окна мамаша Гиссон, – только теперь, видать, его время.
– А почему бы и нет, мамаша, – сказал я, – в Нижней деревне на него простаков хватает.
– Но гору ему не провести, – заметил Матиас.
– Гору – нет, а людей очень даже можно, – сказала мамаша Гиссон.
– А расплачиваться будет Ветхи, – предположил я.








